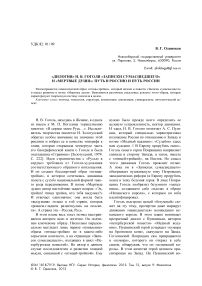"Дилогия" Н. В. Гоголя "Записки сумасшедшего" и "Мертвые души": путь в Россию и путь России
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается символический образ «птицы-тройки», который возник в повести «Записки сумасшедшего» и нашел развитие в поэме «Мертвые души». Выясняются различные смысловые аспекты этого образа, которые характеризуют творческую систему писателя в целом.
Поэтика, типология, структура, композиция, циклизация, универсализм, онтологический аспект
Короткий адрес: https://sciup.org/147218954
IDR: 147218954 | УДК: 82.
Текст научной статьи "Дилогия" Н. В. Гоголя "Записки сумасшедшего" и "Мертвые души": путь в Россию и путь России
Н. В. Гоголь, находясь в Женеве, в одном из писем к М. П. Погодину торжественно заметил: «В сердце моем Русь…». Исследователь творчества писателя И. Золотусский обратил особое внимание на значение этой реплики и избрал ее в качестве эпиграфа к главе, которая открывала четвертую часть его биографической книги о Гоголе и была озаглавлена «Странник» [Золотусский, 1979. С. 222]. Идея странничества с «Русью в сердце» требовала от Гоголя-художника соответствующего образного воплощения. И он создает бессмертный образ «птицы-тройки», в котором сочеталась динамика полета с сугубо национальной формой такого рода передвижения. В поэме «Мертвые души» автор настойчиво задает вопрос: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?» И отвечает однозначно: она могла быть «выдумана» только в той стране, которая «ровнем-гладием разметнулась на полсвета». А страна эта – Россия, Русь.
В этом плане весь текст поэмы выстраивается автором ясно и логично. Он подчинен ключевому образу. Несколько парадоксально выглядит лишь первое «появление» образа «птицы-тройки» не в каком-либо серьезном контексте, а на страницах «Записок сумасшедшего», входящих в цикл «Петербургских повестей». Но автор в данном случае последователен в развитии главной мысли, связанной с «птицей-тройкой». Ему нужно было прежде всего определить ее целевую устремленность, вектор движения. И здесь Н. В. Гоголю помогает А. С. Пушкин, который специально характеризовал положение России по отношению к Западу в поэме «Медный всадник»: «Судьбою здесь нам суждено // В Европу прорубить окно». Гоголь своего героя Поприщина направляет сначала в сторону Запада, а затем, вместе с «птицей-тройкой», на Восток. Но смысл этого движения Гоголь прояснит позже. А пока он в «Записках сумасшедшего» обыгрывает пушкинскую тему Петровских западнических реформ (в Европу прорубить окно) и тему безумия героя. В лице Попри-щина Гоголь изобразил безумного «западника», создавшего себе «идола» в образе «Испанского короля», с которым он себя идентифицировал.
Гоголь выстроил целый «безумный» сюжет на эту тему, прочертив даже маршрут движения «нашедшегося» неожиданно испанского короля. В этом плане возникает прозрачный диалог с Пушкиным, автором «петербургской повести» «Медный всадник». Пушкинский герой созерцает «кумира на бронзовом коне», скачущего на Запад. Гоголевский Поприщин сам превращается в «кумира», которого он открыл в себе самом, обнаружив, что он «испанский король». В этом качестве герой целиком ориентирован на Запад. На Пушкинский во-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 9: Филология © В. Г. Одинокое, 2013
прос: «…Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?» Гоголь дал ответ: конечно, в Испанию. А там, на берегу Атлантического океана, опустит он копыта, ибо дальше дороги нет. Итак, маршрут избран и зафиксирован: из Петербурга («через окно») в Европу, вплоть до Пиренейского полуострова, где Европа и заканчивается.
Проблемную ситуацию в этом предполагаемом движении создает безумие Попри-щина, который лично описывает путешествие и специально указывает на «средство передвижения». Гоголь, конечно, «играет» с читателем, подспудно выходя, по сути, на проблему «евразийства», которая прочитывается в безумном «Испанском дневнике» Поприщина. Вот характерная цитата: «Оставшись один, я решил заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай».
Выдвинутое Гоголем условие безумия героя не дискредитирует проблему, так как еще в «Послании к Коринфянам» апостола Павла было сказано: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано: уловля-ет мудрых в лукавстве их» (1 Кор. 3; 18, 19). Кроме того, подобная форма подачи материала объясняется спецификой гоголевского художественного метода, который можно определить как «фантастический реализм», дающий возможность автору увидеть и показать за банальной внешней оболочкой явления его глубинный смысл.
Далее рационально с точки зрения художественной структуры произведения обратиться к «средствам передвижения» по указанной автором довольно обширной евроазиатской территории. Учитывая «русскую тройку» в художественной перспективе авторского замысла, следует подчеркнуть, что движение на Запад осуществлялось По-прищиным не на «птице-тройке», а в обычной «коляске», в обычной европейской карете, в которой его повезли из дома. Гоголь не оставил без внимания эту важную в проблемном плане деталь и «заставил» героя записать в дневнике: «Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету (выделено нами. – В. О.)». Удивила героя в данной ситуации только необыкновенная скорость этого «летящего» экипажа, который, по идее, прочертит в воображении Поприщина и путь в Россию, но уже «оснащенный» волшебной русской «тройкой».
Нужно заметить, что «образ» экипажа вообще и коляски в частности у Гоголя имеет знаковый смысл. В составе «Петербургских повестей» есть повесть «Коляска». Она корреспондирует с экипажем, в котором Поприщин отправился в Испанию, и открывает путь «птице-тройке», меняющей вектор движения и направляющей внимание читателя с Запада на Восток. Итак, Гоголь выходит на тему Запада и на образ коляски, туда ведущий.
В «Петербургских повестях» обыгран образ Петербурга – «окна в Европу». От этого пункта и начинается путешествие По-прищина в «предоставленной» ему воображаемой карете (по сути, ничем не отличающейся от описанной «коляски») в Испанию, где ему, самозванному «кумиру», как бы заранее уготован трон короля. Вместе с коляской герой прибыл в Испанию, где и потерпел поражение его кумир, т. е. он сам – «горделивый истукан». «Убив» героя духовно и уничтожив в психологическом плане его «кумира», Гоголь подчеркнул ложность западнической идеи как таковой в процессе описания «путешествия» Попри-щина по территории Западной Европы.
Используя поэтический принцип «остра-ненности» («странности»), автор через призму «перевозбужденного» сознания героя дискредитирует вообще Запад, куда Россия упорно со времен Петра Великого прокладывала свой нелегкий путь. Характерно то, что путь в Европу обозначен маркированными художественными деталями негативного характера. Это воображаемое миражное движение нашло отражение в «испанской» части дневника Поприщина. Если попытаться привести его сумбурные записи в некий определенный порядок, выяснится следующий маршрут: движение начинается из Петербурга, где какой-то «цирюльник с Гороховой» намеревается обратить всех людей в магометанство (это уже явный намек на проблему «иноверия», очень важную для Гоголя).
Затем следует Германия, в которой «хромой бочар» из Гамбурга изготавливает очень плохую луну, рассыпающуюся от столкновения с землей. Здесь, по сути, предсказана геополитическая роль Германии в будущем, когда она превратилась в империю. Дальше следуют Англия и Франция, которым дана предельно отрицательная характеристика в целом. Заканчивается она словами: «Англичанин большой политик. Он всегда юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает». Последний пункт – Испания с ее порядками, сгубившими героя. Испания – это «конец» Европы, и в объективно-географическом, и в гоголевском проблемно-смысловом плане.
Таким образом, Гоголь демонстративно подчеркнул историческую тупиковость движения на Запад и перспективность ориентации на Восток. Это направление герой и собирается использовать в своих планах бегства из испанского «плена». Возвращается Поприщин в своих мечтах не через упомянутые страны, а через Средиземноморье, попадая на юг России. Изменение вектора движения порождает новые проблемные комплексы социально-общественного и духовно-философского плана.
Итак, начинается описание гипотетического пути героя в Россию. «Русь в сердце» не дает Гоголю покоя, и он формирует особую духовную ауру, которая расширяет смысл «возвращения» Поприщина на Родину. Возникает сакральная тема, тесно связанная с конкретным, забытовленным авторским повествованием. Прежде всего автором меняется «средство передвижения» и направление движения: перед взором читателя предстает уже не одноконная коляска, а экипаж с несущей его по свету волшебной тройкой резвых коней. И цель движения – не «горделивый» иноземный «истукан», идеал безумного Поприщина, а «Святая Русь», как ее трактует Гоголь в последней дневниковой записи героя, у которого, говоря словами Пушкина, «прояснились страшно мысли», и в финале первого тома поэмы «Мертвые души».
Герой повести молит о спасении («Спасите меня!) и обращает взор свой на Восток, куда уносит его воображаемая «тройка». Весь маршрут в Россию помечен Гоголем знаковыми фактами, событиями, предметами, деталями. Итак, последуем за героем по выбранному им маршруту. Первый этап отмечен такими деталями: «с одной стороны море, с другой Италия…». Совершенно очевидно, что путь героя проходит по Средиземному морю именно на Восток. Реально море оказывается справа, а Италия – слева. Далее в этом направлении следует Турция и выход в Черное море. А это уже родная земля – Украина. Заметим, что в этом маршруте зашифрована авторская религиозная, «христианская мысль».
Знаковыми элементами в системе повествования являются географические пункты. Упоминание Италии должно вызвать в воображении читателей образ «вечного города» Рима. У Гоголя и в этом плане есть «подсказка»: цикл «Петербургских повестей» заканчивается повестью «Рим». Это нужно учитывать особо, так как далее по маршруту следует магометанская Турция, которую герой проскакивает незаметно. Но на этом пути возникает в воображении такой исторический город, как древний Константинополь. А в христианской истории он обозначен как «Второй Рим». Вольно или невольно в ассоциативном ряду логично оказывается и образ «Третьего Рима», коим провозглашена была в свое время Москва. Но Москва тесно связана со стольным градом Киевом, «откуда есть пошла Русская земля». Гоголь остановил движение своего героя где-то на берегах Черного моря. Автор только в «подтексте», в ассоциативном плане программирует идею Москвы – «Третьего Рима». В целом эта идея проступает весьма четко, если принять во внимание роль украинского Запорожья в утверждении «истинной христианской веры», апофеоз которой и представлен «Третьим Римом».
В статье Гоголя «Взгляд на составление Малороссии» и в повести «Тарас Бульба» эта роль особо подчеркнута. Гоголь-историк усмотрел истоки движения против «иноверия» в глубокой древности. В названной статье он писал: «Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век!» [Гоголь, 1994. С. 152]. Далее он говорит о возникновении и исторической роли украинского казачества: «Если не к концу XIII, то к концу XIV века можно отнести появление казачества», в котором, по мнению писателя, можно было увидеть «зарождение политического тела, основание характерного народа, уже в начале имевшего одну главную цель – воевать с неверными, сохранять чистоту религии своей» [Там же. С. 158, 159]. Подводя итог, Гоголь выдвига- ет фундаментальную мысль относительно исторической роли сформировавшегося «характерного народа» в проблемной ситуации «Восток – Запад»: «И вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежащий Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский – народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию – и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование» [Гоголь, 1994. С. 160]. Статья эта была написана в 1832 г., затем вошла в сборник «Арабески» (1835 г.) и по внутренней творческой логике оказалась в этом цикле рядом со статьей «О малороссийских песнях», создание которой относится к 1833 г. Вместе они идейно предопределили целый комплекс проблем и идейно-художественную тональность повести «Тарас Бульба», первая публикация которой относится именно к 1835 г.
Гениальность «подпольной мысли» Гоголя, контурно проступающей в «Записках сумасшедшего», заключается в ее масштабности, в том, что придуманный писателем литературный герой, занесенный своей сумасшедшей фантазией на юг России и пренебрегающий всякой реальной жизненной конкретикой, объективно, «логическим» путем дошел до мысли о великой роли православно-христианской России («России-тройки») в духовном спасении человечества, по крайней мере в пределах того пространства, которое простирается, по мысли Поприщина, от Испании до Китая. В этом плане имеет смысл вспомнить текст «Тараса Бульбы», оформленный как «несобственнопрямая речь»: «…Придет время, будет время, узнаете вы (враги «иноверцы». – В. О. ), что такое православная русская вера!» [Одиноков, 2010. С. 82]. Такой поистине шекспировский диапазон проблемно-художественного мышления Гоголя следует особо подчеркнуть, чтобы по-настоящему оценить значение его художественных созданий в контексте мировой литературы.
Но это еще не все. «Птица-тройка» в гоголевской интерпретации продолжает свой путь. Уже в Испании она заменила обычную дорожную «коляску», на которой Поприщин «прибыл» в эту страну. Далее, в России, уже не в «Записках», а в грандиозной «Поэме» открывается новый участок символического пути «тройки» и новый условный пассажир. Но образ «коляски» не исчезает. Ее земной облик корреспондирует с летящей и обгоняющей ее тройкой. Коляска возвращает нас к «Петербургским повестям», на страницах которых родилась и птица-тройка. Далее она появляется в «Мертвых душах». Чичиков у Гоголя путешествует в царстве «мертвых душ», реальном и фантастическом одновременно, на той же придуманной писателем коляске, которая изображена как своеобразный феномен в соответствующем произведении, входящем в ансамблевую структуру «Петербургских повестей».
Гоголь «дискредитировал» образ коляски, его символический аспект, еще до того, как на ней начал свое путешествие Павел Иванович Чичиков, сочинив анекдотическую историю (рассказ «Коляска») с «необыкновенным» героем – помещиком Пифагором Пифагоровичем Чертокуцким, который спрятался от незваных гостей в каретном сарае, в злополучной коляске. Коляска другого героя, Чичикова, в анекдотическом плане «повторяет» знаковый образ экипажа Чертокуцкого. А облик Пифагора Пифагоровича высвечивает и образ Павла Ивановича Чичикова, сливающегося со своей собственной коляской и как бы повторяющего в трансформированном, разумеется, виде анекдотическую историю Чер-токуцкого.
Гоголь в своем творческом сознании отделил феноменальный повторяющийся образ коляски от той символичной «Тройки», которая, «перейдя» из «Записок сумасшедшего» в поэму «Мертвые души», становится символом России, несущейся в «светлое будущее». Коляска Чичикова продолжает плутать по просторам России, а Россия («Птица-тройка») летит в будущее, «вдохновленная Богом». И перед ней расступаются и дают ей дорогу «другие народы и государства».
Гоголь, очевидно, хотел соотнести путь Чичикова с вектором движения «Тройки». «Коляска» и экипаж, запряженный конной «Тройкой», существовали и в творческом воображении автора, и в его законченных литературных созданиях параллельно и одновременно, располагаясь в едином идейно- поэтическом пространстве. Авторские размышления о чичиковской коляске и о символическом значении поэтического образа «Тройки» имели одно направление.
Гоголь, как известно, хотел в процессе повествования и развертки сюжета чичиковскую «личину» заменить на постепенно открывавшееся «лицо», через которое просвечивал бы отраженный в нем христианский Божественный «Лик». Но художник – реалист, как мы знаем, не смог создать завершенную трехчастную поэму о духовно воскресшей личности. Однако вера писателя в мощный духовный потенциал России не исчезла. «Птица-тройка» продолжала свой мощный полет. Подкрепляя свою веру и потенциальных читателей его произведений, Гоголь пишет «Размышления о Божественной Литургии», три части которой соответствуют проблемной ориентации автора, пытавшегося написать три части поэмы «Мертвые души». Он хотел еще раз подтвердить правду «Птицы-тройки», руководимой Божественной волей. Пафосное утверждение роли России в движении человечества к Божественному откровению смысла жизни подчеркивается лирическим пассажем в финале первого тома «Мертвых душ».
Поэма о России и ее духовном пути, несмотря на всякого рода сложности, состоялась. Но в этом пункте возникает проблемный вопрос: а как проявляет себя в концептуальном плане Гоголь – сатирик и реалист, основоположник «натуральной школы»? Изображая пути России в будущее, Гоголь предусматривал два подхода к проблеме: религиозно-этический и социально- исторический. В настоящее время наши литературоведы более склонны к рассмотрению гонимой ранее философско-религиозной проблематики. Но в этом случае уходит из поля зрения социально-общественная тематика. А она у Гоголя никогда и никуда не исчезала и носила даже политический оттенок. Достаточно в связи с этим вспомнить непростую театральную судьбу «Ревизора». Вопрос заключается в том, как в идейном плане контактировал Гоголь с революционно-демократическими и социально-утопическими теориями, окружавшими его со всех сторон и исходившими как от оппонентов, так и от друзей – единомышленников?
Социально-общественный анализ действительности был у Гоголя на первом плане.
Так, например, характеризуя одного из персонажей повести «Невский проспект», Гоголь пишет: «Но прежде нежели мы скажем, кто такой был поручик Пирогов, не можем кое-что не рассказать о том обществе, к которому принадлежит Пирогов». А в 11-й главе «Мертвых душ» характеризуется вся Россия как социальный и духовный феномен: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека, тебя вижу: бедно, разбросано и неприютно в тебе…»
Из такого положения русские революционные демократы предлагали решительный выход – радикальное преобразование общества, полную «перемену декораций», как формулировал эту проблему Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?». Автор романа видел эту перемену в утверждении принципа социального равенства. Чернышевский пишет: «Господин стеснен при слуге, слуга стеснен перед господином; только с равным себе вполне свободен человек. С низшим скучно, только с равным полное веселье…». Снимает это противоречие, по мнению Чернышевского, принцип, который им формулируется так: «равноправность» [1975. С. 283].
Автор романа как бы в качестве примера рисует картину «бала», иллюстрирующую утопическую идею упомянутой «равноправности», которую он только что теоретически утвердил: «В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. “И бывает, когда приезжают гости, – говорит светлая красавица, – бывает и больше”. – “Так что ж это? разве не бал? Это разве простой будничный вечер?” – “Конечно”. – “А по-нынешнему, это был бы придворный бал, так роскошна одежда женщин, да, другие времена, это видно и по покрою платья”» [Там же. С. 283]. Дальше следует пояснение: «У них вечер, будничный, обыкновенный вечер, они каждый вечер так веселятся и танцуют…». А энергия веселья возникает у них потому, что «они поутру наработались». Такова в общих чертах картина будущего состояния общества, которое прогнозируется Чернышевским. «Бал» в этом контексте смотрится как «венец» будущего гармоничного состояния общества.
Сейчас самое время задать вопрос: а как видится возможность такого рода единения «антагонистических» слагаемых общества в будущем, если принять во внимание произ- ведения Гоголя? Нужно сразу заметить, что писатель не создавал социальных утопий, веря при этом в «светлое будущее человечества». В данном пункте он и разошелся с радикалами и революционерами. В этой связи следует обратить внимание на драматургический «фрагмент», который Гоголь озаглавил «Лакейская». Значение этой пьесы определяется прежде всего тем, что она входит в ансамблевое сочетание с комедией «Ревизор» и может быть охарактеризована как «маленькая комедия», наряду с другими аналогичными гоголевскими комедиями, из которых наиболее известны «Женитьба» и «Игроки» [Одиноков, 2012]. Она представляет социальный портрет «лакейского общества», и в этом плане является «зеркалом», в котором отражается «кривая рожа» современного Гоголю социума.
Но что особенно поражает взгляд исследователя, так это тема «бала», который собираются организовать представители «лакейского общества». Демократическая «утопия» у Гоголя в пьесе как будто торжествует и обретает даже праздничный вид. В этом плане утопия Чернышевского может гипотетически представляться своеобразным продолжением сочинения Гоголя, тем более, что тема демократического, общенародного «бала» имеет особое значение и для Гоголя, и для Чернышевского. Но парадоксальным моментом в данном случае является то, что за несколько десятилетий до появления утопии Чернышевского Гоголь создал не вариант утопии, а пародию на утопию. Тема «бала», которая получила у Гоголя комедийную окраску, явилась своеобразным идейным центром в картине будущего состояния общества в романе Чернышевского.
Гоголь-сатирик увидел ясно всю «лакейскую» Россию и сатирически заклеймил ее «верхи» и «низы». Сочувствие к «униженным и оскорбленным» в «Лакейской» сменяется иронией. Он осуждает «идиллию» лакейского общества, в котором, как утверждали революционеры-марксисты, «каждая кухарка может управлять государством». Гоголь понял, что «лакейство» - социальноисторический феномен, который одинаково функционирует как «наверху», так и «внизу». Это было показано в комедии «Ревизор», где лакейство переходило всякие границы: «фитюлька» Хлестаков вдруг превратился в «генералиссимуса», т. е., по сути, в «кумира». А в пьесе «Лакейская» все плебейское общество «прыгнуло» в мир «благородных», не утратив своих «подлых» мыслей и привычек. Так, например, в лакейском обществе очень внимательно обсуждался вопрос, будут ли на предполагаемом балу кучера, от которых «воняет» навозом.
Утопической идее «глобальной демократизации» здесь произнесен смертельный приговор. Но не растушевалась и не обескровилась при этом мысль о «светлом будущем», заключенная в идее «народа-Богоносца». И в этой ситуации Гоголь закономерно выбрал народный образ «птицы-тройки», уносящей сознание повествователя и читателя в область, отмеченную знаками Божественного внимания. В «Мертвых душах» «птица-тройка» появилась как указатель пути к социальному и нравственному совершенству. Другого пути Гоголь не предполагал. Скепсис Гоголя в отношении демократической «перемены декораций» был исторически оправдан и подтвержден теми событиями, которые сохранили свою актуальность и смысл до сегодняшнего дня.
Гоголевская социальная утопия основывается на «вере» в будущее, но не представлена автором в иллюстративной форме, так как сущность этой веры религиозная, что и проявляется в специфическом образе и направлении движения «птицы-тройки», которая в финале «Мертвых душ» управляется высшей, Божественной силой: «... мчится вся вдохновенная Богом». В этом вихревом движении куда-то незаметно исчезли и По-прищин, и Чичиков, сменились кучера, и образ «тройки» трансформировался в образ «Руси»: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься?..» Завершается этот лирический монолог словами: «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постарани-ваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
В данном случае становится ясно одно, что вектор движения направлен на Восток. На Пушкинский вопрос, заданный в поэме «Медный всадник» («Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?»), получен ответ, обусловленный новой эпохой. Сейчас очевидно, что, напрягши «медные груди», кони - символ России - опустят ко- пыта где-то на берегу Тихого океана. Гоголь, таким образом, подобно Пушкину, от изображения безумной личности прочертил путь к важнейшим геополитическим проблемам современности. Но руководила Гоголем в данном случае «мысль религиозная», связанная с духовным обликом не только нации в целом, но и с отдельной личностью.
Личность у Гоголя попадает одновременно и в зону социально-политических, общественных отношений, и в зону религиозной духовности. Конфликтная ситуация в этом контексте выглядит у писателя как «потрясение» и «религиозное спасение». Теоретически такая проблема утверждается Гоголем в его рассуждениях о творчестве великих русских художников – К. Брюллова и А. Иванова. Он подчеркнул «катарсис», связанный с «Явлением Христа народу», который сменил ужас и потрясение, запечатленное К. Брюлловым в его картине «Последний день Помпеи». Религиозная идея Гоголя выглядит в этом плане как руководящая, направляющая все разнообразие художественного материала в одно религиозно-философское русло. Идея эта отразилась и в той «линии», которую прочерчивает «птица-тройка».
«Птица-тройка» ассимилирует разбросанные по разным гоголевским текстам религиозные элементы и сводит их в одной проблемно-смысловой точке – в понятии Божественной основы мира. Духовно-нравственный финал первого тома «Мертвых душ» возник на основе размышлений Гоголя, которые воплотились в «Ревизоре», в «немой сцене». Драматург представил, по сути, такую картину России, которая обличала все административное устройство страны и носителей власти в этой стране. Недаром, как свидетельствуют исторические источники, император Николай I перенес сатиру Гоголя и на собственную персону.
В этом пункте возникает крамольная мысль: а нельзя ли при постановке комедии в современном, принципиально «обновленном» «Московском театре Н. В. Гоголя» модифицировать финал и, поступив несколько кощунственно по отношению к историческим реалиям и великому автору, вывести в конце на сцену фигуру «бойца», который оборвет всю эту «административную канитель», способную продолжаться бесконечно долго. Нет, это не элементарная балаганная шутка. Перед Гоголем стояла проблема финала. И не выдвигая никакой реальной альтернативы создавшейся ситуации, он заканчивает комедию художественным аккордом религиозного характера.
Конечно, в бытовом плане никакого сакрального элемента не наблюдается. Появляется только фигура «реального» ревизора. Но его функциональная роль особая. Это Гоголь сам подчеркивал в комментирующих пьесу материалах. Характерно, что социальная сатира Гоголя завершается, по сути, сценой религиозного характера. «Настоящий ревизор» – это «перст Божий». А немая сцена является следствием присутствия внезапно возникшего в воображении персонажей «Божьего Лика». Он возникает тогда, когда все замолкают и наступает знаменательная пауза. Молчание в данном случае – это «безмолвная молитва». Расшифровку подобного рода ситуации мы находим в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Там в финале, как известно, «народ безмолвствует». Это безмолвие – следствие «ужасных потрясений» («Народ в ужасе молчит»). Наступает духовный «паралич», который ликвидируется «безмолвной молитвой». Пушкин аналогичную ситуацию описал в поэме «Полтава», подчеркнув при этом реакцию народа: «За упокой души несчастных безмолвно молится народ». Значение безмолвной молитвы Гоголь расшифровал в «Размышлениях о Божественной Литургии»: «И безмолвным молением, соединяясь с молением втайне своего пастыря, молится весь народ о всех и за вся, присоединяя, каждый от себя, в эту минуту всех, поименно, им знаемых… И когда совершится, наконец, это глубокое безмолвное моление всех и о всех, и хор поющих возгласит: “И всех и вся”, тогда громко возглашает Иерей: “И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, Отче и Сын и Свя-тый Дух, ныне и присно и во веки веков”». [Размышления…, 1990. С. 94–95].
Молчаливая молитва провоцирует в поэтическом плане возникновение духовной атмосферы, в которой рождается предощущение присутствия Божественного Духа, Божественного Лика. Конечно, нужно учитывать, что Гоголь создает комедию. Но религиозная подоплека «Немой сцены» в «Ревизоре» не дискредитируется при этом.
Присутствие «Лика» в финале - это не только знак высшей справедливости, но и предощущение наказания Божьего за величайший грех - сотворение «кумира», представшего в образе Хлестакова - «генерала - генералиссимуса». «Движение к Богу» у Гоголя было уже запрограммировано в «Ревизоре», а в «Мертвых душах» оно предстало в образе «Птицы-тройки».
Но начало этого движения относится к «Запискам сумасшедшего». В «Ревизоре» уже обнаружилась религиозная подоплека социально-общественной сатиры. Явление «Лика» об этом свидетельствует. Все отмеченные фазы идейно-художественного проекта Гоголя привели его к созданию своеобразной социально-обличительной поэмы, в которой в поэтическом плане была представлена идея «народа-богоносца», воплощенная в движении «птицы-тройки», вдохновляемой Богом. В этом пункте важно обратить внимание на вопрос: а кто конкретно управлял «тройкой», кто ею руководил?
Управляли, конечно, ямщики («садись, мой ямщик»; «и не в немецких ботфортах ямщик»). Но руководили, по идее автора, разные «субъекты». Начинается движение, как уже сказано, под «руководством» безумного Поприщина. Парадокс заключается в том, что представитель «лакейской» среды отправился на «тройке» в правильном направлении, предусмотренном историей, -в Россию. Но довезла она его только до юга России. Сюжетно повесть о Поприщине была завершена. Но «птица-тройка» породила особую концептуальную «модель», связанную с судьбой всей России, с проблемой спасения ее в духовном плане от грозящих «потрясений», которые потрясали ее и ранее, начиная с древности.
«Птица-тройка» продолжает движение в поэме Гоголя. Но уже без прежнего героя. Седок сменился. И теперь, очевидно, это просто русский человек: «И какой же русский не любит быстрой езды». Теперь на «тройке», по мысли Гоголя, мчится олицетворенная «Россия». И перед ней расступаются и дают ей дорогу другие народы и государства. А расступаются они потому, что «Россия-тройка» «летит вдохновенная Богом». Теперь посмотрим, в какой логической последовательности располагаются эти не просто «отрезки пути», а этапы, осмысливаемые автором как типические, имеющие религиозно-философский смысл.
Трактовка Гоголем характера движения «тройки» выявляет два принципа видения мира, которые условно можно определить терминами «от скудости» и «от полноты». Эту терминологию предложил религиозный философ П. Флоренский в своей работе «Иконостас», в которой рассматривает отмеченные две точки зрения на мир. Он утверждает, что их онтологическая противоположность «лучше всего характеризуется противоположением слов личина и лик » [1996. С. 433]. Между этими понятиями, отмечает философ, стоит лицо , которое имеет тенденцию трансформироваться в лик . Объясняя логику такого перехода, Флоренский указывает, что в Библии существуют понятия «образ Божий» и «Божье подобие». «Образ Божий - это онтологический дар Божий» [Там же. С. 434]. Под Божьим подобием следует понимать потенцию, «способность духовного совершенства», возможность воплотить это подобие «в жизни, в личности, и таким образом явить его в лице ». А когда в лице обнаруживается пробившаяся «через толщу вещественной коры» энергия образа Божьего, оно становится ликом . «Лик есть осуществленное в лице подобие Божие», - заключает свои рассуждения П. Флоренский.
Онтологический смысл образа «Тройки» и ее движения как раз и раскрывается в системе обозначенных выше понятий. Если проследить с указанной точки зрения движение «Тройки» в системе рассматриваемых гоголевских художественных текстов, можно заметить, что вначале провиденциально-религиозная миссия «Тройки» зашифрована и предстает в форме «личины» в записках безумного Поприщина. Но в поэме «Мертвые души» «личина», «маска» оказывается сброшенной и проступает истинное «лицо», каковым является народ как целое («мысль народная»). «Знать у бойкого народа» могла она только родиться, в стране, именуемой «Россия», в которой проживает «народ-Богоносец». В этой атмосфере и возникает ощущение присутствия «Лика», который постулирован повествователем-нарратором («несется вдохновенная Богом»). Гоголь представил текст как семиотическую систему, в которой частности осмысливаются в тесной связи с предлагаемой писателем «универсальной моделью» мира.
Авторская презентация «Тройки» связана еще с одним намерением: показать в обо- значенном плане «лицо России», создать широкую, энциклопедически всеохватывающую картину жизни. Структурно-смысловое движение «Тройки» можно представить как первоначальную своеобразную форму литературного жанра «путешествия». Можно даже сказать, что это отчасти «путешествие из Петербурга в Москву».
Поприщин начинает свой путь из Петербурга, а попадает, по сути, в Московию, в «Третий Рим», коим является Москва. В «подтексте» описания маршрута путешествия Поприщина просматриваются произведение А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и скорректированный ответ А. С. Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург». В этих произведениях оба писателя смогли сказать все, что они думали о России. Гоголь в новых исторических условиях расширил географическое пространство. Он отправил своего героя из Петербурга сначала в Европу, а потом повернул его по главному направлению – на Восток, пересадив из «кареты» в колесницу, запряженную лихой «тройкой», которая и доставила его к «родной матушке». Так можно назвать и Москву, вспомнив известную «формулу»: «Москва – городам мать», которая всплыла в памяти Л. Н. Толстого, запечатлевшего это определение на страницах «Войны и мира».
Однако Гоголь на этом не остановился. «След птицы-тройки» (см.: [Крюков, 2008]) не обрывается. Он обнаруживает себя в «Мертвых душах» и направлен на Восток, через Урал и Сибирь, до берегов Тихого океана. Этот маршрут предопределен репликой Поприщина относительно единства «духовного пространства», начиная от Испании и кончая Китаем. Восточный маршрут «тройки» приглушил значение «европейского маршрута». Восточное направление связано с утверждением «истинной христианской веры», о чем Гоголь писал неоднократно. Семиотическая структура текста «организует» весь разнообразный локальный жизненный материал, переводя его из сферы «индивидуального» в онтологический план [Там же].
Но образно-смысловое значение чичиковской «коляски» не исчезает и не растушевывается в авторском генерализованном повествовании. За Чичиковым и его коляской автор следит очень внимательно. Она у него продолжает бороздить просторы Рос- сии. Гоголь панорамно представляет читателю жизнь европейской части страны. При этом маршрут движения Чичикова рассматривается параллельно с маршрутом «птицы-тройки». Перед читателем предстает Россия в «портретах» представителей разных социальных слоев, положений и званий. Поэма в определенном плане смотрится как «энциклопедия русской жизни», провиденциальный смысл которой заключен в маршруте «птицы-тройки».
Но этому движению подчиняется у Гоголя не только вся Россия, но и ее типичное порождение – Павел Иванович Чичиков. Целостная структура поэмы представлялась Гоголю как трехчастное повествование, в котором представлено развитие и перерождение главного героя. Но Гоголь, как известно, не сумел по объективным причинам показать духовное возрождение героя, остановившись в самом начале повествования об этом во втором томе поэмы. Третья часть оказалась вообще не реализованной и получила лишь косвенное рационалистическое объяснение в уже упомянутых «Размышлениях о Божественной Литургии». Чичиков продолжал движение на «коляске», но «застрял» в своем духовном развитии. И Гоголь смог предложить только теоретически возможность возрождение героя поэмы.
В таком смысловом контексте «птица-тройка» прочерчивала тот путь, который не реализовал в поэме герой, но который виделся Гоголю-моралисту, создавшему символ национальной духовности, в основе которой лежала христианско-православная вера [Сазонова, 2012. С. 249–293]. В данном случае возник своеобразный художественный феномен: проект духовного преображения Чичикова, который просматривается в «Размышлениях о Божественной Литургии», совпал по своим позициям с проектом, намеченным в финале первого тома «Мертвых душ», и был связан с конечным движением «птицы-тройки», устремленной к Богу, утверждение воли которого определяет и смысл Литургической службы, описанной Гоголем.
«Размышления о Божественной Литургии» знаменовали собой завершающий «этап движения» «птицы-тройки» и гипотетический путь духовного спасения современного Гоголю человека. Теоретические размышления писателя соотносятся с духовным и душевным состоянием Гоголя, автора названных сочинений, в сознании и в сердце которого была Русь – «птица-тройка», «вся вдохновенная Богом. Именно ей уступают и дают дорогу «другие народы и государства» («Мертвые души»).
Итак, интернационалист и патриот Н. В. Гоголь, как можно себе представить, взором охватывает пространство «от Испании до Китая» и фокусирует свое внимание и читателей на «точке схода» всех путей, ведущих к Богу. Местом нахождения такой точки для писателя является Россия, а в итоге – его «сердце», в котором заключена «вся Русь».
«Русь в сердце»… Этот образ эмблема-тичен. В нем «энциклопедия русской жизни» обретает онтологический смысл. В этом плане Гоголь – гениальный художник. И о нем, как о Пушкине, мы можем, не выходя за границы справедливости, сказать: «Гоголь – наше всё». В деловом, исследовательском плане следует заметить, что творческий процесс Гоголя, связанный с возведением бытового «факта» в «перл создания», еще требует дальнейшего изучения, ибо творчество Гоголя – это знаковое явление не только русской, но и мировой художественной мысли.
THE WAY INTO RUSSIA AND THE RUSSIAN WAY
Список литературы "Дилогия" Н. В. Гоголя "Записки сумасшедшего" и "Мертвые души": путь в Россию и путь России
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 7.
- Золотусский И. Гоголь. М., 1979.
- Крюков В. М. След птицы тройки. М., 2008.
- Одиноков В. Г. Поэтический мир Н. В. Гоголя в пространстве русской культуры XIX в. Новосибирск, 2010.
- Одиноков В. Г. Трагедия и комедия «потрясенного сознания». В. Шекспир в художественной памяти Н. В. Гоголя//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 2. С. 146-156.
- Размышления о Божественной Литургии Н. В. Гоголя. М., 1990.
- Сазонова Л. И. Память культуры. М., 2012.
- Флоренский П. Соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2.
- Чернышевский Н. Г. Что делать? Л.: Наука, 1975.