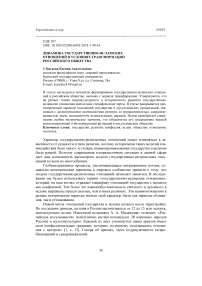Динамика государственно-исламских отношений в условиях трансформации российского общества
Автор: Багаева Ксения Анатольевна
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется механизм формирования государственно-исламских отношений в российском обществе, начиная с периода трансформации. Утверждается, что на разных этапах социокультурного и исторического развития государственноисламские отношения имели свои специфические черты. В статье раскрывается противоречивый характер отношений государства и мусульманских организаций, связанных с догматическими особенностями религии, ее традиционностью, сакрализованностью норм, менталитетом исповедующих народов. Ислам приобретает совершенно особое политическое значение, это объясняется его традиционно важной консолидирующей и интегрирующей функцией в мусульманском обществе.
Государство, религия, конфессия, ислам, общество, отношения, политика
Короткий адрес: https://sciup.org/148317050
IDR: 148317050 | УДК: 297 | DOI: 10.18101/2306-630X-2018-1-58-63
Текст научной статьи Динамика государственно-исламских отношений в условиях трансформации российского общества
Характер государственно-религиозных отношений может изменяться в зависимости от сущности и типа религии, поэтому исторически таких моделей взаимодействия было много, и степень взаимопроникновения государства и религии была разной. Поэтому современная плюралистичная ситуация в данной сфере дает нам возможность рассмотреть модели государственно-религиозных отношений во всем их многообразии.
Глобализационные процессы, увеличивающиеся миграционные потоки, социально-экономические перемены в мировом сообществе привели к тому, что модели государственно-религиозных отношений начинают меняться. В исследовании мы будем использовать термин «государственно-исламские отношения», который, на наш взгляд, отражает специфику отношений государства с исламом как конфессией. Тем более что взаимообусловленность светского и духовного в исламе выражена гораздо сильнее, чем в иных религиях. Эти взаимоотношения в разные исторические периоды носили свой характер, были как периоды сближения, так и отталкивания.
Новый виток отношений государства и ислама начался после перестройки. По последним данным, сегодня в России насчитывается от 12 до 15 млн человек, исповедующих ислам. Известный исламовед А. А. Малашенко отмечает: «Российское мусульманство полиэтнично (ислам исповедуют 38 коренных народов России) и мультикультурно. Каждый из двух упомянутых выше ареалов имеет свои конфессиональные традиции, историю, по-разному складывались отношения с центром» [1, с. 12]. Говоря об ареалах, здесь подразумевается татаробашкирский и северокавказский.
Кроме того, после распада СССР исламские регионы России все сильнее ощущают влияние исламского мира. Важным фактором является и многоликость ислама, представленного ваххабизмом, фундаментализмом и модернистскими направлениями. Традиции, вероучение, устройство ислама отличаются от православия, в нем отсутствует иерархизированность, существующая в православной церкви.
Для русской православной церкви (РПЦ) исторически характерна идея духовного господства и близости к власти. Поэтому в государственно-религиозных отношениях в России сложилась тенденция, задаваемая РПЦ, не учитывающая особенностей ислама. Такая ситуация привела к раздробленности мусульманских общин, даже по этническому признаку. В результате процесса десекуляризации, начавшегося в 1990-х гг., образовалось несколько десятков духовных управлений, в том числе активизировали деятельность исламские зарубежные центры.
Следует отметить и тот факт, что в внутри самого ислама обострились противоречия, причинами которых были ослабление государственного контроля над религией, экономические, политические и этнические проблемы. В результате наблюдается появление большого количества иностранных резидентов в России.
Эти зарубежные организации вели не только проповедническую деятельность, но и благотворительную. С одной стороны, это период возрождения исламской культуры, с другой — зарубежные организации распространяли политическую идеологию, содействующую ваххабизму. Они активно пытались наладить отношения с духовным управлением мусульман (ДУМы) посредством финансовой помощи, что привело к еще большей разобщенности в рядах российских мусульманских организаций.
Только к середине 1990-х гг. государство обратило свое внимание на исламские организации, успевшие к тому времени заявить о себе. К сожалению, в обществе уже укоренились негативные ассоциации, но в то же время ислам использовался в политических целях, чаще всего во время предвыборных кампаний в национальных республиках (парламентские выборы 1995 г., президентские выборы Б. Ельцина в 1996 г.).
Поэтому мы полагаем, что на этом этапе государственно-религиозных отношений ислам для государства был инструментом достижения определенных целей, в основном политических. Тем самым возникла двусмысленная ситуация. С одной стороны, российское государство провозгласило себя светским, что предполагало равенство конфессий, надзор за всеми религиозными организациями, в том числе зарубежными. На практике же получалось, что государство не могло до конца сформулировать свое отношение к исламу, ведь их взаимодействие должно было иметь отличия от взаимоотношений с православием. С другой стороны, такую нерешительность государства можно объяснить рядом причин. Во-первых, ислам для большей части общества был незнаком и даже чужд, поэтому в большинстве своем воспринимался как опасная идеология. Во-вторых, существовала разобщенность российских мусульманских организаций, что усложняло выстраивание и без того непростых отношений. В-третьих, активность проявляли в основном оппозиционные исламские организации, для мусульманских организаций чаще отводилась роль привлечения электората. Поэтому государство ограничивалось лишь признанием роли ислама в формировании российской культуры.
Возможно, эти же разногласия в мусульманских организациях не давали возможность государству очертить более четко свои взаимоотношения с исламом. Ведь сложные хитросплетения мусульманских отношений и исторически существовавшая политизированность религии требовали того, чтобы по отношению к исламу государство занимало более жесткую позицию. Нельзя не отметить и тот факт, что лояльным к государству организациям власти оказывали поддержку. Важным аргументом в пользу существования оппозиционных организаций была и близость РПЦ к власти, что часто упоминается в критическом ключе мусульманами-общественниками, в том числе Р. Гайнутдиным, который выступает за равенство с православием.
Главной задачей в отношениях с исламом государство ставит контроль. Как верно подметил А. А. Малашенко: «Напрашивается параллель с отношением к исламу во времена Российской империи, когда власть пытается устроить нечто вроде «Русской исламской церкви», наподобие православия» [1, с. 99]. Впоследствии государство обращается к мусульманским организациям, чтобы нейтрализовать радикальные силы и поддержать традиционный ислам. В 2004 г. был создан «Объединенный совет духовных управлений мусульман по противодействию экстремизму и терроризму», в который вошли муфтии Р. Гайнутдин, Т. Таджутдин, И. Бердиев. Создание совета означало прекращение разобщенности среди мусульманских организаций. Государство со своей стороны сменило позицию по отношению к исламу как к чему-то чуждому на понимание его как сопричастной религии.
Как указывает Р. А. Силантьев, государство при взаимодействии с исламом реализует модели, условно называемые «восточная» и «западная». По его мнению, «восточная» модель характерна для Саудовской Аравии, где ислам поддерживается государством, и присутствуют тесные отношения с властью. Хотя религия здесь формирует идеологию и образ жизни, она вместе с тем находится под строгим контролем со стороны государства. Тогда как «западная» модель представляет собой либеральный стандарт, при котором отношение к исламу точно такое же, как и к другим конфессиям. При этом мусульманское общество живет по своим законам в изолированном пространстве, ничем и никем не контролируется. Становится понятно, что такая форма, представленная в Западной Европе и США, в определенной степени себя исчерпала, что хорошо видно на примере Франции [2, с. 483].
Относительно России мы можем сказать, что государственно-религиозные отношения, по всей видимости, идут по пути объединения описанных моделей. Так, в республиках Дагестан, Ингушетия, Чечня реализуется «восточная» модель, которая позволяет максимально курировать мусульман, не давая возможности проникнуть экстремизму. В других же регионах распространения ислама государство следует «западной» модели невмешательства во внутренние дела мусульман, от которых в свою очередь требуют благонадежности (Татарстан, Башкортостан).
Поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что направление государственно-исламских отношений очень вариативно, так как зависит не только от объективных причин, а подчас и от личных качеств исламских лидеров на местах. Кроме того, на наш взгляд, такое построение отношений связано с тем, как расселены мусульмане: компактное проживание меньшинства или преобладающее большинство населения. В мусульманских регионах государство выстраивает отношения с конфессией, обращая внимание на менталитет народа, традиционность уклада жизни. Показателен в этом плане пример, приводимый А. А. Малашенко: «Так, в Татарстане и Башкирии светская власть, опираясь на административный ресурс, свободно манипулирует исламом и контролирует религиозную ситуацию. Зато в Дагестане, Ингушетии власть нуждается в исламе как в союзнике, не говоря уже о том, что тотальное его подчинение просто-напросто невозможно» [1, с. 104].
Однако подобная вариативность отчасти мешает выстроить целостную концепцию отношений с исламом в России. Поэтому, мы выдвигаем предположение, что сегодня важнейшей задачей является преобразование мусульманской идентичности, которая не будет центром притяжения конфликтов, а станет частью самосознания поликонфессионального народа.
К ряду факторов, которые не дают изменить мусульманскую идентичность, следует отнести и так называемую религиозную солидарность мусульман. Чаще всего она связывается с объединением мусульман всего мира. Сегодня в русле общемировых процессов интеграции данная тема приобретает не только религиозные, но и политические, социально-экономические особенности. Еще одной тенденцией становится исламизм, выражающийся в стремлении возвратиться к утраченным духовным ценностям раннего ислама. Последователи исламизма предлагают провести перестройку общества на основе шариата, возглавлять которое будет правитель, объединяющий в себе светское и духовное. В действительности же исламизм не приемлет секуляризацию и главной его задачей является урегулирование светских проблем устройства общества.
Наряду с указанными тенденциями наблюдается и желание модернизировать ислам, привести его в соответствии с правилами совместного существования в поликонфессиональном мире. Партия Исламского возрождения в 1990 г. пыталась реализовать положения модернизационного проекта ислама, с целью создания определенных комфортных условий для мусульманского образа жизни. В середине 1990-х гг. в рамках этого проекта обсуждалась идея необходимости использования шариата в качестве законодательной базы в некоторых регионах России. Здесь следует отметить, что еще в советский период проявилась преемственность мусульманского права, ведь правительство в свое время шариат восстановило, а потом уже его секуляризовало. В результате этого ислам стал частным делом, хотя сегодня для многих российских регионов с компактным проживанием его последователей мусульманское право становится обязательным [3, с. 83].
Таким образом, можно отметить, что в 1990-х гг. интерес к исламу со стороны государства проявляли в основном представители региональной элиты, тогда как федеральная власть особого внимания не уделяла. Позднее, начиная с 2000-х гг., в связи с усложнением геополитической обстановки в мире ситуация постепенно меняется.
Важной вехой в отношениях государства и ислама стало создание в 2001 г. «Основ социальной программы российских мусульман», принятых Советом муфтиев России, которые выдвигали целью соблюдение религиозных прав и интересов мусульман. Кроме того, акцент сделан на то, что Россия позиционирует себя как светское государство, главным условием чего является соблюдение паритета конфессий и невмешательство государства во внутренние дела религии.
Итак, становление государственно-исламских отношений имело разноплановый характер, что связано, прежде всего, с вероучением ислама, его традиционностью. В первое время своего существования ислам в рамках российского государства стремился сохранить культурную самобытность, поскольку политика царизма по отношению к мусульманам носила характер насильственной христианизации. В некоторые периоды отношений ислам был «терпимой» религией и также подвергался гонениям со стороны советской власти. Только с переменами, происходящими в экономике и обществе, меняется и положение ислама в лучшую сторону, хотя не обходится без трудностей на фоне имеющей государственную поддержку РПЦ.
В сущности, действовавший ранее в досоветский и советский период диалог между немусульманами и мусульманами был прекращен, а того механизма, который мог бы создать сегодня равновесное состояние, нет ни в государственных структурах, ни в социальной и экономической сферах. По нашему мнению, в 2000-х гг. государство сумело сгладить ситуацию с исламским вопросом, но он все равно остается открытым.
Таким образом, процесс реформирования России, начавшийся в 90-х гг. ХХ в., показал, что формирование государственно-религиозных отношений развивалось в двух направлениях. Во-первых, секуляризация и позитивизм, означавшие ориентацию на светские ценности, универсальные права и свободы человека, гражданина. Во-вторых, направление, в рамках которого государство не признавало никаких межрелигиозных противоречий.
Поэтому вполне объяснимы те ошибки в государственно-исламских отношениях, которые совершило государство в Татарстане, Северном Кавказе и других регионах. На наш взгляд, не было необходимости в том, чтобы культивировать начавшиеся процессы возрождения ислама и подстраивать их под подъем национального самосознания и демократические инициативы. Впоследствии это привело к формированию политического ислама, который очень легко трансформировался в ваххабизм и фундаментализм. В итоге мусульманское население было практически выставлено за границы общероссийской культурной общности.
Следует отметить, что сегодня нет четкого плана государственно-исламских отношений, хотя развернувшиеся за последние десятилетия события, должны были привести к внятной политике. Одним из возможных решений могло бы стать создание специального органа, курировавшего конфессиональную политику, который существовал в Советском Союзе, так называемого Совета по делам религий. Деятельности нынешнего Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), в полномочия которого входит и урегулирование отношений с религиозными организациями, явно недостаточно.
В настоящее время руководства исламских организаций охотно становятся частью вертикали власти. Но также можно заметить и тот факт, что и православная, и мусульманская иерархии становятся коррумпированными. Тем более что руководство не всегда выражает интересы большинства, и вполне вероятно, что внутри существует оппозиция.
Отношения государства и ислама двигаются в сторону сближения своих позиций, однако при всем этом отмечается поляризация сил внутри самой религии, а в условиях продвижения мирового радикального ислама вероятен сценарий, что он преодолеет сопротивление со стороны традиционного ислама. В таком случае становится ясной позиция государства по отношению к исламу, предполагающая полный контроль. Прежний подход к исламу, основывавшийся на примере РПЦ, в данное время не применим, поскольку традиционность православия существенно отличается от традиционности ислама. Приспособленческие черты православия имеют мало общего с тенденциями модернизации в исламе, ведущими к его политизации. Относительно будущих государственно-исламских отношений верно высказался А. А. Малашенко: «Государство и впредь будет относиться к мусульманам и исламу с публичной симпатией, а в действительности скептически-настороженно. Уйти от этой интонации оно не может, да, по сути, и не желает» [1, с. 178].
Список литературы Динамика государственно-исламских отношений в условиях трансформации российского общества
- Малашенко А. А. Ислам для России / А. А. Малашенко. Москва: Росспэн, 2007. 192 с.
- Силантьев Р. А. Новейшая история ислама в России / Р. А. Силантьев. Москва: Алгоритм, 2007. 576 с.
- Сюкияйнен Л. Мусульманско-правовая культура и светское государство (на примере России и стран Центральной Азии) / Л. Сюкияйнен // Ислам и светское государство. Ташкент, 2002. С. 78-85.