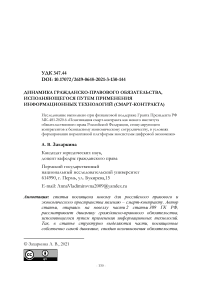Динамика гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта)
Автор: Захаркина А.В.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
статья посвящена новому для российского правового и экономического пространства явлению - смарт-контракту. Автор статьи, опираясь на новеллу части 2 статьи 309 ГК РФ, рассматривает динамику гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий. Так, в статье структурно выделяются части, посвященные собственно самой динамике, стадии возникновения обязательства, опосредованного смарт-контрактом; стадии исполнения такого обязательства через призму действия принципов исполнения; а также стадии прекращения исследуемого обязательства. В работе показаны три основных научных подхода, отражающие механизм возникновения обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий; дана правовая характеристика clickwrap и browse-wrap соглашений; отражена специфика действия известных принципов исполнения обязательств при исполнении обязательства с помощью информационных технологий; сделан вывод о необходимости адаптации обязательственного права к цифровым реалиям, что возможно без коренной «ломки» пандектной системы российского гражданского права и ключевых подходов законодателя к основным правовым инструментам гражданского законодательства.
Смарт-контракт, блокчейн, информационные технологии, исполнение гражданско-правового обязательства, цифровая экономика, цифровизация нормативной платформы
Короткий адрес: https://sciup.org/147235701
IDR: 147235701 | УДК: 347.44 | DOI: 10.17072/2619-0648-2021-3-130-144
Текст научной статьи Динамика гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта)
О позитивации исполнения обязательства путем применения информационных технологий (смарт-контракта). Вопрос о позитива-ции смарт-контракта в российском гражданском законодательстве активно обсуждается в юридической литературе. Несмотря на то что разработчики законопроекта в пояснительной записке к нему напрямую заявляют о том, что часть 2 статьи 309 ГК РФ принята для признания законности тех правоотношений, которые возникли именно из смарт-контракта, часть ученых по-прежнему отрицают связь между указанной новеллой и институтом смарт-контракта. Так, в пояснительной записке «К проекту Федерального закона “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации”» отмечается следующее: «Для целей исполнения сделок с цифровыми правами (“смарт-контракты”, “самоисполняемые” сделки) в статью 309 ГК вводится единственное требующее закрепления в законе правило – факт совершенного компьютерной программой исполнения сделки не оспаривается (кроме случаев вмешательства в действие программы)»1.
Итак, Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»2 в статью 309 ГК РФ добавлена вторая часть следующего содержания: «Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки». Как видим, в этой новелле нет упоминания термина «смарт- контракт», нет его и в иных статьях Гражданского кодекса РФ. Это, безусловно, заставляет задуматься о том, действительно ли отечественный законодатель, вводя правило в часть 2 статьи 309 ГК РФ, имел намерение статуиро-вать смарт-контракт. Такие сомнения предопределены прежде всего тем, что в первоначальной редакции соответствующего законопроекта термин «смарт-контракт» непосредственно использовался и даже имел легальную дефиницию, которая впоследствии была подвергнута обоснованной критике со стороны научного юридического сообщества.
О движении гражданско-правовых обязательств. Словосочетание «движение обязательства» прочно вошло в цивилистический терминологический аппарат: его содержание не вызывает существенных дискуссий. Однако позволим себе обозначать основные ключевые моменты, характеризующие динамику гражданско-правового обязательства в целом. Итак, динамика любого обязательства начинается с такого момента, как возникновение обязательства или правоотношения, обусловленного этим обязательством. Основным этапом динамики любого обязательства следует признать его исполнение. И завершается обязательство прекращением.
По справедливому замечанию Б. Б. Черепахина, обязательство, находясь в динамике, может претерпеть те или иные изменения, сохраняя при этом общие черты и продолжая существовать в измененном виде3. В этом смысле возникает вопрос о необходимости выделения еще одной стадии – изменения обязательства. Так, О. А. Красавчиков выделял два узловых момента в движении гражданско-правового обязательства – возникновение и прекращение. Что касается стадии изменения, то, по мнению О. А. Красавчикова, это не самая существенная стадия: ее суть заключается в изменении либо содержания, либо субъектного состава, либо того и другого4. Анализ цивилистической литературы показывает, что большинство ученых-юристов посвящают свои научные изыскания именно изменению обязательства как наиболее сложной стадии динамики обязательственного правоотношения.
-
Н. Г. Соломина отмечает, что динамика гражданско-правового обязательства ассоциируется с действиями должника: как только должник исполнит обязательство в полном объеме, обязательство прекращается его испол-нением5.
Говоря о динамике гражданско-правового обязательства, важно помнить о тех элементах, которые присущи любому правоотношению, в том числе обязательственному. В числе таких признаков: основания возникновения, субъекты, объект и содержание. Эти элементы взаимосвязаны со всеми стадиями динамики, поэтому при рассмотрении вопроса о динамике обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий, указанные элементы необходимо учитывать.
Особенности возникновения гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта). Пожалуй, именно возникновение является ключевой стадией гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта). Однако если исходить из того, что основанием возникновения таких обязательств является договор, то становится неочевидно, как взаимосвязаны договоры и собственно те информационные технологии, на базе которых и реализуется соответствующее обязательство. Углубленное рассмотрение данного вопроса можно встретить в монографическом исследовании представителей саратовской школы частного права6: так, авторы используют термин «совершение смарт-контракта» и отстаивают мнение о двух потенциальных способах совершения смарт-контракта – либо путем программирования тех условий договора, которые были достигнуты сторонами обязательства на преддоговорной стадии, либо путем присоединения одной стороны к условиям, разработанным другой сто-роной7. В целом нам импонирует «осторожный» подход авторов, которые в своем научном труде попытались найти баланс между зарубежными реалиями функционирования смарт-контрактов и российскими реалиями потенциально возможного применения этой технологии.
В рамках настоящего исследования нам бы хотелось рассмотреть вопрос о том, какие, в том числе технические, факты образуют состав, необходимый для возникновения обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контрактов). Напомним, что в научной литературе существуют три ключевых подхода относительно соотношения гражданско-правового договора, составленного в устной или письменной форме, и собственно компьютерной программы, которая содержит в себе эти условия.
Первый подход подразумевает одновременное наличие и договора, и компьютерной программы, содержащей условия такого договора. При этом контрагенты по сделке сначала заключают соглашение на обговоренных условиях, а затем эти условия обретают форму «компьютерного кода», трансформируясь в смарт-контракт. Приверженцами данного подхода являются В. С. Белых, М. О. Болобонова8, В. М. Камалян9, Н. Б. Крысенкова10, а также ряд зарубежных исследователей частного права.
Второй подход исходит из того, что обязательство, исполняющееся путем применения информационных технологий (смарт-контракта), возникает непосредственно через информационную технологию – компьютерную программу, а составления гражданско-правового договора на естественном языке не требуется. То есть язык программирования полностью заменяет естественный язык. Этот подход отражен, в частности, в трудах Ю. С. Харитоно-вой11. Мы находим этот подход весьма перспективным, потому что идея смарт-контракта, на наш взгляд, заключается именно в создании максимально комфортных условий для контрагентов, в том числе они могут участвовать в сделке, даже не зная друг друга непосредственно. Поэтому очевидно, что универсальность смарт-контракта не предполагает подготовки сначала обычного (устного или письменного) договора, а затем уже запрограммированного.
Третий подход, именуемый нами «смешанным», допускает как одновременное существование гражданско-правового договора и его перевод на язык программирования, так и автономное существование одного смарт-контракта. Этот подход можно встретить, например, в совместной работе О. С. Гринь, Е. С. Гринь и А. В. Соловьева12. Этот подход, по нашему мнению, тоже имеет право на существование, поскольку зачастую, особенно в современных условиях, через программу исполняется не весь договор от
«А и до Я», а только его конкретная часть. Например, зачастую через информационные технологии исполняется только часть сделки, связанная с оплатой товаров, работ или услуг. Так, думается, что по модели смарт-контракта построены отношения по оплате коммунальных и иных услуг через так называемые «автоплатежи». Другой пример: заказ такси через мобильные приложения «Яндекс.Такси», «СитиМобил» и т. п. с автоматической оплатой услуг по перевозке пассажиров. Итак, данные примеры наглядно демонстрируют, что смарт-контракт может обеспечивать исполнение обязательства не целиком, а лишь в его конкретной части. Почему возникает такая ситуация? Это предопределено тем, что исполнение гражданско-правового обязательства целиком через информационную систему предполагает наличие специфического объекта. Так, чтобы автоматически передать одно благо от должника к кредитору, нужно, чтобы информация о передаче была связан с информационной системой. Проще всего это сделать тогда, когда передаются цифровые объекты – цифровые права, бездокументарные ценные бумаги или безналичные денежные средства. Несмотря на то что все эти объекты признаны современным гражданским законодательством, очевидно, что для их широкого применения в гражданском обороте должно пройти немало времени, поскольку отечественная экономика пока не вышла на необходимый «цифровой» уровень.
На сегодняшний день самым популярным способом выражения волеизъявления на вступление в отношения, опосредованные смарт-контрактом, является использование функций click-wrap и browse-wrap. На них хотелось бы остановится подробнее.
Оба термина связаны с информационными технологиями и подразумевают способы заключения соглашений. При click-wrap лицо, используя информационную систему или веб-сайт, кликает на «I Accept», что подразумевает принятие лицом условий соглашения. Как правило, информационная система предварительно предлагает ознакомиться с условиями соглашения, а затем «согласиться» на них. Известно, что признание легальности таких соглашений связано с судебным прецедентом, который имел место в США: соглашение о порядке пользования почтовым ящиком на сайте hotmail.com было признано действительным.
Что касается второго типа соглашений – browse-wrap, то его суть сводится к тому, что условия соглашения есть на конкретном сайте и заинтересованное лицо может с ними ознакомиться, кликнув на гиперссылку, расположенную на сайте.
Правовая характеристика click-wrap и browse-wrap соглашений сводится к тому, что они признаются гражданско-правовыми договорами13. Стало быть, на них распространяются нормы о сделках, обязательствах и договорах. Причем мы имеем дело с электронной формой сделки, которая должна совершаться по правилам статьи 160 ГК РФ: «Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю».
В научной литературе можно встретить обоснованную критику специальной технологической терминологии, которой оперирует действующая редакция первой части ГК РФ. Так, в статье 160 ГК РФ говорится об «электронных либо иных технических средствах», в части 2 статьи 309 ГК РФ – об «информационных технологиях», а в статье 434 ГК РФ – об «электронном документе». Таким образом, законодатель, вероятно, намеренно ввел в легальный терминологический инструментарий синонимичные, но разные по смысловому содержанию технологические термины. Это обстоятельство сразу ставит ряд принципиальных вопросов: является ли смарт-контракт той самой информационной технологией или ею является непосредственно блок-чейн; могут ли смарт-контракты исполняться в иных платформах, кроме блокчейна, и ряд других. Добавим, что с 1 января 2021 г. вступил в силу новый Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»14. В этом законе фигурирует термин «информационная система»: в статье 1 закона № 259-ФЗ отмечено, что обращение цифровых финансовых активов осуществляется путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы. Стало быть, информационные системы, по мнению отечественного законодателя, могут быть двух видов: (1) на основе распределен- ного реестра и (2) иные. В пункте 7 статьи 1 указанного закона содержится легальная дефиниция «распределенного реестра»: под ним понимается совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма).
Важно отметить, что click-wrap и browse-wrap соглашения являются далеко не единственными техническими инструментами, предшествующими исполнению обязательств путем применения информационных технологий: очевидно, есть и иные. Сложность их перечисления обусловлена тем, что исследователь смарт-контрактов обречен: ему необходимо либо моделировать отношения, исполняющиеся путем применения информационных технологий, либо изучать зарубежный опыт такого функционирования. Таким образом, отсутствие в достаточном объеме эмпирических данных обуславливает формулирование выводов по смарт-контракту либо из догматики и правового моделирования, либо из компаративистики.
Действие принципов исполнения гражданско-правовых обязательств при исполнении последних путем применения информационных технологий (смарт-контракта). Прежде всего отметим, что специфика смарт-контракта заключается в том, что технология блокчейна равнодушна буквально ко всему: к существенным и обычным условиям договора, императивным нормам, в том числе нормам-принципам, оценочным понятиям. Действие известных обязательственному праву принципов исполнения тоже существенно «искажено», что предопределено исполнением обязательства в рамках платформы блокчейн либо иных информационных технологий. Особенность исполнения путем применения информационных технологий (смарт-контракта) обусловлена тем, что определение критериев надлежащего и реального исполнения делегировано от человека, имеющего волю и являющегося субъектом права (им обычно выступают контрагенты по сделке или третье лицо), компьютерной программе.
Смарт-контракт гарантирует реальное исполнение обязательства: в этом его основное преимущество. Что же касается гарантии надлежащего исполнения обязательства, то на этот счет необходимо порассуждать более глубоко.
Интересный пример, направленный на использование такого методологического приема, как доведение до абсурда, приведен в уже процитированной монографии А. Я. Ахмедова, А. А. Волос, Е. П. Волос: если в смарт-контракт запрограммировано исполнение обязательства, например путем предоставления товара в желтой упаковке, а он предоставлен в синей упаковке, то программа расценит такое исполнение как ненадлежащее15.
Как известно, основным принципом обязательственного права является принцип надлежащего исполнения обязательств: в самом общем виде он зафиксирован в части 1 статьи 309 ГК РФ. Возникает очевидный вопрос: а может ли исполнение полностью запрограммированного обязательства, реализация которого осуществляется путем применения информационных технологий (смарт-контракта), быть ненадлежащим? Ведь, собственно говоря, в этом и суть смарт-контракта: он исключает те риски ненадлежащего исполнения, которые присущи гражданско-правовым обязательствам, исполняющимся за рамками информационных систем. Так, А. И. Савельев утверждает, что исполнение обязательства из смарт-контракта не может быть ненадлежащим16.
На наш взгляд, с этим трудно согласиться: смарт-контракт гарантирует исполнение, но в действительности такое исполнение в итоге может быть и ненадлежащим. Например, система блокчейн либо иные информационные технологии не в состоянии проверить качество товара, являющегося объектом такого обязательства. Очевидно, что, если гражданско-правовое обязательство целиком исполняется через информационные технологии, то есть имеет специфический объект в виде цифровых прав или иного виртуального имущества, тогда можно говорить о том, что вероятность «ненадлежащего» исполнения обязательства сведена к нулю, потому что говорить о качестве можно только в отношении реальных объектов материального мира.
Важно отметить, что категорические императивы принципа надлежащего исполнения обязательства, в качестве которых принято называть исполнение надлежащему лицу (ст. 312 ГК РФ), в надлежащий срок (ст. 314 ГК РФ), в надлежащем месте (ст. 316 ГК РФ) и др., жестко привязаны к объекту обязательства. Так, если объектом будут выступать цифровые права (например, цифровые финансовые активы или цифровая валюта), то налицо специфика действия этих принципов. Например, очевидно, что надлежащим местом исполнения такого обязательства будет сама информационная система. В любом случае все эти условия обязательства (надлежащее лицо, срок и место исполнения) должны быть запрограммированы в компьютерный код. Именно поэтому в зарубежной цивилистике очень точно отмечается, что важно, чтобы «программисты работали вместе с юристами над созданием лучших смарт-контрактов, и чтобы законодатель сосредоточился на законах, касающихся аудита кода смарт-контрактов доверенными третьими лицами и
А. В. Захаркина ___________________________________________________________________ автоматического приравнивания смарт-контрактов к письменным контрактам с влажными чернильными подписями»17.
Специфика прекращения гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта). К числу основных недостатков смарт-контракта относят его негибкость: так, после вступления в соответствующее обязательство его нельзя изменить. Теоретически изменение возможно только после внесения соответствующих изменений в саму программу (информационную систему). С практической же точки зрения подобные изменения не характерны для смарт-контракта, существующего на платформе распределенного реестра. Блокчейн отличается тем, что действия, совершенные в нем, необратимы. Поэтому сложно себе представить ситуацию, при которой гражданско-правовое обязательство, исполняющееся путем применения информационных технологий (смарт-контракта), прекращается, например, отступным или новацией. Известно, что проблема договорной дисциплины в нашей стране стоит достаточно остро, что приводит к тому, что большая часть обязательств прекращается не надлежащим исполнением, как это должно быть в идеале, а его «суррогатами» – новацией, отступным и т. д. Можно лишь надеяться, что распространение информационных технологий и широкое внедрение их в гражданский оборот, в том числе в формате смарт-контрактов, будут способствовать увеличению числа гражданско-правовых обязательств, которые будут исполняться надлежащим образом. Такой вывод предопределён прежде всего тем, что использование компьютерной программы в гражданском обороте снимает остро стоящую проблему доверия. Эта проблема зачастую препятствует вступлению сторон в договорные отношения.
Рассуждая о стадии прекращения гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта), важно помнить, что такое обязательство существует по принципу «если, то, иначе», или «if … then». Получается, что алгоритм действий строго запрограммирован. Например, если в установленный срок в надлежащее место будет доставлен пассажир, вызывающий такси, то обязательство по предоставлению услуги по перевозке пассажира выполнено надлежащим образом. Стало быть, с банковского счета клиента будут списаны денежные средства, представляющие оплату соответствующей услуги.
Интересно отметить, что смарт-контракт, как мы отметили выше, работает по принципу «if … then». В практической плоскости это означает следующее: если товар доставлен в установленный срок и с определенными ха- рактеристиками, то он будет автоматически оплачен. В то же время, если товар доставлен в ненадлежащий срок, то оплата произведена не будет. С точки зрения классического договорного права, в первом случае мы имеем дело с надлежащим исполнением, а во втором – с ненадлежащим исполнением. С точки зрения же условий смарт-контракта, и в первом, и во втором случаях смарт-контракт выполнил свою функциональную роль надлежащим образом.
Заметим, что сложность с «наложением» классических оснований прекращения обязательств на гражданско-правовое обязательство, исполняющееся путем применения информационных технологий (смарт-контракта), обусловлена тем, что все условия необходимо программировать заранее. В то же время потребность в правовых инструментах, опосредующих основания прекращения обязательств за исключением надлежащего исполнения, возникает, как правило, в период «просрочки» исполнения. Так, прибегая к институту отступного, стороны вносят изменение в первоначальное обязательство в части коррекции предоставления: недвижимость вместо денежных средств, услуги вместо индивидуально определенной вещи и т. д. Смарт-контракт не допускает подобной коррекции. Однако в целом можно сделать вывод, что если смарт-контракт будет заранее запрограммирован, например, на изменение предмета обязательства, то такое условие возможно. К примеру, если должнику заранее предоставляется право заменить основное исполнение другим, заранее предусмотренным условиями обязательства, то программирование таких условий считается вполне допустимым. Однако в таком случае встает вопрос о том, как квалифицировать такие условия: обязательство с заранее запрограммированным отступным либо факультативное обязательство, имеющее основной предмет исполнения и факультативный? Очевидно, что верным является второй вариант квалификации.
Думается, что надлежащее исполнение гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта), не в полной мере отвечает требованиям статьи 408 ГК РФ. Точнее, правила этой статьи неактуальны для такого обязательства. Поэтому полагаем необходимым дополнить статью 408 ГК РФ нормой, иллюстрирующей правила надлежащего исполнения обязательства путем применения информационных технологий (смарт-контракта). Очевидно, что, например, при использовании смарт-контракта кредитор не обязан выдавать расписку должнику, как это зафиксировано в пункте 2 статьи 408 ГК РФ.
Использование таких оснований прекращения обязательства, как отступное и новация, неактуально для обязательств, исполняющихся путем применения информационных технологий (смарт-контракта). Что касается таких оснований прекращения, как зачет и прекращение обязательства смер- тью гражданина или ликвидацией юридического лица, то теоретически эти основания могут быть запрограммированы. Однако возникает не менее сложный вопрос с доступом программы в различные реестры, кадастры и базы данных. Далее возникает вопрос об информационной безопасности, кибератаках и средствах превенции правонарушений в этой сфере.
Добавим, что сложно закодировать такое основание прекращения обязательства, как издание акта органа государственной власти или органа местного самоуправления. То же самое актуально и для прощения долга.
Резюмируем. Состояние основательных доктринальных изысканий, посвященных динамике гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта), оставляет желать лучшего. При формировании комплексного научного представления о смарт-контракте важно сделать акцент на междисциплинарном методе исследования. Понимание правовой природы гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта), в отрыве от хотя бы первичных представлений о собственно самих информационных технологиях, бесперспективно.
Изучив основы динамики гражданско-правового обязательства, исполняющегося путем применения информационных технологий (смарт-контракта), мы сформулировали несколько важных выводов:
-
1. В научной литературе существуют три ключевых подхода к соотношению гражданско-правового договора, составленного в устной или письменной форме, и собственно компьютерной программы, которая содержит в себе эти условия: (1) договор и компьютерная программа; (2) только компьютерная программа, содержащая условия соглашения; (3) смешанная концепция, допускающая и первый, и второй подходы.
-
2. Зачастую, особенно в современных условиях, через компьютерную программу исполняется не все обязательство, а только его конкретная часть (например, зачастую через информационные технологии исполняется только часть сделки, связанная с оплатой товаров, работ или услуг).
-
3. Самым популярным способом выражения волеизъявления на вступление в отношения, опосредованные смарт-контрактом, является использование функций click-wrap и browse-wrap.
-
4. Специфика смарт-контракта заключается в том, что технология блокчейна равнодушна буквально ко всему: к существенным и обычным условиям договора, императивным нормам, в том числе нормам-принципам, оценочным понятиям. Действие известных обязательственному праву принципов исполнения тоже существенно «искажено», что предопределено ис-
- _________________ ГРАЖДАНСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО полнением обязательства в рамках платформы блокчейна либо иных информационных технологий.
-
5. Особенность исполнения путем применения информационных технологий (смарт-контракта) обусловлена тем, что определение критериев надлежащего и реального исполнения делегировано от человека, имеющего волю и являющегося субъектом права (им обычно выступают контрагенты по сделке или третье лицо), компьютерной программе.
-
6. Смарт-контракт гарантирует реальное исполнение, но в действительности такое исполнение в итоге может быть и ненадлежащим.
-
7. Категорические императивы принципа надлежащего исполнения обязательства, в качестве которых принято называть исполнение надлежащему лицу (ст. 312 ГК РФ), в надлежащий срок (ст. 314 ГК РФ), в надлежащем месте (ст. 316 ГК РФ) и др., жестко привязаны к объекту обязательства.
-
8. К числу основных недостатков смарт-контракта относят его негибкость: после вступления в соответствующее обязательство его нельзя изменить, поэтому большая часть оснований прекращения обязательств неактуальна для смарт-контракта.
-
9. Полагаем необходимым дополнить статью 408 ГК РФ нормой, иллюстрирующей правила надлежащего исполнения обязательства путем применения информационных технологий (смарт-контракта).