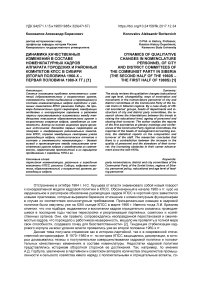Динамика качественных изменений в составе номенклатурных кадров аппарата городских и районных комитетов КПСС в Сибири (вторая половина 1960-х - первая половина 1980-х гг.)
Автор: Коновалов Александр Борисович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме качественных изменений (образовательного и возрастного уровня, сменяемости, путей выдвижения и перемещения) в составе номенклатурных кадров городских и районных комитетов КПСС регионов Сибири. На примере должностных групп секретарей, заведующих отделами и инструкторов горкомов и райкомов партии прослеживаются взаимосвязи между тенденциями повышения образовательного уровня и возрастного старения кадров, замедления их сменяемости. Автор на основе широкого круга архивных источников: докладов первых секретарей на пленумах и конференциях региональных комитетов КПСС, справок заведующих секторами учета руководящих кадров, статистических отчетов о составе и сменяемости номенклатуры - делает вывод о противоречиях между повышением качественного уровня кадров и замедлением их сменяемости, нарастанием препятствий в их карьерном продвижении с середины 1970-х гг.
Партийная номенклатура, районные и городские комитеты кпсс, регионы сибири, кадровая политика, образовательный и возрастной уровень руководящих кадров
Короткий адрес: https://sciup.org/14941153
IDR: 14941153 | УДК: 94(571.1/.5)"1965/1985":329(47+57) | DOI: 10.24158/fik.2017.12.34
Текст научной статьи Динамика качественных изменений в составе номенклатурных кадров аппарата городских и районных комитетов КПСС в Сибири (вторая половина 1960-х - первая половина 1980-х гг.)
Отстранение в октябре 1964 г. Н.С. Хрущева от власти знаменовало собой новый поворот к консервативной модели кадровой политики в КПСС. Обозначенный в начале 1960-х гг. курс на кардинальное и регулярное обновление руководящих кадров КПСС в короткий срок заместился новыми практиками, которые выражали бережное отношение к номенклатурным функционерам в случае их соответствия конъюнктурным требованиям. Принципиальные новации в кадровой политике были озвучены уже на XXIII съезде КПСС в марте 1966 г. Именно тогда Л.И. Брежнев отметил, что «на подборе, выдвижении и воспитании кадров отрицательно сказались проводившиеся в последние годы частые перестройки и реорганизации партийных, советских и хозяйственных органов. Они, как правило, сопровождались неоправданной перестановкой и сменяемостью кадров, что порождало у работников неуверенность, мешало им проявлять в полной мере свои способности, создавало почву для безответственности» [2]. Тенденции стабилизации кадрового корпуса на всех уровнях власти проявились уже во второй половине 1960-х гг.
Данная тема получала отражение как в историко-партийной, так и в современной отечественной историографии. В 1970–1980-е гг. по истории КПСС защищались диссертации, в которых доказывались тезисы о поступательном совершенствовании кадровой политики и положительных качественных изменениях в составе номенклатуры. Недостатки кадровой политики представлялись историкам оборотной стороной ее достижений. Так, например, по мнению А.Д. Горбула, увеличение в партийном и советском аппарате количества специалистов промышленности и сельского хозяйства имело наряду с положительными и отрицательные аспекты, со- стоящие в «возобладании технократических методов руководства» [3]. Автор с позиций исследователя времен перестройки видел «перекосы» и «деформации» в кадровой политике периода «застоя», которые проявились в минимизации демократических начал, отсутствии гласности, критики и самокритики снизу. Очевидно, что такой подход демонстрировал сложившееся в историографии на тот момент времени убеждение в способности кадровой политики КПСС к самосовершенствованию при незыблемости самого номенклатурного механизма [4]. На периферии исследовательских задач находился вопрос о том, когда и при каких условиях в составе руководящих кадров проявили себя негативные изменения, связанные с замедлением сменяемости и «закупоркой» каналов продвижения.
Современная отечественная историография пытается отвечать на эти вопросы, анализируя сложившиеся тенденции в разных регионах страны. На примере Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа фундаментальное исследование «социальных сдвигов» в правящих группах региональной номенклатуры провели В.П. Мохов и его коллеги. Авторы коллективной монографии приходят к выводу, что в период середины 1960-х – середины 1980-х гг. курс на стабилизацию кадрового состава номенклатуры вступил в несоответствие с возникшими в стране проблемами, которые требовали иного управленческого и образовательного потенциала [5]. В номенклатуре увеличивался состав работников старших возрастных групп, наблюдались четкая дифференциация по управленческим стратам и снижение внутригрупповой вертикальной и горизонтальной мобильности.
Очевидным достижением историографии можно назвать и формирование внутренней периодизации эпохи «кадрового застоя», критерием которой становятся качественные изменения в составе номенклатуры регионального и местного уровней. По мнению В.П. Мохова, для субрегиональных (местных) руководителей самый спокойный период связан с отрезком 1975– 1984 гг. [6]. Именно с середины 1970-х гг. удалось достичь относительно высокого общеобразовательного уровня в секретарском корпусе городских и районных комитетов КПСС и сформировать определенные требования к компетентности функционеров. В этот период резко снижается количество работников, освобожденных от должностей по негативным причинам [7, с. 21]. При этом исследователи обращают внимание на позитивные аспекты формирования и функционирования технократического стиля руководства. Используя его, региональные и местные функционеры находили понимание в отраслевых министерствах и ведомствах, способствовали ускорению решения социально-экономических проблем территорий [8]. По подсчетам В.А. Айрапетова, к 1980 г. количество специалистов-практиков в партийном аппарате в два раза превысило число профессиональных партийных работников [9, с. 9]. Сделанные в историографии выводы позволяют предполагать, что кадровый состав органов КПСС на местах в период второй половины 1960-х – середины 1980-х гг. прежде всего выполнял задачи индустриальной модернизации, приспосабливаясь к заданным на уровне ЦК КПСС требованиям.
Постепенно было сформировано несколько трендов кадровой политики. Их можно проиллюстрировать на материалах Сибири, регионы которой в этот период интенсифицируют развитие своего индустриального потенциала. Во-первых, в процессе обновления кадров требовалось соблюдать баланс сил – то, что в сталинское время называлось «правильным сочетанием старых и молодых кадров». При регулярном обновлении должностных групп специалистов (инструкторов), которых зачастую рассматривали как кадровый резерв, формировалась установка на сохранение эффективно работающих руководителей городских и районных руководителей партийных организаций. Результаты не заставили себя долго ждать. Первый заместитель заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС Н.А. Вороновский, выступая в июне 1967 г. на пленуме Омского обкома КПСС, заявил, что «отмена регламентации обновления при выборах руководящих партийных органов благоприятно сказалась на закреплении опытных партийных кадров» [10].
Второй важный тренд проявил себя в повсеместном и резком росте количества работников с высшим образованием. Эта установка звучала еще в выступлениях Н.С. Хрущева и активно реализовывалась на практике. Например, в Иркутской областной партийной организации на 1 января 1959 г. среди секретарей горкомов и райкомов с высшим образованием было лишь 45 %, а на 1 января 1966 г. – уже 86 %. При этом подавляющее большинство получили инженерно-техническое и сельскохозяйственное образование, 40,9 % имели и дипломы высшей партийной школы [11]. Однако показатели по отношению к другим группам номенклатуры выглядели значительно скромнее и снижали средний уровень образования. В 1968 г. около 54 % работников номенклатуры Алтайского крайкома КПСС не имели высшего образования, за 1967 г. сменилась пятая часть работников, входящих в номенклатуру крайкома КПСС [12].
Очевидно, что, несмотря на общие качественные изменения, которые распространялись на все регионы, имелись и свои особенности. В Новосибирской области по состоянию на конец 1970 г. среди секретарей горкомов и райкомов партии с высшим образованием было 94 %. Учитывая профиль области, в составе этой должностной группы было 3 кандидата наук, 60 % имели высшее политическое образование, 67,5 % имели дипломы инженеров и других специалистов народного хозяйства. 41 % находились в возрасте до 40 лет и 2/3 имели стаж работы свыше трех лет [13]. Такой высокий удельный вес работников с партийно-политическим образованием объяснялся наличием в Новосибирске высшей партийной школы.
Повышение образовательного уровня и политика «закрепления» кадров снизила динамику обновления номенклатуры. Установка на замедление сменяемости сказалась на увеличении среднего возраста работников городских и районных комитетов КПСС: в Тюменской областной партийной организации в 1970 г. в секретарском корпусе лиц моложе 40 лет стало 47,5 %, в то время как в 1966 г. было 65,4 % [14]. Во второй половине 1960-х гг. эти результаты не вызывали негативных оценок со стороны регионального руководства, но рассматривались как сигнал к усилению кадровой ротации. Потребность в ней видели и на уровне Политбюро и Секретариата ЦК КПСС.
На XXIV съезде КПСС в марте 1971 г. вновь было отмечено повышение требований к кадрам. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев в отчетном докладе заявил: «Нам нужны люди, сочетающие высокую политическую сознательность с хорошей профессиональной подготовкой, способные со знанием дела решать вопросы развития экономики и культуры, владеющие современными методами управления» [15]. На местах эту задачу связывали прежде всего с необходимостью повышения удельного веса лиц с высшим образованием в аппарате партийных и советских органов. Ставилась задача по скорейшему замещению всех секретарских должностей в горкомах и райкомах КПСС дипломированными специалистами.
Еще одна установка была связана с совершенствованием системы продвижения кадров в партийном аппарате. Источники его пополнения сокращались, формировалось несколько распространенных карьерных траекторий, которые снижали вероятность кадровых ошибок. Очень часто в аппарат городских и районных комитетов КПСС выдвигались бывшие секретари соответствующих комитетов ВЛКСМ. В 1972 г. в Новосибирской области из 40 первых секретарей горкомов и райкомов партии 8 (20 %) имели опыт руководства городскими и районными комсомольскими организациями [16].
К середине 1970-х гг. в горкомах и райкомах КПСС регионов Сибири значительно увеличилась прослойка инженерно-технических специалистов. Был взят курс на тотальное замещение вакансий работниками с высшим образованием. По состоянию на январь 1976 г., 97,7 % секретарей горкомов, райкомов партии в Алтайском крае имели высшее образование. В составе секретарей 83 % специалистов народного хозяйства, из них каждый третий являлся специалистом сельского хозяйства, каждый шестой имел опыт руководящей работы свыше пяти лет. Резкое увеличение процентных показателей в среднем по аппарату можно видеть в таблице 1.
Таблица 1 - Общеобразовательный уровень работников горкомов и райкомов КПСС в Алтайском крае в 1970-е гг., % [17]
|
Уровень образования |
||||
|
высшее |
неполное высшее |
среднее |
неполное среднее |
|
|
На 1 января 1971 г. |
49,2 |
7,3 |
40,1 |
3,3 |
|
На 1 января 1977 г. |
77,9 |
6,9 |
14,7 |
0,4 |
Несколько ниже был образовательный уровень в составе инструкторского корпуса в городских и районных комитетах КПСС: только 77 % имели высшее и неоконченное высшее образование [18]. В Новосибирской областной партийной организации по состоянию на 1 января 1977 г. высшее и неоконченное высшее образование имели 60,7 % инструкторов горкомов и райкомов КПСС, среднее – 38,3 % и неоконченное среднее – 1 % [19]. Таким образом, в сравнении с Алтайским краем уровень подготовленности инструкторского состава здесь был значительно ниже. Проведенная в 1980 г. проверка из ЦК КПСС показала отсутствие положительной динамики: в инструкторском корпусе горкомов и райкомов партии лиц с высшим образованием насчитывался 61 %, при этом в двух районах этот показатель был в два раза ниже [20].
Повсеместно отмечалась в отчетах и фиксировалась тенденция к повышению среднего возраста инструкторов в аппаратах горкомов и райкомов КПСС. В пояснительной справке заведующего сектором учета руководящих кадров Иркутского обкома КПСС Толмачева заведующему отделу организационно-партийной работы П.Я. Семенову от 23 марта 1972 г. отмечалось, что «партийным органам на местах необходимо больше беспокоиться о подборе молодых коммунистов для работы инструктора, с перспективой их роста» [21]. На момент составления отчета 141 инструктор горкомов и райкомов КПСС (55,5 %) находился в возрасте до 35 лет, в то время как в 1970 г. – 56,4 %, а до 30 лет – 14,9 и 19 % соответственно. Таким образом, усиливалась возрастная когорта инструкторов от 36 до 40 лет – с 11,3 до 15,7 %.
Объяснить повышение среднего возраста инструкторов можно как общим замедлением сменяемости кадров в партийном аппарате, так и снижением общей мотивации молодых коммунистов-производственников к переходу на работу в партийный аппарат. На работу инструкторами в местные комитеты КПСС специалисты с производства из-за неизбежного снижения зарплаты шли неохотно. Первый секретарь Тюменского обкома КПСС Б.Е. Щербина еще в 1965 г. обращал внимание ЦК КПСС на эту диспропорцию: если рядовой инженер на предприятиях объединения «Тюменьнефтегаз» поручал зарплату до 202 р., в геологоразведочных экспедициях - от 300 до 357 р., то в Ханты-Мансийском окружкоме КПСС инструктор получал 156, заместитель заведующего - 182 и заведующий отделом - 195 р. [22].
К середине 1970-х гг. сложилась диспропорция в общеобразовательном уровне между руководителями и специалистами партийного аппарата на местах. Если в секретарском корпусе были достигнуты 100 %-е показатели по высшему образованию, то среди инструкторов имелись даже лица со средним общим образованием. Так, в Омской области по состоянию на июль 1975 г. все секретари горкомов и райкомов партии имели высшее образование, тогда как в 1971 г. -только 94,7 %, а в 1965 г. - 82 % [23]. На 6,1 % увеличилось число специалистов промышленности и сельского хозяйства высшей квалификации, 59 % первых секретарей имели высшее партийнополитическое образование, а 10 % имели как высшее специальное, так и высшее партийно-политическое образование [24]. Однако при этом значительно ниже был общеобразовательный уровень в составе должностных групп инструкторов горкомов и райкомов Омской областной партийной организации: немногим более 40 % имели высшее образование, при этом более 1/5 из них находились в возрасте старше 40 лет. Это означало, что руководящие должности в аппарате горкомов и райкомов ограничивались в потенциальном резерве.
Противоречивые установки кадровой политики критиковались на местах. Например, при обсуждении вопроса «О работе с резервом кадров» на общем собрании парторганизации Омского обкома КПСС 23 июля 1975 г. с тревогой отмечалось: «...большой урон наносит застой кадров. Он особенно недопустим в партийных органах. Но он, к сожалению, у нас есть. В настоящее время многие секретари и вторые секретари райкомов партии работают по 8, 10 и более лет, не продвигаются сами и не дают роста другим - молодым, перспективным» [25]. В докладе назывались примеры, когда опытные работники хорошо проявили себя в занимаемой должности, но не могли быть выдвинуты на вышестоящие должности, поскольку возраст приближался к 50 годам. Складывалась патовая ситуация: и выдвигать нельзя, и освобождать не за что. Тенденция к сокращению сменяемости номенклатурных кадров наблюдалась повсеместно: в Новосибирском горкоме КПСС по состоянию на июль 1976 г. около 80 % работников трудилось более 3 лет. За 1975 г. сменяемость составила 11,6 %, за 1 -е полугодие 1976 г. - только 5,7 % [26].
К концу 1970-х гг. сложившиеся традиции сохранились. Эффективность кадровой политики связывалась с неуклонным ростом процентных показателей по уровню образования и стабилизации кадрового состава. В 1979 г. процент работников горкомов и райкомов КПСС в Алтайском крае с высшим образованием повысился до 85,7 [27]. На прежнем уровне оставался средний возраст ответственных работников, который составлял 39 лет [28]. В Томской области к февралю 1980 г. все 66 секретарей горкомов и райкомов партии имели высшее образование, 34 из них окончили технические и сельскохозяйственные вузы, 26 (39 %) - высшие партийные школы. Значительно уменьшилась сменяемость: если за 1971–1975 гг. состав секретарей горкомов и райкомов КПСС обновился на 81 %, то за 1976-1979 гг. - только на 40 %. Из 35 сменившихся секретарей 15 выдвинуты на большую работу, 5 направлены на укрепление отстающих участков, 4 - на учебу [29].
После достижения 100 %-го показателя по численности секретарей горкомов и райкомов партии с высшим образованием возникла новая установка - расширение прослойки лиц с партийно-политическим образованием. По состоянию на апрель 1984 г., в Омской областной партийной организации высшее партийно-политическое образование получили 68 % секретарей горкомов и райкомов, однако в среде заведующих отделами и председателей партийных комиссий этот показатель был значительно ниже - только 35 % [30].
Следует заметить, что динамика сменяемости различалась в зависимости от должностных групп и отраслей работы. Очевидно, что обновление кадров было выше среди советских и хозяйственных руководителей. В конечном итоге это отражалось на усредненных показателях. Отделы организационно-партийной работы крайкомов и обкомов КПСС регулярно готовили справки по анализу статистических отчетов горкомов и райкомов КПСС об исполнении номенклатуры, качественном составе и сменяемости кадров. По состоянию на 1 января 1977 г., в номенклатуру горкомов, райкомов КПСС Алтайского края входило 20 107 работников (наблюдается сокращение по сравнению с 1 января 1976 г., было 20 191). Вакантными оставались 385 должностей, укомплектованность составляла 98,5 %. В 1976 г. сменилось 3 429 руководящих работников, что составляло 17,3 % (в 1975 г. - 18,1 %). Из числа сменившихся было выдвинуто на большую работу 512 человек (14,9 %), направлено на укрепление отстающих участков работы - 58 (1,6), на учебу - 26 (0,7), освобождены как несправившиеся и скомпрометировавшие себя 207 человек, по другим причинам - 2 018 (58,8 %) [31].
В справке сектора учета кадров отдела организационно-партийной работы Алтайского крайкома КПСС, составленной в декабре 1978 г., отмечалась тревога за большую сменяемость партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных кадров. В течение трех лет сменилось 45 % работников, входящих в номенклатуру краевого комитета партии, из них 5 % освобождены как несправившиеся с работой и скомпрометировавшие себя. Особенно велика была сменяемость секретарей горкомов и райкомов партии, которая составила 55,6 %, а заведующих отделами горкомов, райкомов партии – 59 % [32]. Основными причинами большой текучести кадров являлись отсутствие резерва в горкомах и райкомах партии, ошибки в подборе и расстановке функционеров.
К этому времени отлаженной технологией выдвижения кадров стало направление работников горкомов и райкомов КПСС на работу в аппарат региональных комитетов КПСС. Однако далеко не все бывшие районные руководители (инструкторами отделов в крайкомы и обкомы КПСС рекомендовались секретари и заведующие отделами горкомов и райкомов партии) могли адаптироваться к работе в новых условиях. В марте 1981 г. на партийном собрании аппарата Алтайского крайкома партии вторым секретарем крайкома В.Т. Мищенко было отмечено, что за три года сменяемость ответственных работников по аппарату крайкома составила 51 %: «Есть определенная часть инструкторов, которые не меняются много лет. Стабильная часть составляет 60 %, а 40 % “крутятся”. И заведующим отделами надо думать не о том, куда сбыть этого человека, а о том, как научить его работать в аппарате краевого комитета партии» [33].
Имелись и другие источники выдвижения. По состоянию на апрель 1982 г., в аппарате Алтайского крайкома КПСС насчитывалось 83 инструктора. Стаж работы у 20 человек исчислялся до 1 года, у 35 – от 1 года до 3 лет. Источники выдвижения были следующие: 29 инструкторов (35 %) были выдвинуты с партийной работы, 15 – с комсомольской и профсоюзной, 27 (около 1/3) пришли в аппарат с производства, без опыта партийной работы. Как отмечал заворг крайкома В.А. Сафронов, «не случайно многие инструкторы отраслевых отделов не могут глубоко проанализировать работу райкомов партии и парткомов предприятий и внести соответствующие коррективы в их деятельность» [34].
В первой половине 1980-х гг. сочетание принципов стабилизации кадрового состава с повышением его образовательного уровня привело к явным негативным результатам. Об этом красноречиво свидетельствовали цифры. Так, в сентябре 1983 г. второй секретарь Алтайского крайкома КПСС И.Е. Бережняк на партийном собрании коммунистов аппарата Алтайского крайкома КПСС сетовал: «идет необратимый процесс естественного старения кадров. Средний возраст первых секретарей райкомов, горкомов партии по краю составляет 46,9 года, вторых – 42,1, секретарей – 41,5, председателей горрайисполкомов – 46 лет. О каком же резерве можно говорить из числа вторых секретарей и председателей горрайисполкомов?» [35].
Выходом из ситуации могла стать регулярная ротация с использованием возможностей направления партийных функционеров на хозяйственную, советскую, профсоюзную и научную работу. Интенсивное обновление в должностной группе секретарей городских и районных комитетов КПСС проводилось в первой половине 1980-х гг. В Новосибирской областной партийной организации только с 1981 по 1984 г. было заменено 43 % руководителей. Средний возраст сократился на 3 года и составил 44 года. Средний возраст инструкторов райкомов и горкомов КПСС стал составлять около 35 лет [36]. Однако эти показатели не меняли общей картины: к периоду перестройки кадровый корпус номенклатуры горкомов и райкомов партии подошел с высоким уровнем образования, но без очевидных перспектив карьерного роста. Этот результат был следствием порочной установки на стабилизацию кадров, которая создала множество «тромбов» на уровне ЦК КПСС, краевых и областных комитетов партии. Исторический опыт показывает, что кадрам партийного аппарата требовались периодическое перемещение в другие ведомственные системы и регулярная сменяемость, закрепленная в нормативных документах.
Ссылки и примечания:
-
1. Статья подготовлена при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда «Социальные трансформации сибирской номенклатурной элиты ВКП(б)-КПСС: факторы, динамика, последствия (1945–1991)». Проект № 16-01-00240а.
-
2. Коммунистическая партия Советского Союза. XXIII съезд. 29 марта – 8 апреля 1966 г. Стенографический отчет. В 2 т. Т. I. М., 1966. С. 90.
-
3. Горбул А.Д. Осуществление кадровой политики КПСС на Украине в 1945–1970 гг.: опыт, уроки : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Киев, 1989. С. 31.
-
4. Печерица В.Ф. Деятельность КПСС по подбору, подготовке и воспитанию партийных кадров на Дальнем Востоке (1961–1986) : автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1990. С. 27.
-
5. Социальные сдвиги в правящих группах региональной номенклатуры 1921–1991 гг. (на материалах Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа) / В.П. Мохов [и др.]. Пермь, 2008. С. 218.
-
6. Мохов В.П. Динамика сменяемости лидеров городов и районов Пермской области как отражение эволюции советского общества (1945–1990 гг.) // Век уходящий: история Прикамья по архивным документам : тез. науч.-практ. конф. (Пермь, 30 нояб. 2000 г.). Пермь, 2000. С. 55–56.
-
7. Белоногов Ю.Г., Мазука А.А. Динамика негативной экскорпорации субрегиональных руководителей Молотовской (Пермской) области в 1945–1976 гг. // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2014. № 2. С. 12–22.
-
8. Коновалов А.Б. Формирование и функционирование номенклатурных кадров органов ВКП(б) – КПСС в регионах Сибири (1945–1991) : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Кемерово, 2006. С. 50.
-
9. Айрапетов В.А. Модели системных взаимосвязей между кадровой политикой, механизмами элитного рекрутирования и качеством управленческих кадров СССР (1945–1982) // Вестник Тамбовского университета. Серия «Политические науки и право». 2016. Т. 2, вып. 4 (8). С. 5–11.
-
10. ЦДНИОО (Центр документации новейшей истории Омской области). Ф. 17. Оп. 1а. Д. 318. Л. 157.
-
11. ГАНИИО (Государственный архив новейшей истории Иркутской области). Ф. 127. Оп. 100. Д. 4. Л. 80.
-
12. ГААК (Государственный архив Алтайского края). Ф. П-382. Оп. 1. Д. 59. Л. 16.
-
13. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П-4. Оп. 34. Д. 728. Л. 38.
-
14. ГАСПИТО (Государственный архив социально-политической истории Тюменской области). Ф. 124. Оп. 202. Д. 3. Л. 82.
-
15. Коммунистическая партия Советского Союза. XXIV съезд. Стенографический отчет. 30 марта – 9 апр. 1971 г. В 2 т.
-
16. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 75. Д. 143. Л. 63.
-
17. ГААК. Ф. П-1. Оп. 125. Д. 201. Л. 9.
-
18. ГААК. Ф. П-382. Оп. 1. Д. 96. Л. 14.
-
19. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 85. Д. 15. Л. 56.
-
20. Положение стало выправляться к середине 1980-х гг. По состоянию на 1 января 1985 г., лиц с высшим образованием в составе инструкторского корпуса горкомов и райкомов КПСС стало 81,8 %. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 96. Д. 135. Л. 106.
-
21. ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 90. Д. 6. Л. 3.
-
22. ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 179. Д. 79. Л. 56.
-
23. ЦДНИОО. Ф. 473. Оп. 1. Д. 149. Л. 4, 55.
-
24. Там же. Л. 4.
-
25. Там же. Л. 13.
-
26. ГАНО. Ф. П-408. Оп. 1д. Д. 36. Л. 92.
-
27. ГААК. Ф. П-1. Оп. 127. Д. 208. Л. 1.
-
28. Там же. Л. 3.
-
29. ЦДНИТО (Центр документации новейшей истории Томской области). Ф. 607. Оп. 10. Д. 107. Л. 41.
-
30. ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 125. Д. 123. Л. 10.
-
31. ГААК. Ф. П-1. Оп. 125. Д. 201. Л. 1–2.
-
32. ГААК. Ф. П-1. Оп. 127. Д. 47. Л. 5.
-
33. ГААК. Ф. П-382. Оп. 1. Д. 157. Л. 25.
-
34. Там же. Д. 159. Л. 23.
-
35. Там же. Д. 161. Л. 104.
-
36. ГАНО. Ф. П-305. Оп. 1. Д. 418. Л. 23.
Т. I. М., 1972. С. 125.
Список литературы Динамика качественных изменений в составе номенклатурных кадров аппарата городских и районных комитетов КПСС в Сибири (вторая половина 1960-х - первая половина 1980-х гг.)
- Коммунистическая партия Советского Союза. XXIII съезд. 29 марта -8 апреля 1966 г. Стенографический отчет. В 2 т. Т. I. М., 1966. С. 90.
- Горбул А.Д. Осуществление кадровой политики КПСС на Украине в 1945-1970 гг.: опыт, уроки: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Киев, 1989. С. 31.
- Печерица В.Ф. Деятельность КПСС по подбору, подготовке и воспитанию партийных кадров на Дальнем Востоке (1961-1986): автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1990. С. 27.
- Социальные сдвиги в правящих группах региональной номенклатуры 1921-1991 гг. (на материалах Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа)/В.П. Мохов . Пермь, 2008. С. 218.
- Мохов В.П. Динамика сменяемости лидеров городов и районов Пермской области как отражение эволюции советского общества (1945-1990 гг.)//Век уходящий: история Прикамья по архивным документам: тез. науч.-практ. конф. (Пермь, 30 нояб. 2000 г.). Пермь, 2000. С. 55-56.
- Белоногов Ю.Г., Мазука А.А. Динамика негативной экскорпорации субрегиональных руководителей Молотовской (Пермской) области в 1945-1976 гг.//Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2014. № 2. С. 12-22.
- Коновалов А.Б. Формирование и функционирование номенклатурных кадров органов ВКП(б) -КПСС в регионах Сибири (1945-1991): автореф. дис. … д-ра ист. наук. Кемерово, 2006. С. 50.
- Айрапетов В.А. Модели системных взаимосвязей между кадровой политикой, механизмами элитного рекрутирования и качеством управленческих кадров СССР (1945-1982)//Вестник Тамбовского университета. Серия «Политические науки и право». 2016. Т. 2, вып. 4 (8). С. 5-11.
- ЦДНИОО (Центр документации новейшей истории Омской области). Ф. 17. Оп. 1а. Д. 318. Л. 157.
- ГАНИИО (Государственный архив новейшей истории Иркутской области). Ф. 127. Оп. 100. Д. 4. Л. 80.
- ГААК (Государственный архив Алтайского края). Ф. П-382. Оп. 1. Д. 59. Л. 16.
- Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П-4. Оп. 34. Д. 728. Л. 38.
- ГАСПИТО (Государственный архив социально-политической истории Тюменской области). Ф. 124. Оп. 202. Д. 3. Л. 82.
- Коммунистическая партия Советского Союза. XXIV съезд. Стенографический отчет. 30 марта -9 апр. 1971 г. В 2 т. Т. I. М., 1972. С. 125.
- ГАНО. Ф. П-4. Оп. 75. Д. 143. Л. 63.
- ГААК. Ф. П-1. Оп. 125. Д. 201. Л. 9.
- ГААК. Ф. П-382. Оп. 1. Д. 96. Л. 14.
- ГАНО. Ф. П-4. Оп. 85. Д. 15. Л. 56.
- Положение стало выправляться к середине 1980-х гг. По состоянию на 1 января 1985 г., лиц с высшим образованием в составе инструкторского корпуса горкомов и райкомов КПСС стало 81,8 %. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 96. Д. 135. Л. 106.
- ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 90. Д. 6. Л. 3.
- ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 179. Д. 79. Л. 56.
- ЦДНИОО. Ф. 473. Оп. 1. Д. 149. Л. 4, 55.
- ГАНО. Ф. П-408. Оп. 1д. Д. 36. Л. 92.
- ГААК. Ф. П-1. Оп. 127. Д. 208. Л. 1.
- ЦДНИТО (Центр документации новейшей истории Томской области). Ф. 607. Оп. 10. Д. 107. Л. 41.
- ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 125. Д. 123. Л. 10.
- ГААК. Ф. П-1. Оп. 125. Д. 201. Л. 1-2.
- ГААК. Ф. П-1. Оп. 127. Д. 47. Л. 5.
- ГААК. Ф. П-382. Оп. 1. Д. 157. Л. 25.
- ГАНО. Ф. П-305. Оп. 1. Д. 418. Л. 23.