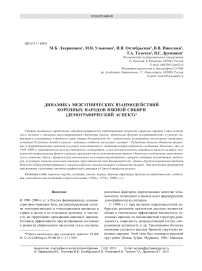Динамика межэтнических взаимодействий коренных народов Южной Сибири (демографический аспект)
Автор: Лавряшина М.Б., Ульянова М.В., Октябрьская И.В., Николаев В.В., Толочко Т.А., Дружинин В.Г.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 1 (53), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена определению этнодемографических характеристик тюркских коренных народов Саяно-Алтайского региона: в динамике рассматриваются структура браков, этническая брачная ассортативность и уровень метисации у кумандинцев Алтайского края, шорцев Кемеровской обл., алтай-кижи, кумандинцев, теленгитов, тубаларов, челканцев Республики Алтай и хакасов - качинцев, койбалов, кызыльцев, сагайцев - Республики Хакасии. Выявлены временные и территориальные различия на уровне межэтнического смешения внутри избранных сообществ. Показано, что за 1940-2009 гг. практически во всех исследованных сообществах, за исключением южных алтайцев и хакасов-сагайцев, частота однонациональных браков снизилась при росте числа межэтнических браков. Отмечены особенности межэтнического смешения: браки с пришлым (русскоязычным) населением преобладают у северных алтайцев (кумандинцев, тубаларов, челканцев), хакасов-кызыльцев и шорцев горно-таежной зоны Кемеровской обл.; браки с другими коренными народами Южной Сибири распространены у хакасов-койбалов, хакасов-качинцев и абаканских шорцев. Эти тенденции формируют перспективы в развитии этнодемографической ситуации в Саяно-Алтайском регионе.
Коренные народы, алтайцы, хакасы, шорцы, брачная структура, брачная ассортативность, метисация, межэтнические контакты в трех поколениях (1940-х, 1970-х, 2000-х гг.)
Короткий адрес: https://sciup.org/14522961
IDR: 14522961 | УДК: 575.17:599:9
Текст научной статьи Динамика межэтнических взаимодействий коренных народов Южной Сибири (демографический аспект)
В 1990-2000-х гг. в России формировалась административно-правовая база, регламентирующая сегодня этнополитические и этносоциальные процессы в стране в целом и ее отдельных регионах, в частности, на территориях проживания коренных народов. Условием эффективного прогнозирования состояния и развития аборигенного населения стало изучение различных факторов, определяющих качество человеческого потенциала и прежде всего формирующих демографическую ситуацию.
С 1990-х гг. при изучении народонаселения сибирских регионов предметом анализа являются: общая и генетически эффективная численность отдельных народов, их половозрастная структура, рождаемость, смертность, репродуктивный состав, миграционная активность и др. Традиционно большое внимание уделяется анализу брачной структуры коренных народов. Этой теме был посвящен широкий круг работ [Боева, Зубри, Мурашко, 1981; Абанина,
1982; Казаченко, 1986; Кривоногов, 1998; Гольцова, Абанина, 2000; Октябрьская и др., 2004; Кучер и др., 2004; Кучер, Тадинова, Пузырев, 2005; Баранцева, 2008; Волжанина, 2010; Еремина, Кучер, 2010; Ульянова, 2010; Николаев, 2012; и др.], в которых отмечается усиление тенденции метисации в среде коренного населения в XIX–ХХ вв. Неоднократно эта тема рассматривалась на материалах Саяно-Алтайского региона.
Тюркоязычные народы Саяно-Алтая представляют собой родственные в лингвистическом, этногенетическом и этнокультурном аспектах сообщества, становление которых происходило в период средневековья в ходе взаимодействия центрально-азиатского, угро-самодийского и енисейского миров. Алтайцы, хакасы, шорцы, теленгиты, кумандинцы, тубалары и челканцы формировались (при этом неоднократно меняли свой этнополитический статус) в рамках административно-политического структурирования и социокультурного преобразования сибирских провинций Российского государства XVII–ХХ вв.
Поначалу спонтанная, затем целенаправленная внутренняя (сословно-инородческая) политика особенно активно влияла на ход этнических процессов в регионе после его официального вхождения в состав России в XVIII в. Принятый в 1822 г. «Устав об управлении инородцев» М.М. Сперанского, опираясь на сложившиеся традиции в управлении территориями и коренными народами, кодифицировал их особый статус в качестве сословия инородцев. Система деления коренных жителей на оседлых и кочевых с признанием их права на собственный образ жизни и внутреннее устройство нашла выражение в сложной структуре управления Саяно-Алтайского региона с выделением степных дум на территории Енисейского края, семи алтайских дючин* и двух Чуйских вол. в границах Центрального и Южного Алтая, инородческих волостей в Северном Алтае и Кузнецком крае. Реорганизация этой системы началась в конце XIX в. и была ориентирована на унификацию административно-политического устройства.
Административно-территориальные и политические преобразования ХХ в. закрепили изменения на этнической карте Южной Сибири. Локализация этнических сообществ в административных границах волости, округа, уезда (часто в иноэтничном окружении), а затем автономной области (района), позже республики интенсифицировало их консолидацию с параллельно происходящими процессами модернизации и изменения качественных (в т.ч. демографических) характеристик.
До конца ХIХ в. родовые подразделения алтай-кижи были объединены в дючины, теленгиты составляли население 1-й и 2-й Чуйских вол. Эти территории входили в состав Бийского окр. Томской губ. Алтайцы в переписи 1897 г. учитывались как «татары или калмыки Бийского уезда» (26 084 чел.). В официальной статистике фигурировала «алтайская группа томских тюрков» [Патканов, 1911, с. 65]. Согласно данным переписи 1897 г., теленгиты учитывались как «татары» и «урянхайцы».
По отношению к кочевникам Южного и Центрального Алтая, благодаря научным изысканиям В. Радлова, В. Вербицкого и других исследователей второй половины ХIХ в., стал использоваться термин «южные алтайцы». «Северными алтайцами» называли коренное население предгорий Северного Алтая. Этнонимы «кумандинцы», «тубалары» и «чел-канцы» активно использовались и в литературе, и в документообороте ХIX в., что отражало понимание границ проживания, а также языкового культурного своеобразия (комплексная промысловая экономика с элементами земледелия и проч.) «северных алтайцев». Территория предгорий Алтая являлась зоной активной крестьянской колонизации и христианизации, что определяло особенности развития ее коренного населения.
В 1897 г. жители Северного Алтая учитывались как «татары Бийского уезда». В документообороте фигурировали также термины «кумандинские татары» (с учетом «быстрянцев»), «лебединские татары», «черневые татары». В конце ХIХ в. общая численность аборигенного населения предгорий (расселенного в пределах Быстрянской, Верхне- и Нижне-Кумандин-ской, Кондомо-Итиберской, Кондомо-Елейской, То-гульской 2-й половины и Тагапской 2-й инородческих волостей, а также Сростинской и Яминской крестьянских волостей), видимо, превосходила 15–16 тыс. чел., а этнические границы между кумандинцами, тубала-рами, челканцами и шорцами были расплывчаты [Николаев, 2012].
«Этническое строительство» в границах Саяно-Алтая, активно развивавшееся в ХIХ в., продолжилось в рамках советских административно-политических преобразований. Национальная политика в 1920-е гг. предполагала выделение автономных народов: алтайцев, кумандинцев, черневых татар (ту-баларов), челканцев, хакасов, шорцев и др., включенных в перечень народов СССР при проведении переписи 1926 г.
В ходе советской реструктуризации с образованием Ойратской (1922 г.) / Горно-Алтайской автономной области (1948 г.) этноним «алтайцы» приобрел обобщенный характер. Однако тенденции общеалтайской консолидации не стали определяющими. В 1991 г. была провозглашена Горно-Алтайская ССР, в 1992 г. – Республика Горный Алтай, в 1993 г. – Республика Алтай. В 2000 г. статус коренных малочисленных народов Сибири юридически был признан за куман-динцами, тубаларами, челканцами, теленгитами. Перепись 2002 г. (впервые после 1926 г.) учитывала отдельно кумандинцев (3 114 чел.), телеутов (2 650 чел.), теленгитов (2 399 чел.), тубаларов (1 565 чел.), челкан-цев (855 чел.). С ними численность алтайцев достигала 77 822 чел. [Всероссийская перепись…].
При переписи 2010 г. в со став алтайцев вновь были включены теленгиты (3 712 чел.), тубалары (1 965 чел.), челканцы (1 181 чел.), собственно алтайцы (67 380 чел.) и отдельно выделены куман-динцы (2 892 чел., проживающие преимущественно в границах Алтайского края) и телеуты (2 643 чел., проживающие преимущественно в границах Кемеровской обл.). Согласно материалам последней переписи, общая численность алтайцев в РФ составляла 74 238 чел., теленгитов – 3 712, кумандинцев – 2 892, тубаларов – 1 965, челканцев – 1 181 чел. Среди населения Республики Алтай, численность которого достигала 206 168 чел., алтайцев (включая тубаларов, челканцев и теленгитов) было 68 814 чел. [Итоги Всероссийской переписи…].
В ХIХ в. территория современной Хакасии относилась к Енисейской губ. и делилась на степные думы: Качинскую, Койбальскую, Сагайскую Минусинского окр. и Кызыльскую Ачинского окр., в границах которых проживали этнические сообщества качинцев, сагайцев, бельтиров, койбалов, кы-зыльцев. В 1858 г. территория Койбальской степной думы вошла в состав Сагайской. В 1864 г. зону ка-чинцев выделили в самостоятельную Абаканскую инородную управу. В 1893 г. Сагайскую и Кызыльскую степные думы преобразовали в Аскизскую и Кызыльскую инородные управы. В переписи 1897 г. учитывались «качинцы», «кизильцы», «бельтиры», «сагайцы» и другие группы, позднее объединенные в составе хакасов; их совокупная численность составляла 41 229 чел. [Москаленко, 2004]. На протяжении ХIХ в. происходила консолидация этих групп в единый народ с сохранением субэтнической идентичности. До конца ХIХ – начала ХХ в. в документах и литературе для коренного населения региона использовались также наименования «минусинские, абаканские, ачинские татары».
В апреле 1917 г. состоялся съезд автохтонного населения Минусинского и Ачинского уездов Енисейской губ. и Кузнецкого окр. Томской губ., который утвердил самоназвание «хакасы» (по китайскому названию енисейских кыргызов в VII–Х вв.). Это предопределило становление регионального тюркского сообщества. В ходе советской реструктуризации в 1930 г. была образована Хакасская АО, преобразованная в 1991 г. в Хакасскую ССР, а в 1992 г. – в Республику Хакасия. Согласно материалам переписи 2010 г., в РФ насчитывалось 72 959 хакасов, в Республике Хакасии, общая численность населения которой составляла 532 403 чел., хакасами себя назвали 63 643 чел., или 12,1 % народонаселения (в 1939 г. – 16,8 %) [Итоги Всероссийской переписи…].
Этноним «шорцы» был предложен В.В. Радловым в 1861 г. для обозначения коренного населения горнотаежных районов Кузнецкого края по крупным родам ак-шор, кара-шор, сары-шор. В переписи 1897 г. оно учитывалось как «татары Бийского уезда» и составляло 11 674 чел. В 1926–1939 гг. существовал ГорноШорский национальный район. После его ликвидации шорцы сохраняли свою этническую (языковую и культурную) обособленность, они проживали в плотном иноэтничном окружении в границах Кемеровской обл. главным образом в пределах горно-таежной зоны. Этноним «шорцы» стал активно использоваться в качестве обобщенного самоназвания целостного народа во второй половине ХХ в. По данным Всероссийской переписи 2010 г., общая численность шорцев составила 12 888 чел., в границах Кемеровской обл. – 10 672, при общей численности населения области 2 763 135 чел. [Там же].
На современном этапе для всех коренных народов Саяно-Алтайского региона характерны различные формы межэтнических взаимодействий, в т.ч. метисации. Причины различий обусловлены динамикой генетико-демографических процессов, особенностями расселения и административно-политического устройства, исторической практикой межэтнических коммуникаций, характером современных межкультурных взаимодействий и т.д.
В данном исследовании использованы два подхода к изучению брачной структуры и интенсивности метисации коренных тюркоязычных народов Са-яно-Алтая. Первый – это анализ территориальных различий внутри сообществ: алтай-кижи (куладин-ская и онгудайская группы), теленгитов (улаганская и кош-агачская группы), кумандинцев (красногорские, солтонские и турочакские), тубаларов (арты-башские, кебезенские и ыныргинские), хакасов-ка-чинцев (бейские, орджоникидзевские и ширинские), хакасов-сагайцев (аскизские и таштыпские), шорцев (матурские, кызыл-шорские, усть-анзасские и усть-кабырзинские), основанный на сведениях похозяй-ственных книг. Частота одно- и межнациональных браков анализировалась в трех поколениях – 1940-х, 1970-х, 2000-х гг. Уровень межэтнического смеше- ния определялся показателем интенсивности метисации (t*) [Gavalli-Sforza, Bodmer, 1971], позволяющим прогнозировать число поколений, в ходе смены которых популяция достигнет определенного уровня смешения (М), при условии сохранения современного уровня межэтнических браков. Второй подход предусматривал проведение анализа межэтнических различий: сравнение ситуации в среде алтай-кижи, теленгитов, кумандинцев, тубаларов и челканцев, этнолокальных групп хакасов (качинцев, койбалов, кызыльцев и сагайцев) и шорцев (абаканских шорцев, шорцев горно-таежной зоны Кемеровской обл.). Источниковой базой служили данные архивов районных отделов ЗАГС о заключении браков. Как и при анализе территориальных особенностей, этническая специфика брачной структуры коренных обитателей Саяно-Алтая изучалась в трех поколениях – 1940-х, 1970-х, 2000-х гг. Интенсивность и характер смешения оценивались через частоту одно- и межэтнических браков. Выделяли два типа смешения: браки коренных народов Саяно-Алтая с пришлым населением (тип 1) и браки между представителями разных коренных народов (тип 2). Уровень межэтнического смешения определялся показателем этнической брачной ассортативности (А′) [Курбатова, Победоносцева, 1996], который характеризует предпочтение в выборе брачного партнера определенной этнической принадлежности.
Территориальные особенности брачной структуры и темпов метисации
По характеру демографических процессов выделяются коренные тюркоязычные сообщества северных предгорий Алтая. Современный ареал кумандинцев расположен на юго-востоке Алтайского края и на северо-западе Республики Алтай. Кумандинские села находятся вверх по течению р. Катуни (Красногорский р-н Алтайского края), ниже впадения р. Лебеди в р. Бию (Солтонский р-н Алтайского края), и в междуречье Бии и Катуни (Турочакский р-н Республики Алтай). Обследованием были охвачены все вы-шеобозначенные территории. При изучении архивов Красногорской, Калташинской, Усть-Кажинской и Новозыковской сельских администраций (далее с/а) Красногорского р-на Алтайского края, Нижне-Ненинской, Солтонской, Сузопской и Кумандин-ской с/а Солтонского р-на Алтайского края, Арты- башской, Кебезенской, Тондошенской и Турочак-ской с/а Турочакского р-на Республики Алтай скопированы 4 943 записи (1 712, 1 828, 1 403 соответственно для трех районов), содержащие сведения о кумандинских семьях.
Исследованием прослежены в динамике (1940– 2009 гг.) общие тенденции брачной структуры ку-мандинцев солтонской, красногорской и турочакской локальных популяций. Выявлены однонаправленное снижение частоты однонациональных браков и увеличение частоты межэтнических браков кумандин-цев с представителями иных этнических групп. Было установлено, что распространенность межэтнических браков и темпы метисации у кумандинцев трех изученных территорий различны (табл. 1).
Среди кумандинцев Алтайского края на протяжении всего изученного периода частота однонациональных браков в группе Красногорского р-на оказалась несколько выше, чем в группе соседнего Солтонского р-на. Выявленные различия определяются особенностями локализации популяций в границах районов, ставших зонами русской колонизации, направленностью миграционных потоков, характером транспортной и экономической инфраструктуры.
У кумандинцев Турочакского р-на Республики Алтай уровень межэтнических браков значительно выше, чем у кумандинцев Алтайского края. В поколениях 1940-х и 1970-х гг. в этой группе частота межэтнических браков статистически достоверно превышала таковую в группах красногорских и солтон-ских кумандинцев: поколения 1940-х гг. – Т = 5,98 и 5,37; p < 0,001; 1970-х гг. – Т = 9,19 и 8,60; p < 0,001. Значимые различия зарегистрированы и в поколении 2000-х гг. красногорской и турочакской кумандин-ских популяций (Т = 2,38; p < 0,05). Высокий уровень межэтнического смешения турочакских кумандинцев обусловлен, вероятно, дисперсностью их расселения в полиэтничных селах Северного Алтая среди близких в генетическом, лингвистическом и этнокультурном плане коренных малочисленных народов – тубаларов и челканцев.
Современный ареал тубаларов находится в северо-восточной части Республики Алтай, в селах Чой-ского и Турочакского р-нов (по левобережью Бии, по рекам Большая Иша, Малая Иша, Сары-Кокша, Кара-Кокша, Пыжа, Уймень, по северо-западному побережью Телецкого оз. и прилегающим к ним территориям). При изучении архивов Артыбашской, Кебезенской и Турочакской с/а Турочакского р-на, Ыныргинской с/а Чойского р-на Республики Алтай были скопированы 5 140 записей (354, 2 559, 1 650 и 577 соответственно), содержащих сведения о туба-ларах и членах их семей.
У тубаларов, как и у кумандинцев, в 1940–2009 гг. частота однонациональных браков снизилась, а меж-
Таблица 1. Структура браков и интенсивность метисации в локальных популяциях кумандинцев и тубаларов*
|
Народ |
Локальная популяция |
Поколение |
Число браков |
Браки, % |
t, 50 % |
|
|
моноэтнические |
межэтнические ** |
|||||
|
Кумандинцы |
1. Красногорская |
1940-х |
98 |
89,80 ± 3,18 |
11,20 ± 3,183 |
5,8 |
|
1970-х |
83 |
77,11 ± 4,61 |
22,89 ± 4,613 |
2,7 |
||
|
2000-х |
99 |
31,32 ± 4,66 |
68,68 ± 4,663 |
0,6 |
||
|
2. Солтонская |
1940-х |
71 |
87,32 ± 3,95 |
12,68 ± 3,953 |
5,1 |
|
|
1970-х |
122 |
61,48 ± 4,13 |
29,52 ± 4,133 |
2,0 |
||
|
2000-х |
140 |
25,0 ± 3,66 |
75,0 ± 3,66 |
0,5 |
||
|
3. Турочакская |
1940-х |
89 |
52,81 ± 5,29 |
48,19 ± 5,291, 2 |
1,1 |
|
|
1970-х |
101 |
20,79 ± 4,03 |
79,21 ± 4,031, 2 |
0,8 |
||
|
2000-х |
74 |
16,22 ± 4,28 |
83,78 ± 4,281 |
0,8 |
||
|
Тубалары |
4. Артыбашская |
1940-х |
– |
– |
– |
– |
|
1970-х |
– |
– |
– |
– |
||
|
2000-х |
72 |
31,94 ± 5,49 |
68,06 ± 5,49 |
0,6 |
||
|
5. Кебезенская |
1940-х |
175 |
84,57 ± 2,73 |
15,43 ± 2,73 |
4,1 |
|
|
1970-х |
153 |
71,24 ± 3,66 |
28,76 ± 3,666 |
2,0 |
||
|
2000-х |
129 |
43,41 ± 4,36 |
56,59 ± 4,366 |
0,8 |
||
|
6. Ыныргинская |
1940-х |
12 |
83,33 ± 10,76 |
16,67 ± 10,76 |
3,8 |
|
|
1970-х |
45 |
37,78 ± 7,23 |
62,22 ± 7,235 |
0,7 |
||
|
2000-х |
65 |
26,15 ± 5,45 |
73,85 ± 5,455 |
0,5 |
||
*По данным похозяйственных книг.
**Здесь и в табл. 2-5 индекс показывает наличие статистически значимых различий (Т-критерий) между локальными популяциями и соответствует порядковому номеру конкретной популяции.
этнических - увеличилась. Статистически значимые различия отмечены между локальными популяциями кебезенских и ыныргинских тубаларов при сравнении поколений 1970-х и 2000-х гг. Уровень межэтнических браков у тубаларов Ыныргинской с/а Чойского р-на оказался в 2 раза выше, чем у тубаларов Кебезен-ской с/а Турочакского р-на: 1970-е гг. - Т = 4,13; p < 0,01; 2000-е гг. - Т = 2,47; p < 0,05. Выявленные различия в темпах межэтнического смешения кебе-зенских и ыныргинских тубаларов объясняются, по всей видимости, разной долей коренного населения в структуре локальных сообществ (8,2 % Чойском р-не и 20,9 % в Турочакском [Макошева, Макошев, Апены-шева, 2006, с. 19]).
Что касается тубаларов Артыбашской с/а Туро-чакского р-на, то в поколении 2000-х гг. по уровню межэтнических браков они заняли промежуточное положение между ыныргинскими и кебезенскими ту-баларами. Территория Артыбашской с/а находится в рекреационной зоне вблизи Телецкого оз. Активное развитие туризма делает ее экономически привлекательной и стимулирует приток мигрантов из других районов Республики Алтай и различных регионов РФ (Новосибирская, Московская обл. и др.).
Для локальных популяций алтай-кижи характерны различия по уровню межэтнического смешения и показателям метисации (табл. 2). Современный ареал алтай-кижи расположен в центральной части Республики Алтай, в Усть-Канском, Усть-Коксинском и Он-гудайском р-нах. При тотальном изучении архивов Куладинской и Онгудайской с/а Онгудайского р-на Республики Алтай были скопированы 6 400 записей (3 072 и 3 328 соответственно), содержащих сведения о семьях алтай-кижи. Для моноэтничной Куладин-ской с/а 1970-х и 2000-х гг. частота однонациональных браков и величина показателя индекса метисации ( t ) у алтай-кижи (табл. 2) ниже, чем для полиэтничной Онгудайской с/а того же района: 1970-е гг. - T = 5,59; р > 0,001; 2000-е гг - T = 4,19; р > 0,001. Отметим, что полученные в ходе настоящего исследования показа-
Таблица 2. Структура браков и интенсивность метисации в локальных популяциях алтай-кижи * и теленгитов **
|
Народ |
Локальная популяция |
Поколение |
Число браков |
Браки, % |
t, 50 % |
|
|
моноэтнические |
межэтнические |
|||||
|
Алтай-кижи |
1. Куладинская |
1940-х |
117 |
96,58 ± 1,68 |
3,42 ± 1,68 |
19,9 |
|
1970-х |
146 |
99, 32 ± 0,68 |
0,68 ± 0,682 |
101,6 |
||
|
2000-х |
276 |
96,01 ± 1,17 |
3,89 ± 1,172 |
17,4 |
||
|
2. Онгудайская |
1940-х |
227 |
96,92 ± 1,15 |
3,08 ± 1,15 |
22,2 |
|
|
1970-х |
180 |
83,33 ± 2,77 |
16,67 ± 2,771 |
3,8 |
||
|
2000-х |
306 |
86,59 ± 1,95 |
13,41 ± 1,951 |
4,8 |
||
|
Теленгиты |
3. Кош-агачская |
1940-х |
19 |
68,42 ± 10,66 |
31,58 ± 10,66 |
1,8 |
|
1970-х |
55 |
70,0 ± 6,17 |
30,0 ± 6,17 |
1,9 |
||
|
2000-х |
78 |
84,61 ± 4,08 |
15,39 ± 4,084 |
4,1 |
||
|
4. Улаганскиая |
1940-х |
50 |
78,0 ± 5,86 |
22,0 ± 5,86 |
2,8 |
|
|
1970-х |
168 |
72,02 ± 3,46 |
27,98 ± 3,46 |
2,1 |
||
|
2000-х |
283 |
61,13 ± 2,72 |
29,87 ± 2,723 |
1,9 |
||
*По данным похозяйственных книг.
**По данным отделов ЗАГС.
тели частоты однонациональных и межэтнических браков для алтай-кижи с. Кулада Онгудайского р-на близки к значениям, приведенным в исследовании А.Н. Кучер, В.Н. Тадиновой и В.П. Пузырева [2005].
Современный ареал теленгитов локализован в наиболее отдаленных от г Горно-Алтайска - столичного центра Республики Алтай - Кош-Агачском и Улаган-ском р-нах. Сравнение структуры браков в локальных популяциях теленгитов было проведено на основе данных архивов районных отделов ЗАГС о заключении браков (табл. 2). Примечательно, что настоящим исследованием только в локальных популяциях телен-гитов зафиксирована разнонаправленная временная динамика структуры браков. У теленгитов Улаганско-го р-на в ряду поколений (1940-х, 1970-х, 2000-х гг.) выявлено небольшое нарастание частоты межэтнических браков до 29,9 %, а у теленгитов Кош-Агачско-го р-на, наоборот, снижение - с 31,9 до 15,4 %. Значимый уровень различия частоты межэтнических браков в исследованных локальных популяциях установлен в поколении 2000-х гг.: Т = 2,94; p < 0,01. Причина выявленных различий определяется, возможно, этнодемо-графической структурой регионального сообщества. В народонаселении Улаганского р-на представлены теленгиты, алтай-кижи и русские. Суммарная доля алтайцев (алтай-кижи и теленгитов) достигает 73,5 %, русские составляют 20,2 %. В структуре населения Кош-Агачского р-на удельный вес казахов 54,8 %, алтайцев - 42, русских - 2 %. [Макошева, Макошев, Апенышева, 2006, с. 21].
Процессы межэтнического смешения были исследованы и в локальных популяциях хакасов. В настоящее время хакасы компактно проживают в трех из восьми районов Республики Хакасии - Аскиз-ском, Таштыпском и Ширинском. Еще в двух районах - Алтайском и Орджоникидзевском - имеются нас еленные пункты, в которых хакасы составляют большинство или около половины населения. В составе хакасов сагайцы компактно проживают в южной части республики, в Аскизском и Таштып-ском р-нах, качинцы и кызыльцы - в во сточных Ор-джоникидзевском и Ширинском р-нах, койбалы -в Бейском р-не.
Источником информации для проведения сравнительного анализа брачной структуры сагайцев послужили данные архивов районных отделов ЗАГС о заключении браков (табл. 3). Частота однонациональных браков во всех трех поколениях (1940-х, 1970-х, 2000-х гг.) у сагайцев Аскизского р-на выше, чем у сагайцев Таштыпского р-на: 1940-е гг. - Т = 3,93; p < 0,001; 1970-е гг - Т = 2,56; p < 0,05; 2000-е гг. -Т = 6,06; p < 0,001. Различия в уровне метисации обусловлены, по-видимому, тем, что в Аскизском р-не концентрация коренного населения почти в 3 раза выше, чем в Таштыпском (31,6 и 11,9 % соответственно). Таким образом, особенности брачной структуры и интенсивность процессов межэтнического смешения таштыпских сагайцев определяются относительно небольшой численностью и смешанным составом коренного населения (сагайцы, качинцы, абаканские
Таблица 3. Структура браков и интенсивность метисации в локальных популяциях этнолокальных групп хакасов – сагайцев * и качинцев **
|
Этноло-кальная группа |
Локальная популяция |
Поколение |
Число браков |
Браки, % |
t, 50 % |
|
|
моноэтнические |
межэтнические |
|||||
|
Сагайцы |
1. Аскизская |
1940-х |
462 |
80,50 ± 1,84 |
19,50 ± 1,842 |
3,2 |
|
1970-х |
504 |
72,02 ± 1,99 |
27,98 ± 1,992 |
2,1 |
||
|
2000-х |
716 |
74,02 ± 1,64 |
25,98 ± 1,642 |
2,3 |
||
|
2. Таштыпская |
1940-х |
66 |
56,06 ± 6,11 |
43,94 ± 6,111 |
1,2 |
|
|
1970-х |
344 |
63,66 ± 2,59 |
36,37 ± 2,591 |
1,5 |
||
|
2000-х |
253 |
52,57 ± 3,14 |
47,43 ± 3,141 |
1,1 |
||
|
Качинцы |
3. Бейская |
1940-х |
162 |
79,01 ± 3,20 |
20,99 ± 3,20 |
2,9 |
|
1970-х |
129 |
72,09 ± 3,94 |
27,91 ± 3,94 |
2,1 |
||
|
2000-х |
78 |
56,41 ± 5,61 |
43,59 ± 5,61 |
1,2 |
||
|
4. Орджоникидзевская |
1940-х |
50 |
82,0 ± 6,35 |
28,0 ± 6,35 |
2,1 |
|
|
1970-х |
220 |
65,45 ± 3,20 |
34,54 ± 3,20 |
1,6 |
||
|
2000-х |
130 |
61,54 ± 4,27 |
38,56 ± 4,27 |
1,4 |
||
|
5. Ширинская |
1940-х |
80 |
87,50 ± 4,67 |
22,50 ± 4,67 |
2,7 |
|
|
1970-х |
176 |
71,59 ± 3,40 |
28,41 ± 3,40 |
2,1 |
||
|
2000-х |
101 |
62,38 ± 4,82 |
37,6 ± 4,82 |
1,5 |
||
*По данным отделов ЗАГС.
**По данным похозяйственных книг.
шорцы) на фоне численного преобладания пришлого, в основном русского, населения.
При тотальном изучении архивов Куйбышевской с/а Бейского р-на, Новомарьясовской с/а Ор-джоникидзевского р-на и Спиринской с/а Ширин-ского р-на Республики Хакасии были скопированы 5 338 записей (1 896, 2 086 и 1 356 соответственно), содержащих сведения о качинцах и членах их семей. Статистически значимые различия в структуре браков локальных популяций качинцев за исследованный период (1940–2009 гг.) не выявлены. Тем не менее при сопоставлении полученных оценок частоты однонациональных, смешанных браков и показателя метисации в трех локальных популяциях качинцев – бейской, орджоникидзевской и ширинской – были прослежены некоторые различия. У качинцев поколения 2000-х гг. наиболее высокая частота межэтнических браков отмечена в Бейском р-не, а в поколении 1970-х гг. – в Орджоникидзевском. У качинцев в Ширинском р-не за весь исследованный интервал частота однонациональных браков несколько выше, чем в Бейском и Ор-джоникидзевском.
Современный ареал шорцев захватывает юг Кемеровской обл. – территории Таштагольского, Новокузнецкого и Междуреченского р-нов. Согласно «Переч- ню мест компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» [Распоряжение…], абаканские шорцы компактно проживают на территориях Балыксинской с/а, Бискамжинской п/а Аскизского р-на, Анчульской и Матурской с/а Таш-тыпского р-на Республики Хакасии. Однако, как показал анализ генеалогических карт шорцев, проживающих на территориях Балыксинской с/а и Бискам-жинской п/а Аскизского р-на, более 60 % опрошенных являются переселенцами в первом – третьем поколении с территории Кемеровской обл. На основании полученных данных было сделано заключение, что исследование шорского населения данных территорий в контексте анализа брачной структуры абаканских шорцев не представляется целесообразным.
При подготовке данной работы при тотальном изучении архивов Усть-Анзасского, Кызыл-Шорского, Усть-Кабырзинского территориальных управлений (ТУ) Таштагольского р-на Кемеровской обл. и Ма-турской с/а Таштыпского р-на Республики Хакасии были скопированы 8 033 записи (3 147, 1 699, 2 520 и 667 соответственно), содержащие сведения о шорских семьях. Во все периоды (1940-е, 1970-е, 2000-е гг.) в локальных субпопуляциях шорцев горно-таежной
Таблица 4. Структура браков и интенсивность метисации в локальных популяциях этнолокальных групп шорцев горно-таежной зоны и абаканских *
|
Шорцы |
Локальная популяция |
Поколение |
Число браков |
Браки, % |
t, 50 % |
|
|
моноэтнические |
межэтнические |
|||||
|
Горно-таежной зоны |
1. Усть-анзасская |
1940-х |
234 |
97,01± 1,11 |
2,99 ± 1,112, 3, 4 5,41± 1,862, 3, 4 |
22,8 |
|
1970-х |
148 |
94,59 ± 1,86 |
12,5 |
|||
|
2000-х |
41 |
92,68 ± 4,06 |
7,32 ± 4,062, 3, 4 |
9,1 |
||
|
2. Кызыл-шорская |
1940-х |
42 |
85,71 ± 5,40 |
14,29 ± 5,401 |
4,5 |
|
|
1970-х |
88 |
78,41 ± 4,39 |
21,59 ± 4,391 |
2,8 |
||
|
2000-х |
48 |
70,83 ± 6,56 |
29,17 ± 6,561, 4 |
2,0 |
||
|
3. Усть-кабырзин- |
1940-х |
102 |
87,25 ± 3,30 |
12,75 ± 3,301 |
5,1 |
|
|
ская |
1970-х |
74 |
78,38 ± 4,78 |
21,62 ± 4,781 |
2,8 |
|
|
2000-х |
69 |
68,12 ± 5,61 |
31,82 ± 5,611, 4 |
1,8 |
||
|
Абаканские |
4. Матурская |
1940-х |
55 |
76,36 ± 5,73 |
23,64 ± 5,731 |
2,57 |
|
1970-х |
37 |
72,97 ± 7,30 |
27,03 ± 7,301 |
2,20 |
||
|
2000-х |
34 |
47,06 ± 8,56 |
52,94 ± 8,561, 2, 3 |
0,92 |
||
*По данным похозяйственных книг.
зоны Кемеровской обл., в отличие от шорцев абаканских, преобладают однонациональные браки (табл. 4). Однако анализ динамики таких браков показал устойчивое снижение их частоты в ряду поколений.
Наиболее высокая частота однонациональных браков выявлена у шорцев населенных пунктов Усть-Анзасского ТУ, которые расположены в 120 км от районного центра г. Таштагола, в горной-таежной зоне. Центральные поселки Усть-Кабырзинского и Кызыл-Шорского ТУ находятся на более близком расстоянии (65 и 32 км соответственно) от районного центра. Относительная изоляция шорцев Усть-Ан-засского территориального управления, по-видимому, обусловливает более низкую частоту межэтнических браков в их среде, по сравнению с группами кызыл-шорских, усть-кабырзинских и матурских абаканских шорцев: 1940-е гг. – Т = 2,04; p < 0,05; Т = 2,80; p < 0,01 и Т = 3,54; p < 0,001; 1970-е гг. – Т = 3,40; p < 0,001; Т = 3,16; p < 0,01 и Т = 2,87; p < 0,01; 2000-е гг. – Т = 2,83; p < 0,01; Т = 3,54; p < 0,001 и Т = 4,81; p < 0,001. Что касается абаканских шорцев, то высокий уровень межэтнических браков среди них можно объяснить небольшой численностью группы в Республике Хакасии (1 150 чел., или 0,22 % населения республики) и плотным иноэтничным окружением с преобладанием хакасов.
На основе анализа показателя метисации на современном этапе наиболее высокие его значения выявлены у северных алтайцев (см. табл. 1). Менее чем через поколение (через 15 лет) 50 % солтонских ку- мандинцев и ыныргинских тубаларов будут нести в своем геноме «чужие» гены (t = 0,50). Близкие значения интенсивности метисации получены для ма-турских абаканских шорцев (t = 0,92; 27,6 года) (см. табл. 4). Следующие в этом ряду – таштыпские сагайцы (t = 1,1; 33 года) и бейские качинцы (t = 1,2; 36 лет; см. табл. 3). Что касается популяций алтайцев, то протекающие в их среде процессы метисации менее активны. Наиболее высокий показатель метисации на современном этапе у теленгитов Улаган-ского р-на (t = 1,9; 57 лет; см. табл. 2), хотя он почти в 2 раза ниже, чем у других исследованных локальных популяций коренных народов Саяно-Алтая.
Межэтнические различия структуры браков и интенсивности метисации
Анализ структуры браков и особенностей межэтнического смешения коренных народов Северного Алтая на протяжении трех поколений (1940-х, 1970-х, 2000-х гг.) показал, что у кумандинцев, тубаларов и челканцев частота однонациональных браков невысока (табл. 5), а в структуре межнациональных браков преобладают браки с пришлыми народами (тип 1). Крайне низкий уровень однонациональных браков отмечен у кумандинцев, для которых характерны интенсивные и глубокие во времени процессы метисации за счет браков с пришлым русскоязычным населени-
Таблица 5. Динамика показателей структуры браков в популяциях алтайцев, теленгитов, кумандинцев, тубаларов, челканцев, хакасов и шорцев *
У алтай-кижи и теленгитов в ряду поколений 1940-х, 1970-х, 2000-х гг. отмечен статистически значимый рост однонациональных браков (p < 0,05; табл. 5). В структуре межэтнических браков у этих народов преобладают браки с пришлым населением (тип 1). Однако их частота у поколения 2000-х гг. статистически значимо ниже (p < 0,05), чем у поколения 1940-х гг., и сегодня у обоих народов не превышает 15 %. Межэтнические браки с представителями других автохтонных народов региона (тип 2) у алтай-кижи и теленгитов в 1940-е гг. регистрировались с очень небольшой частотой (ок. 3 %); в 1970-е гг. они получили большее распространение (10–15 %), а в 2000-е гг. их частота вновь уменьшилась. Тем не менее в настоящее время у теленгитов браки данного типа встречаются почти в 2,5 раза чаще, по сравнению с алтай-кижи.
Среди этнолокальных групп хакасов – качинцев, койбалов, кызыльцев, сагайцев – высокий уровень однонациональных браков в настоящее время отмечен только в популяции сагайцев (67,48 %; табл. 5). Различия в структуре сагайских браков при сравнении поколений 1940-х, 1970-х и 2000-х гг. статистически значимы (p < 0,05). Среди межэтнических браков у са-гайцев лидируют браки с пришлым населением Республики Хакасии (28,02 %). Частота браков с представителями других этнолокальных групп хакасов невысока и не достигает 5 %. Антропонимикон (фонд фамилий) современных сагайцев включает более 70 % фамилий, восходящих к бельтырским и бирю-синским родам [Лавряшина, 2012, с. 38].
Остальные этнолокальные группы хакасов характеризуются очень высокой степенью метисации, но при этом находятся на разных стадиях процесса ассимиляции пришлыми народами (табл. 5). Наиболее глубоки и интенсивны процессы метисации у койбалов и кызыльцев. Однако если у койбалов основная доля межэтнических браков приходится на браки с другими этнолокальными группами хакасов, то у кызыль-цев значительная доля (55,0 %) принадлежит бракам с пришлым населением Хакасии.
У качинцев в поколении 1940-х гг. частота однонациональных браков отно сительно высока (55,14 %), но в поколении 2000-х гг. она не достигает даже 10 % в общей структуре браков. У этой группы почти 60 % составляют браки с представителями других этнолокальных групп хакасов (тип 2) и более 30 % – с пришлым (в основном русским) населением (тип 1). Выявленные различия в частоте одно- и межнациональных браков у качинцев в ряду поколений носят статистически значимый характер (p < 0,05).
У шорцев также отмечены статистически значимые различия (p < 0,05) частоты однонациональных и межэтнических браков в трех изученных поколениях (1940-х, 1970-х, 2000-х гг.). Как и следовало ожидать, у абаканских шорцев очень высокий уровень межэтнического смешения как за счет браков с пришлым населением (тип 1), частота которых в исследованный период колеблется в пределах 20–30 %, так и за счет межэтнического смешения с хакасами (тип 2).
Среди шорцев горно-таежной зоны Кемеровской обл. частота однонациональных браков в ряду поколений 1940-х, 1970-х, 2000-х гг. неуклонно падает, но в поколении 2000-х гг. остается относительно высокой (48,20 %), по сравнению с другими этническими сообществами Саяно-Алтайского региона. О значительном росте межнациональных браков у шорцев, который приходится на начало 1970-х гг., сообщает Г.М. Патрушева [1996]. Из межэтнических браков большее распространение получили браки с пришлым населением (тип 1). Частота браков с иными коренными народами Саяно-Алтая (тип 2) не превышает 7 %. Такая структура межэтнических браков шорцев горно-таежной зоны Кемеровской обл. объясняется тем, что основное окружение группы составляют пришлые народы.
Анализ значений индекс а этнической брачной ассортативности (A′) показал, что этническая принадлежность оказывает влияние на брачные предпочтения алтай-кижи, теленгитов и хакасов-сагай-цев (табл. 5). Во все исследованные интервалы (1940-е, 1970-е, 2000-е гг.) они заключали преимущественно эндогамные браки. У хакасов-койбалов и кызыльцев величина А′ среди исследованных автохтонных народов Саяно-Алтая минимальна (табл. 5), в популяции кумандинцев поколения 2000-х гг. не выявлено ни одного однонационального брака. Самые высокие значения A′ с тенденцией к росту в ряду поколений отмечены у хакасов-сагайцев, телен-гитов и алтай-кижи. У шорцев горно-таежной зоны Кемеровской обл., абаканских шорцев и тубаларов этническая брачная ассортативность, несмотря на существенное снижение, у поколения 2000-х гг. остается относительно высокой. Что касается кумандинцев, хакасов-койбалов и кызыльцев, то исследованиями структуры их браков за 1940–2009 гг. зафиксирован процесс метисации, имеющий тенденцию к нарастанию интенсивности.
Выводы
Проведенное исследование территориальных и межэтнических различий в структуре браков коренных народов Саяно-Алтая выявило разную степень гомогенности. Процессы межэтнического смешения наблюдаются во всех изученных сообществах; их интенсивность определяется совокупностью факторов (исторических, административно-политических, социокультурных и проч.). Наиболее глубокие процессы метисации отмечены у коренных народов Северного Алтая и Хакасии. Для кумандинцев и хакасов исторически характерна распространенность межэтнических браков. Так, уже в начале ХХ в. А.И. Ярхо отмечал сильную смешанность кумандинцев с пришлым русским населением [1947]. По данным по-хозяйственных книг 1930–1970 гг. сельских советов Северного Алтая, в среде коренного населения неуклонно увеличивалось число смешанных браков; порой они составляли более 50 % от общего числа браков [Николаев, 2012, с. 74–75]. Анализ официальной демографической статистики Красноярского края первой половины ХХ в. позволяет оценить частоту межнациональных браков у городских (24,7 %) и сельских (12,2 %) хакасов и констатировать, что в 1920–1940-е гг. она в 2 раза превышала общесоюзные показатели [Баранцева, 2008, с. 20].
Изучение этнической специфики структуры браков у коренных народов Саяно-Алтая выявило практически во всех исследованных сообществах, за исключением южных алтайцев и хакасов-сагайцев, снижение частоты однонациональных браков при росте межэтнических браков. Это свидетельствует о нарастании процессов метисации автохтонного населения и находит отражение в динамике показателей интенсивности метисации и этнической брачной ассортативности. Усиление темпов межэтнического смешения в 1940–2009 гг. отмечено у большинства коренных народов Саяно-Алтая. Подобные процессы определяют качественные характеристики человеческого потенциала региона и формируют тенденции в развитии этно-демографической ситуации на ближайшее будущее.
Авторы выражают искреннюю признательность руководителям и специалистам районных отделов и областных управлений, краевых и республиканских комитетов ЗАГС, а также руководителям и специалистам районных, област- ных, краевых и республиканских администраций за неоценимую помощь в организации и проведении исследования в Красногорском и Солтонском р-нах Алтайского края, Аскиз-ском, Бейском, Орджоникидзевском, Таштыпском и Ширин-ском р-нах Республики Хакасии, Кош-Агачском, Онгудай-ском, Турочакском, Улаганском и Чойском р-нах Республики Алтай, Таштагольском р-не Кемеровской обл.