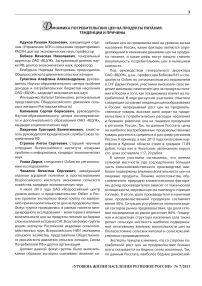Динамика потребительских цен на продукты питания в России: тенденции, причины
Автор: Бобков В.Н.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Актуальная тема
Статья в выпуске: 7 (185), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/143181809
IDR: 143181809
Текст статьи Динамика потребительских цен на продукты питания в России: тенденции, причины
4 июля 2013 года ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» и представительство Oxfam в России провели экспертную фокус-группу по выявлению причин волатильности цен на продовольствие. Фокус-группа проводилась в рамках проекта международного исследования – мониторинга влияния волатильности цен на продукты питания на бедные слои населения в странах СНГ. В состав фокус-группы вошли эксперты Российской академии сельскохозяйственных наук, Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, представители Общественного российского движения сельских женщин, Союза Потребителей РФ и других организаций.
Целями данной фокус-группы было выяснить, каким образом эксперты оценивают влияние ко- лебания цен на продовольствие на уровень жизни населения России, какие факторы являются определяющими в изменении динамики цен на продукты питания, и какие меры могут помочь снизить волатильность потребительских цен в нынешнем контексте.
Под руководством генерального директора ОАО «ВЦУЖ», д.э.н., профессора Бобкова В.Н. и специалиста Oxfam по региональным исследованиям в СНГ Дарьи Уховой, участники высказали свое видение динамики изменения цен на продукты питания в России и того, как эта динамика влияет на потребителей. В ходе дискуссии участники отметили следующие основные тенденции ценообразования в России: непрерывный рост цен на продовольственные товары, высокая доля затрат на продовольствие в потребительских расходах населения и большие различия цен на пищевую продукцию в регионах России. Так, по данным Росстата, цены на наиболее востребованные продовольственные товары разнятся в среднем в 6 раз среди регионов России. К примеру, в мае 2013 года килограмм картофеля в Курской области стоил в среднем 17,89 рубля, тогда как в Чукотском автономном округе его цена составляла 117, 29 рубля.
В целом участники согласились, что жители сельской местности (где сосредоточена большая часть сельскохозяйственного производства) наиболее подвержены влиянию волатильности цен на пищевые продукты. Помимо непостоянства, обусловленного природно-климатическими факторами, доход производителей зависит от технической оснащенности, мировых цен на пшеницу и горючее топливо. В итоге, доля производителя в конечной цене продовольственной продукции составляет менее 50%. Ситуация усугубляется монополизацией секторов рынка продовольствия, где доля сетевых посредников на рынке достигает 80%. Гендерная и возрастная структура населения села также делает сельскую местность наиболее подверженной негативному влиянию волатильности цен на благосостояние сельских жителей и сельскохозяйственных производителей.
Эксперты пришли к мнению, что со стороны потребителей рост цен на продовольствие больше всего сказывается на бедных слоях населения. Так, по данным Росстата, наиболее бедные домохозяй- ства тратят свыше 45% дохода на продовольствие, тогда как наиболее богатые – не более 17%. Рост цен на продукты питания оказывает влияние и на структуру потребления наиболее бедных слоев населения: более всего снижается потребление мясных продуктов (доля которых составляет до 30% в продовольственной корзине), снижаются и общее количество и качество потребляемой продукции.
Помимо драйверов роста цен на продовольствие и влияния волатильности цен на производителей и потребителей, участники фокус-группы обсудили возможные меры, принятие которых может привести к снижению волатильности потребительских цен на продукты питания в России. Так, эксперты единодушно отметили необходимость: 1) усиления государственной поддержки сельского хозяйства в целом, и малых фермеров, в частности; 2) повышения эффективности управления сельским хозяйством; 3) создания дополнительных рабочих мест и 4) развития инфраструктуры села. В числе мер, наиболее приоритетных для снижения негативного влияния волатильности цен на продовольствие на различные группы населения России, участниками фокус – группы были отмечены также необходимость адресной поддержки малых фермеров и сельского населения, повышения уровня взаимодействия государства и кооперативов, повышение эффективности труда в сфере сельского хозяйства, противодействие коррупции и другие.
Бобков В.Н.
– «Всероссийский центр уровня жизни» – научноисследовательская организация, была создана «на рубеже новой жизни», в 1991 году. Фактически, мы существуем двадцать с небольшим лет, и в настоящее время сформировались в качестве классического научно-исследовательского института. У нас 3 направления деятельности. Основное из них –на-учное. Мы ведем исследования по широкому кругу проблем, связанных с уровнем и качеством жизни. Второе наше направление – это образовательная деятельность: мы проводим повышение квалификации и профессиональную переподготовку по ряду социально-экономических программ, в основном, в области социальной политики, труда и занятости. Кроме того, у нас есть аспирантура и докторантура, работает диссертационный Совет. Третье наше направление – выпуск журнала «Уровень жизни населения регионов России», который входит в Перечень рецензируемых журналов ВАК, то есть публикация в журнале дает право на защиту докторских и кандидатских диссертаций. Суще- ствуют требования, сколько надо статей опубликовать в такого рода журналах, чтобы можно было защищаться. Один из последних выпусков журнала был посвящен проблеме труда и занятости. Мы открыли дискуссию о новой экономике труда.
Сегодняшний круглый стол (фокус-группа) посвящен вопросу роста цен на продовольственные продукты. Также как наши коллеги из международной организации Oxfam, деятельность которой направлена на изучение проблем снижения бедности и неравенства, мы занимаемся этими вопросами в аспекте изучения уровня жизни разных слоев населения, проводим мониторинг доходов и уровня жизни.
Как Вы понимаете, в основе потребительских корзин, которые определяют, сколько денег надо, чтобы обеспечить текущий уровень потребления, лежит продовольственная корзина, проблема продуктов питания. Конечно, прежде всего, мы интересуемся уровнем жизни наименее обеспеченных слоев населения и ведем мониторинг в отношении так называемых бедных – тех, кто имеет доходы ниже официально утвержденного прожиточного минимума, отслеживаем индексы потребительских цен на те продукты питания, которые входят в потребительскую корзину прожиточного минимума. Но на самом деле рост цен на продовольствие касается всех слоев населения, и мы отслеживаем это по потребительским корзинам всех слоев населения. Мы разработали четыре типа потребительских корзин: одна – для бедных, тех, кто имеет доходы ниже официального прожиточного минимума. Другие потребительские корзины и бюджеты более высокого достатка – это наши экспертные авторские разработки, которыми мы пользуемся очень широко в различных проектах, для того чтобы оценить положение различных социальных групп населения. Мы разработали потребительский бюджет, в основе которого лежит потребительская корзина социально приемлемого уровня потребления. Когда мы составили такой бюджет, то по деньгам получилось, примерно, три бюджета прожиточного минимума. То есть, чтобы минимальные основные потребности удовлетворить, надо примерно в три раза больше денег людям, которые скромно, на уровне минимальных потребностей могут прожить в течение всего жизненного цикла. Дело в том, что в корзине прожиточного минимума не предусмотрено питание вне дома, что особенно актуально в условиях крупного города. Нет совершенно каких-то средств для непредвиденных расходов. Еще много чего нет. Если все это учесть, плюс учесть возможности взаимоотношений с кредитной системой – без этого тоже сегодня жить очень сложно – получается, примерно, в три раза больше нужно денег для удовлетворения минимальных потребностей. Речь идет не о каких-то конкретных товарах, которые надо включить, а о самой модели жизни, которую надо заложить, чтобы человек мог, например, помолиться и поставить свечку, мог сходить в гости, сделать какой-то подарок другим, нести непредвиденные расходы, пользоваться возможностями потребительского кредита и др. Если закладывать такую модель жизни, то получается денег потребуется, примерно, в три раза больше.
Еще мы разработали бюджет среднего достатка, или среднего класса. Для него смоделирована своя потребительская корзина, на которую надо иметь в семь раз больше денег. Кроме потребительского бюджета среднего достатка разработан бюджет высокого достатка, составляющий, примерно, 11 прожиточных минимумов.
В основе всех этих видов потребительских бюджетов лежат потребительские корзины, а основой потребительских корзин являются продовольственные корзины. Конечно, там разные наборы, разное качество продуктов питания.
Таким образом, тема нашего сегодняшнего разговора касается абсолютно всех слоев населения. Этот вопрос очень актуален еще и потому, что сегодня социальная структура нашего общества – чрезвычайно неблагополучная. Мы проводим регулярный мониторинг по нашим стандартам – сравниваем доходы, которые люди тратят на потребление. При этом мы не берем денежные доходы полностью, а лишь ту их часть, которая тратится на покупки, потому что сбережение доходов, которые не тратятся на покупки, – это деньги, которые уходят в бюджет. К потребительским расходам добавляем денежную оценку натуральных льгот (к примеру, на детское питание в школах, которое может быть как платным, так и бесплатным) и денежную оценку потребления продуктов питания, которые могут производиться в личных подсобных хозяйствах и, соответственно, являются бесплатными. Таким образом, к потребительским расходам мы добавляем эти две группы условных денег и получаем доходы, используемые на потребление.
Цены потребительских корзин прожиточного минимума, социально приемлемого потребительского бюджета, бюджетов среднего и высокого достатка, сравниваются с доходами, используемыми на потребление, и выявляется 4 –е социальных слоя. Во-первых, наиболее нуждающиеся (данные по итогам 2011 года, которые впервые оглашаются) имеют потребление ниже потребительской корзины прожиточного минимума – 11 процентов. Во-вторых, примерно 58 процентов – это те, кто имеет потребление от одной потребительской корзины до трех. То есть, около 70 процентов населения страны не обеспечивают потребление на социально приемлемом уровне. Это уже плохая ситуация. Далее, до среднего слоя населения располагаются 27 процентов тех, кто потребляет выше социально приемлемого уровня, но ниже уровня средней обеспеченности, – от трех до семи корзин прожиточного минимума. И только 3 процента приходится на среднеобеспеченных и, около 1 процента, - на высокообеспеченные слои населения.
Последний момент: очень важно сегодня отслеживать продовольственную корзину, особенно прожиточного минимума, да и все другие, потому что, начиная с 2013 года вошла в действие новая методика расчета самого прожиточного минимума. До 2013 года прожиточный минимум рассчитывался по трем составляющим потребительской корзины: продовольственные товары, непродовольственные товары и платные услуги. Наше правительство сочло возможным упростить эту методику и взять за основу только динамику расходов на продовольственные товары. То есть продовольственные товары считаются в ценах, которые отслеживает Росстат, в ценах на товары – представители. Полученная денежная сумма умножается на два, к ней добавляются платежи и сборы и получается прожиточный минимум. То есть, фактически, сегодня динамика прожиточного минимума определя5ется исключительно динамикой цен на продовольствие. Все остальное там уже не учитывается. В данном случае я хочу подчеркнуть эту особенность, потому что государство исходит из того, что динамика цен на продовольствие прямо отражается на том, какая цифра прожиточного минимума в итоге получается. Поэтому сдерживающие компоненты здесь очень важны, и тема чрезвычайно актуальна.
Ухова Д.
– Еще раз добрый день! Как уже сказал Вячеслав Николаевич, я являюсь представителем организации Oxfam, работаю в московском офисе со странами СНГ, которыми занимается наша организация. Буквально два слова об организации: она была создана в 1942 году во время Второй мировой войны в Англии на базе Оксфордского университета, дабы помогать людям, страдающим в Греции. Тематика, которой мы занимаемся – это бедность и неравенство. Мы работаем в более чем 90 странах мира. Естественно, проблематика везде очень отличается. Одна из сквозных тем, которыми занимается наша организация на данный момент, – это вопросы продовольственной безопасности. И, собственно, тема нашей сегодняшней встречи находится в рамках данной проблемы. Юлия, наш менеджер программ, как раз работает над программой, связанной с продовольственной безопасностью, в рамках этого проекта и проводится наша сегодняшняя встреча.
Проект этот проходит не только в России. Он проходит в пяти странах: страны Южного Кавказа (Грузия, Армения и Азербайджан), Россия, а также Таджикистан. В Таджикистане мы сотрудничаем с WFP (Мировая продовольственная программа), которая тоже собирает фокус-группы. На данный момент мы проводили фокус-группы с потребителями продуктов в трех регионах России: в республике Алтай, Ивановской области и Москве. Беседы с экспертами – это логическое продолжение наших встреч с потребителями.
Гулюгина А.А.
Обращается к присутствующим с просьбой ознакомиться с подборкой статистики.
Я не случайно сделала основные социальноэкономические индикаторы уровня жизни населения первой таблицей. Здесь сконцентрированы основные показатели уровня жизни населения, которые говорят о том, как мы оцениваем уровень жизни нашего населения. Здесь среднедушевые показатели доходов: зарплата, пенсии и т.д. Если мы смотрим по численности бедного населения (населения с доходами ниже прожиточного минимума), то в 2012 году эта цифра составила 11 процентов. Это 15,6 миллиона человек. Конечно, это много. Если мы посмотрим в динамике, то с 2007 года динамика достаточно слабая: 13,3 процента в 2007 г. и 11 процентов в 2012 г. Кажется, правительство предпринимает большие усилия для того, чтобы побороть проблему бедности, однако, эта цифра не подошла даже к 10 процентам. Поэтому естественно возникает вопрос: а в чем причина? Посмотрите, среднедушевые доходы, показатель зарплаты, показатель пенсии – они все достаточно высокие. За этот период среднедушевые доходы выросли примерно на 2 процента, зарплата выросла, почти в три раза выросла пенсия. Тем не менее, показатель бедности продолжает оставаться до- статочно высоким. У нас, во ВЦУЖ принято оценивать уровень жизни с позиции покупательной способности населения, то есть когда рассматривается соотношение доходов и соответствующего показателя прожиточного минимума. В таблице данный показатель представлен. При таких сравнительно высоких темпах роста показателей доходов покупательная способность, то есть их соотношение с прожиточным минимумом, достаточно скромная. По среднедушевым доходам рост этого показателя не достиг даже 8 процентов. По зарплатам и пенсиям рост немного выше. Понятно, что на среднедушевом уровне большую роль играет показатель семейности. Когда есть дети, они снижают показатель доходности работающего населения.
Также хотелось бы особо обратить внимание на следующую таблицу «Региональная дифференциация в уровне потребления». По ней Вы увидите, что ситуация резко разнится по регионам. В регионах и уровень жизни, и социально-экономическое положение, и бедность абсолютно разные. Сегодня бедность в одних регионах может составлять около 7 процентов, а в других, – приближаться к 20 процентам. И это неслучайно. Обратите внимание, в таблице показаны максимальные значения. Есть социально значимые продукты питания, которые участвуют в расчете показателя бедности, прожиточного минимума. Мы видим, что по отдельным продуктам питания – картофель, овощи, лук репчатый – в 6 и более раз разнятся цены. Серьезно разнится уровень прожиточного минимума, доходы, отсюда и бедность носит не общероссийский, а региональный характер, серьезно зависит от того, какова ситуация в регионе, какие принимаются меры для того, чтобы повысить качество жизни в регионе. Как Вы знаете, и социальная защита у нас сегодня тоже носит региональный характер, и не всем и далеко не всегда идет помощь из центра по четко установленным правилам. Поэтому в регионах сейчас приходится определять, что надо делать для снижения уровня бедности.
Следующая таблица «Индексы цен в секторах экономики» достаточно наглядная. Если первый показатель – индекс потребительских цен – в 2012 году составил примерно 152 процента, посмотрите, как разные секторы экономики участвовали в этом повышении. Мы увидим, что индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в наименьшей степени влиял на общий рост цен. То есть он самый «скромный» из всех представленных здесь секторов экономики. Гораздо сильнее
Региональная дифференциация в уровне потребительских цен
В следующих двух таблицах «Индексы потребительских цен на отдельные продовольствен- ные товары» я выделила товары, цены на которые устойчиво растут. В первой таблице показана годовая динамика цен (2010 к 2011, 2011 к 2012, т.е. декабрь к декабрю), а в следующей таблице – пять месяцев этого года. Если мы сопоставим сами товарные позиции, то мы увидим, что у нас абсолютно устойчиво растут некоторые товарные позиции, и динамики на их снижение в последние годы мы не наблюдаем, хотя, казалось бы, у нас резкого рывка цен на продукты питания не наблюдается. Однако это сказывается на бедности, на качестве жизни, на доступности продуктов питания – а здесь мы говорим в большей степени о малообеспеченных слоях населения. Например, говядина (табл. 1) устойчиво росла в течение двух лет, в следующей таблице показано небольшое снижение, однако это пока 5 месяцев. Масло сливочное устойчиво растет, молоко питьевое устойчиво растет, хлеб и хлебобулочные изделия устойчиво растут – и это действительно превращается в серьезную проблему. Как мы уже сказали, сезонность практически не способствует снижению цен.
Я могла бы еще привести сопоставление цен на продовольственные товары 2007 и 2012 годов. Если мы цены 2007 года возьмем за 100 процентов, то в 2012 году мы увидим, что общая динамика составила 155,9 процента, но при этом темпы роста цен на кондитерские изделия, хлеб, хлебобулочные изделия, крупу, бобовые, масло сливочное, мясо и птицу за этот длительный период значительно выше. Опять же, вопрос упирается в бедность: как побороть бедность? Как способствовать более быстрому снижению бедности, и какие меры для этого нужно предпринять? Безусловно, из этих данных мы видим, что большое значение имеют продукты питания. Опять-таки со всеми этими современными методологиями расчета прожиточного минимума, когда преобладающее значение имеет продовольственная корзина, 50 процентов черты бедности занимают продукты питания по стоимости, и уже от этой величины начинаются рассчитываться расходы на непродовольственные товары и услуги. Итак, процентов достаточно много, поэтому продуктам питания нужно уделять много внимания, если мы хотим повысить качество жизни и уровень жизни.
Бобков В.Н.
– Коллеги, я предлагаю, чтобы все желающие высказались по этому вопросу. Как я понял из Вашего выступления, никаких взрывных процессов в этой сфере за последние годы мы не наблюдаем, тем не менее, по ряду групп продовольственных товаров, на которых сказывается рост цен, особенно, на бедных слоях населения, ситуация ухудшается.
Безбудько Н.В.
– Проблема бедности начинается в семьях, потому что в связи с повышением цен закрылись предприятия, закрылись школы, детские сады, и женщины вынуждены были оставить работу. А если женщина в семье не работает, то семейный бюджет страдает очень ощутимо. Взять, к примеру, фермерские хозяйства. В последние годы вместе со скачками цен снизилась урожайность и, соответственно, доход простой сельской семьи. Вот некоторые показатели сельского хозяйства Ростовской области (я вначале расскажу на примере Ростовской области, а потом на примере одного района Ростовской области). Валовый сбор в 1990-е годы составил 9,665 тысяч тонны, в 1998 году – 2,719, в 2008 – 9,127 и в 2012 – 6,300. Вы видите, какие скачки? Что касается цен, то они настолько непостоянны, что фермер не может сориентироваться, как ему планировать свою работу: что сеять, что будет необходимо. Нет рынка сбыта, а если нет рынка сбыта, то он не знает, как его продукция будет реализована, и какую она принесет прибыль, или будут одни убытки. Фермеру приходится покупать технику в лизинг или в кредит, который потом нужно выплачивать. А в сельской местности он зависит от погоды, от природы, от техники, от цены на солярку, на горючее, на запчасти и т. д. Вот простой пример: пшеница (?) – самый нужный, необходимый продукт, который выращивают селяне. Это и хлеб, и мука, и крупы, и макароны, и все. В 2007 году одна тонна стоила 4653 рубля, в 2008 году – 5103 рубля, то есть на 9,7 процента выросла. В 2009 году – 4260 рублей (на 16 процентов понизилась), в 2010 году – 3857 рублей (на 9 процентов понизилась), в 2011 году – 5108 рублей (более чем на 32 процента повысилась), и в 2012 году – 6409 рублей – видно, как скачут у нас цены. А это самое главное: у нас мука – основной продукт питания. Семьи уже не могут так много приобретать себе других продуктов, более востребованных, допустим, мясо (вот сегодня о говядине говорили). Цена на него выросла. Говядина в магазинах есть, но приобрести ее может не каждый. В 2008 году по нашему региону она стоила 174 рубля, в 2009 году – 185 рублей (то есть на 6,8 процента выше), в 2010 году – 197 (возросла на 18 процентов), в 2011 году – 234, в 2012 – 248 рубля. А на самом деле, на рынке мясо стоит 250–300 рублей за килограмм. Вот оно лежит, но купить его не- возможно. И поголовье снижается, потому что мясо получается невостребованным. Также растут цены на молочную продукцию. Или подсолнечное масло – вроде бы тоже необходимый продукт: в 2009 году – 58 рублей, в 2010 г. – 72 (выросла на 5,8 процента), в 2011 году – 77 (на 2,2 процента), и в 2012 году – 78 руб. Вроде бы не сильно растет цена, но растет. Поэтому люди уже думают, что приобретать. А женщины дома думают, как жарить: на подсолнечном масле, на сливочном, или же просто кашу сварить.
Далее, если нет возможности приобрести мясо, значит, больше приобретают овощей. Самый основной овощ у нас – это картофель. В 2008 г. он стоил 16 рублей за килограмм, в 2009 году упала цена – до 14 рублей, в 2010 году – 29 рублей (рост на 50 процентов), в 2011 году – 14 рублей, и вот в 2012 г – 16 рублей. Сейчас на рынке картофель в Ростовской области стоит 30–40 рублей за килограмм. И старый, и новый. Поэтому, естественно, уровень жизни на селе ухудшился. Если, как я уже говорила, нет дохода в семье, то значит, снижается и уровень рождаемости – а в селах проблемы бедности и демографии связаны между собой и занятостью населения. На примере Октябрьского района Ростовской области недостаточно из-за высокой смертности определить значительный уровень естественной убыли населения. Возможно, такая ситуация сложилась из-за неблагоприятной возрастной структуры населения района: высокой доли лиц пенсионного возраста и низкой доли детей-подростков, т.к. у молодежи, которая заканчивает школу, просто в селах нет будущего, нет работы. Это касается фермерских хозяйств: очень мало осталось крупных хозяйств, и малоимущий не хочет работать, потому что это стало не престижно: малая зарплата, а работа трудоемкая. Все это сказывается на ценах, которые скачут и не регулируются.
Ухова Д.
– Основной момент – цены очень скачут, что делает непредсказуемой ситуацию для, собственно, производителей. Это очень важно.
Безбудько Н.В.
– И если не остановить эти скачки цен, то в селе может окончательно закрепиться неравенство. Вот средний возраст населения в одном сельском районе – 50 лет. И это с учетом того, что живет бабушка восьмидесятилетняя, и родился ребенок. Вот такие итоги. Поэтому процесс нужно останавливать и работать над этим очень серьезно.
Адуков Р.Х.
– Те цифры, которые нам представили, очень сильно впечатляют. Вот, например, за 1 год (декабрь
2011 – декабрь 2012) цена на картофель в России выросла на 20 процентов, капуста белокочанная – чисто русский продукт – лук репчатый и так далее. Я считаю, что ситуация улучшаться не будет, а в ближайшие годы будет даже ухудшаться. Почему? Во-первых, в связи с мировым кризисом снизится спрос на энергоносители, что приведет к снижению цен на них. А мы, в общем-то, на них и живем. Но самая главная причина заключается в низкой эффективности государственного управления экономикой – и это наша самая главная беда. Если здесь уже есть продолжение (?), то цены, которые мы видим, ситуация на бирже и т.д. – это производные. Если мы говорим о сельском хозяйстве, то максимум 10–12 процентов сельскохозяйственных организаций – а это основа сельского хозяйства, потому что у них выше производительность труда, конкурентоспособность – имеют устойчивую экономику, несмотря на то, что считается, что прибыльных сельскохозяйственных организаций около 70 процентов (70-74 процентов, в последние годы колеблется). Но это чисто бумажная прибыль, а на самом деле, за исключением 10-12 процентов все остальные обладают в той или иной мере признаками банкротства. Почему? Сейчас среднестатистическая сельскохозяйственная организация имеет долгов, кредиторской задолженности более 70 миллионов рублей (более 2 миллионов долларов). Эта сумма совершенно неподъемная для российского аграрного сектора. И практически не принимается никаких мер для решения ситуации, кроме разговоров. И что получается? Мы сейчас закупаем около 50 миллиардов только официально учитываемой импортной продукции. Но это только официально, а на самом деле, завозится еще не менее 30 процентов. Это слишком большой процент. Расчеты показывают, что если бы мы сами производили основную часть этой продукции (процентов 80), то мы могли бы занять еще столько же людей в сельском хозяйстве, сколько сейчас занято. Настолько повышать занятость нам, конечно, не нужно, а нужно повышать производительность труда в сельском хозяйстве. Тогда мы могли бы раза в два повысить доход или заработную плату в сельском хозяйстве. А на селе тоже большую часть денег получают именно сельскохозяйственные организации. Получается, чем выше доля импорта, тем меньше занятых людей на селе, и, значит, тем меньше доходов они получают. Это тоже сильно давит на ситуацию. А чем больше денег платят, тем больше цены на рынке, потому что те, кто импортирует зарубежную продукцию, видят, что если ситуация в России хуже, то можно повышать цены на продукцию. И это видно из той динамики: за последние годы объем завоза остался примерно на том же уровне, но зато стоимость в долларах выросла, потому что ситуация в России ухудшилась, а значит и цены повысились. Это странно принято, но они защищают свои интересы, а мы защищаем свои. Самое главное: пока мы не повысим эффективность государственного управления в сельском хозяйстве, мы ни одной проблемы не решим. Я уже говорил, что у нас только 1012 процентов сельскохозяйственных организаций работает эффективно, а мировой опыт показывает, что если государственное управление в сельском хозяйстве работает нормально, то не менее 85-90 процентов сельскохозяйственных производителей должны работать устойчиво. А у нас все наоборот. К сожалению, наши руководители часто говорят, что сами производители плохо работают, а так не бывает. Есть общемировые стандарты, принципы, закономерности, которые показывают, кто виноват – аграрий или государство. У нас все монополизировано, от власти до предприятий. И сейчас у нас получается так, что если сельскому хозяйству дают деньги, то мгновенно тот, кто обеспечивает сельское хозяйство ресурсами, повышает цены на свою продукцию и тут же изымает все, что он дал сельскому хозяйству. Поэтому, фактически, нет никакой помощи сельскому хозяйству.
Потом, у нас считается, что в последние годы на сельское хозяйство выделили где-то около 9 миллиардов долларов. На самом деле никакой помощи нет. Основная часть помощи идет на уплату процентных ставок по кредитам. А кредиты предоставляют банки. Получается, что 80 процентов этих ресурсов идет на помощь банковскому сектору, а не аграрному. Это такие устойчивые схемы, в результате которых все идет в один котел. Мы раньше жаловались, что все изымали из села и так далее. Эта политика сейчас продолжается в еще более изощренной форме. Раньше все это делалось для индустриализации страны, сейчас все это делается для очень узкой группы людей. Самое интересное заключается в том, что механизм развития экономики сельского хозяйства абсолютно известен. У нас говорят: кризис и прочее. Уважаемые коллеги, у кризиса разные причины. У кризиса в России совершенно другие причины, чем, например, у европейских кризисов. Они (европейские страны, наверное) идут впереди. Им всегда сложно идти, потому что они должны искать новые пути. Мы отстаем очень сильно, потому что, например, по производству молока, мяса мы находимся где-то на уровне 1950 – начала 1960-х годов. И то российского уровня. Нам достаточно использовать то, что уже сто лет назад апробировано, и мы можем быстро догнать. Но, к сожалению, эти уже известные механизмы не используются. Все это совершенно непонятно.
Непонятно и другое: Россия вступила в ВТО. Но к вступлению в ВТО надо готовиться: принять соответствующие документы, людям надо разъяснять, прежде всего, в аграрном секторе. Никаких разъяснений нет. Вступили, всех поставили перед фактом, а теперь говорят людям: «Что же вы не подготовились?» Разве так можно вступать в ВТО? Нужно обеспечить поддержку до 4,4 миллиарда долларов. Вот сравните: по разным оценкам в США помощь сельскому хозяйству составляет от 95 до 105 миллиардов долларов. Многое зависит от того, какую помощь мы оказываем. Финансовая помощь – это только одно направление государственной поддержки. А там еще должно быть много других видов поддержки: правовой, инновационной, информационной, маркетинговой, антимонопольной и другой. Ничего этого не делается. Причем, все это должно делаться практически бесплатно, потому что ваши затраты возмещаются (ну или хотя бы основная часть – 80 процентов).
Государственное управление – это тяжелая работа. Надо использовать то, что уже достигнуто, воспользоваться моментом, чтобы решить свои проблемы. Пока у нас в России не будет нормальной кадровой политики – а кадры – это намного более ценный ресурс, чем финансы – успехов в этой области не будет. Ситуация и дальше будет ухудшаться.
Чекалин В.С.
– По динамике изменения цен можно отметить две позиции: во-первых, динамика цен на продовольствие повышательная. Во-вторых, присутствует достаточно серьезная волатильность. При этом если мы переходим с уровня потребительских цен на уровень цен производителей, то там, естественно, волатильность выше. По поводу повышательной динамики цен здесь уже справедливо отмечалось, что потребительские цены, цены на розничном рынке за последние 5 лет выросли примерно на 50 процентов, при этом цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли примерно на 30 процентов. Поэтому повышение цен, которое ощущают потребители, не так играет в плюс произ- водителям. И это надо учитывать. Причина такого разрыва в динамике цен потребителей и производителей лежит в том, что удельный вес сельскохозяйственных производителей в розничной цене той продукции, которую мы покупаем в магазинах, достаточно низок. По разным продуктам эта доля разная, но в среднем она составляет около 50 процентов. По мясу это около 60 процентов, по молоку – 40 процентов, по хлебу существенно ниже. Даже в цене пачки муки доля сельскохозяйственного производителя не превышает 20 процентов.
По поводу высокой волатильности цен: эта волатильность связана с тем, что ценообразующим продуктом на рынке является зерно. То есть от динамики цен на зерно зависит динамика цен на сельскохозяйственную продукцию и, в конечном счете, на продовольствие. Рынок зерна у нас наиболее волатилен, особенно в последние годы. Причины этого как природные, так и технологические и экономические. Все они в значительной степени между собой связаны: технологические зависят от агротехнологий, разрушенных мелиорационных систем в стране, а это, в свою очередь, связано с экономическими проблемами – как с внешним уровнем доходов в сельском хозяйстве, что не позволяет нам применять эту технологию, так и с недостаточно эффективным регулированием государства в этой сфере. То регулирование, которое сегодня осуществляется, практически не снижает ту волатильность, которую мы наблюдаем. От этого и происходят все эти скачки.
Лавренов Г.В.
– Что может сказать Союз потребителей? Мы как потребители сталкиваемся со всеми теми проблемами, которые были уже отмечены выше. Но нас ведь беспокоят больше не экономические вопросы, и не статистические, которые поднимаются и рассматриваются? Нас беспокоит другая ситуация, которая сейчас происходит: за определенную сумму денег, за которую человек пять лет назад приобретал одно количество продуктовых товаров, сейчас он покупает совершенно другие продукты. Во-первых, качественная составляющая продукции совершенно изменилась. Не секрет, что большинство производителей применяют различный продуктовый суррогат при изготовлении органической продукции. Например, за картофель, выращенный в России, выдают продукт, выращенный в зарубежных регионах, который невозможно идентифицировать. То есть у нас немного другие проблемы, но они связаны, естественно, с ценой на товар. Вот, например, по овощам: по помидорам, огурцам у нас сейчас засилье китайской продукции, которая производится с применением различных химикатов. Получается не очень хорошая ситуация: производство этого товара высокое, качество низкое, и он может быть опасным для здоровья. Как влияют эти процедуры выращивания какого-либо продукта на конечную цену? Получается такой эффект, что можно вложить рубль – а получить десять. И эти производители не откажутся на сегодняшний день от своей выгоды. Цель любого производителя – это снизить свои затраты. Почему пропадают наши фермеры? Почему исчезают те товары, которые производятся в экологически чистых районах? Потому что их производство остается прежним, но их цена настолько высока, что дешевле купить низкокачественные товары, чем эти.
Почему так происходит? Понятно, что в 2000 году доллар стоил около 28 рублей. На сегодняшний день он стоит 32 рубля. Годовая инфляция у нас не меньше 15 процентов. При тех ценах, которые сегодня формируются на картофель, импортный картофель уже не возвратится в нашу страну. Это уже однозначно. Ни мясо, ни картофель, ни молоко, ни любой другой продукт. То есть необходима защита нашего производителя, который дает качественный продукт, пусть и по более высокой цене. С другой стороны, этот продукт лучше для отечественного потребителя, чем приобретать суррогат. Речь идет о дальнейшем развитии. Это будущее нашей страны. Поэтому здесь говорить о каком-то относительном колебании цены, конечно, можно, но нужно рассматривать именно составляющие, почему происходит колебание качества продуктов. Что касается производства промышленных товаров, то оно в нашей стране достаточно низкое. Продуктовая корзина, которая важна для безопасности страны, цена на нее должна быть соизмерима с качеством продукции. Низкого качества продукции и низкой цены вообще не должно быть в нашей стране.
Бобков В.Н.
– У меня два вопроса. Во-первых, Вы говорили о китайцах, которые производят продукцию с использованием химикатов. То есть они производят свою продукцию у нас, а у себя не производят? Или они у себя производят, и они к этому привычны, а мы не привычны? И второй вопрос: ну, невозможно же ограничить человека! В ВТО вступили, рынки открыли, все производить невозможно. Наверное, какая-то кооперация международных поставок продовольствия должна быть?
Лавренов Г.В.
– Здесь есть один очень важный момент. Но никто никогда не заставит страну приобретать товар ниже качеством. Выше можно устанавливать требования, которые должны четко устанавливать стандарты безопасной продукции. ВТО – не та структура. Составляющие и качество самого ингредиента никто и никогда не сможет вам указывать. Если какой-то продукт не соответствует этим требованиям, то его можно не допустить к продаже.
Однако такого никогда не будет, потому что, во-первых, в нашей стране отсутствует определенная технология хранения товаров. Ни для кого не секрет, что наши товары сегодня сохраняются, по сути, в допотопных условиях. Никаких новых технологий не применяется, а если и применяется, то в крайне незначительных масштабах. Что касается технологии переработки, то никакой современной технологии переработки на сегодняшний день у нас нет. Все существующие технологии почему-то направлены на добавление в товар каких-то примесей. Что касается качества, то оно, я бы сказал, оно относительное, и продукт не соответствует определенным требованиям.
Наша продукция отличается от любой импортной. Ни для кого не секрет, что импортные помидоры просто невозможно есть, что по вкусовым качествам они не проходят и нам не нравятся. Вы спрашиваете: как ограничить? Ограничивать надо, прежде всего, с помощью защитных мер. Наше правительство и другие государственные структуры должны думать, прежде всего, о защите населения. Почему мы должны придерживаться тех требований, которые они сами не выполняют? Вот Вы говорили о китайцах. В Китае запрещено применять определенное количество химических удобрений, потому что это, по мнению Министерства здравоохранения Китая, влияет на дальнейшее воспроизводство жизни. А у нас к этому относятся скептически: не доказано. Ну, зачем доказывать? Зачем применять какие-то синтетические вещества при выращивании помидоров, если они влияют на качество конечного продукта? К примеру, китайские помидоры, которые производятся с использованием таких веществ, хранятся намного меньше, чем те помидоры, которые производятся в том же Ставрополье по обычным технологиям. Возможно, эти технологии не используются, потому что они неэффективны. Но эффективность зависит в данной ситуации, во-первых, от погодных условий, а во-вторых, от помощи государства в предоставле- нии нашим российским фермерам возможностей получать самые современные технологии и оборудование.
Бобков В.Н.
– Скажите, а у Союза потребителей достаточно полномочий и сил, чтобы осуществлять контроль в этой сфере?
Лавренов Г.В.
– Вы знаете, у нас, например, Петр Борисович Шелищ входит в Совет при Росстандарте. Мы всегда максимально стараемся противодействовать необдуманным принятиям, предположим, технического регламента, особенно в отношении продукции. В прошлом году на публичные слушания в Государственную Думу приезжали люди из регионов, потому что поднимался очень важный вопрос. Он заключается в том, что фермер, который произвел, допустим, 1000 литров молока, должен был тогда реализовать его на своей территории. Раньше, чтобы привезти его в другой регион, нужно было получить разрешение. И Союз потребителей старается именно собрать потребителей Российской Федерации. У нас есть представительства в 63 регионах. Где повышается качество, там повышается и стоимость. Если стоимость не повышается, значит, начинаются отклонения, например, в содержании продукта. К примеру, молоко 800 г. Ни для кого не секрет, что молоко легче воды, поэтому 700 г – это 800 мл, то есть это еще меньше по объему. А у нас используется понятие «литр молока». Иногда большинство коммерсантов ведут себя, чтобы утопить конкурентов. Никому из регионов не выгодно, чтобы к ним попадал кто-то из других регионов. Как в ситуации с Беларусью, когда оттуда к нам попало большое количество дешевой молочной продукции. Россия же сразу встала на дыбы? Почему же в этой ситуации должно быть иначе? Почему они продают в два раза дешевле? Никто не хочет делиться своей прибылью.
Ухова Д.
– Если подвести итог нашего обсуждения первого вопроса, то мы видим повышательную динамику цен, их волатильность. Был также указан очень важный фактор: цена производителя в цене конечного продукта довольно низкая, поэтому повышение цен на продукты питания положительно не отражается на производителе. И в принципе, волатильность цен влияет очень негативно. И последнее: качество продуктов в России – это тоже очень важный параметр, и говоря об изменении цен на продукты, мы обязательно должны говорить о качестве.
Как вы оцениваете влияние существующей динамики цен на продукты на разные группы населения?
Лавренов Г.В.
– Женщины наиболее подвержены влиянию изменения качества продуктов, мужчины, скажем так, менее подвержены. Качество людей, как бы это цинично не звучало, немного ухудшается. То есть они становятся неустойчивыми к физическим нагрузкам, учитывая, что в наше время необходимо очень много совершать движений, чтобы заработать деньги, то, может быть, надо быть в лучшей физической форме. Если цена товара высока, и у нас нет денег, чтобы его приобрести, то мы его и не возьмем. Это очень плохо. Из-за плохого питания, дистрофии у нас отмирают клетки мозга. Это очень плохо.
Калмыков С.Б.
– Я бы хотел сказать об очень важном негативном последствии изменения цен на продовольственные товары: степень риска впасть в бедность у семей, имеющих двоих детей – 50 процентов; а семьи, имеющие трех и более детей – 80 процентов. Боязнь попасть за черту бедности однозначно сказывается на воспроизводстве.
И я бы хотел сказать еще вот о чем. На мой взгляд, очень важной, ключевой причиной существующего положения, приводящего к повышению уровня бедности, и недостатка обеспечения соответствующего качества продуктами питания по доступной для широкого потребителя цене является разрыв между массовым сельскохозяйственным производителем и массовым потребителем. Разрыв обусловлен тем, что, как уже здесь отмечалось, 20 процентов в розничной цене приходится на производителя, а 80 процентов – это сетевая посредническая структура, которая все заполонила. Это – одна из ключевых проблем, обусловливающая увеличение стоимости продуктов питания.
Как влияет динамика изменения цен на продукты питания на потребителей и производителей продуктов питания? Каковы основные причины подобных изменений?
Строков А.С.
– Если мы говорим о втором и третьем вопросах, то надо внимательно изучать бюджеты домашних хозяйств. И те результаты, которые мы увидели, говорят о том, что люди в первую очередь начи- нают очень болезненно реагировать, если растут цены на мясо, потому что мясо – это такой продукт, доля которого в потребительской корзине достигает 30 процентов, и люди в первую очередь от него отказываются. Они начинают потреблять больше дешевой продукции – хлеба, картофеля. И если говорить о малообеспеченных группах населения в целом, то за 2007, 2008 и 2009 годы у них продолжался рост потребления продуктов питания. Если говорить о выраженном в каллориях – Росстат это зафиксировал. Но этот рост потребления продуктов питания сопровождался падением доходов на душу населения, в том числе из-за того, что в 2007 и 2008 годах был высокий рост цен на сахар, мясо, хлеб и молоко.
Чекалин В.С.
– Я хотел бы продолжить мысль коллеги к вопросу: как динамика цен сказывается на потребителях? Естественно, это больше всего сказывается на бедных слоях населения. Если мы посмотрим на удельный вес расходов на продукты питания в расходах населения по десятипроцентным децильным группам населения, то почти 45 процентов доходов наиболее бедных групп идет на продукты питания. В 10 процентов самой богатой группы населения этот показатель составляет около 17 процентов. В целом, у нас около трети населения (первая, вторая и третья децильные группы) тратят около 40 процентов своих доходов на продукты питания. Естественно, когда происходит повышение динамики цен, мы можем говорить, что у нас более трети населения серьезно затрагивает эта проблема.
Чекалин В.С.
– Я бы хотел добавить, что Ваш мониторинг цен показывает не только то, что в группе с низкими доходами большая доля расходов на питание (хотя это закон такой: чем хуже живешь, тем больше доля расходов на питание), хотя обеспечивается абсолютно такой же уровень потребления. Он еще показывает другую закономерность: на сколько процентов индекс роста цен на хлеб, молоко, мясо, выше индекса роста цен в целом. Если цены на продукты для обеспеченных слоев населения выросли условно на 10 процентов, то для бедных они выросли на 15 процентов. Получается, что на наиболее востребованные продукты питания, которые покупают слои населения с низкими доходами, потребительские цены растут быстрее. Поэтому бедные группы испытывают двойное давление: ухудшается ситуация с продуктами питания, и происходит резкое их подорожание.
Бобков В.Н.
– Это происходит, потому что есть наиболее массовые продукты питания.
Безбудько Н.В.
– Я хочу повторить, что в первую очередь страдает сельское население – дети, женщины и старики. Это происходит из-за безработицы – значит, страдает бюджет, а на одно хозяйство не выживешь. Другого источника дохода нет. А потребность растет, цены на продукты растут. Тот же фермер перерабатывает, выращивает продукции много, продает вроде бы много, а в итоге не получает ничего. Понимаете, техника дорожает, солярка дорожает, удовлетворять потребность в продуктах становится дороже, электроэнергия дорожает – и его продукция получается дешевой. Правильно сказали, что в одной булке хлеба меньше 20 процентов цены сельскохозяйственного производителя. Помните, в СССР литр солярки стоил 6 копеек, а булка где-то 20? А сейчас все наоборот. Поэтому, в первую очередь, конечно, страдает сельское население. Нужны какие-то программы, проекты для развития сельских территорий, для укрепления сельских территорий, чтобы в семье оставались деньги, чтобы они занимались животноводством. Вот сейчас зерно дорогое – животноводства нет, потому что поросенка очень дорого вырастить: мало того, что зерно дорогое, за ним еще очень тяжело ухаживать. Поэтому для укрепления и развития сельских территорий нам нужно больше внимания уделять все-таки сельскому жителю. Необязательно, чтобы из села выходили все космонавтами, главное, чтобы это были законопослушные граждане России, чтобы они любили труд, чтобы они уважали старших и так далее.
Лавренов Г.В.
– По поводу Вашего вопроса, почему именно низкие слои страдают больше. Мы сейчас совместно с Союзом Потребителей мониторим ситуацию с питанием детей и молодых людей до 25 лет. И большая доля людей, которые относятся к низко доходным слоям населения (то есть уже упомянутым здесь 40 процентов), потребляют быстрые углеводы: лапшу быстрого приготовления, фаст фуд, которые вообще не содержат в себе микроэлементов. Вы понимаете, быстрые углеводы? Их хватает максимум на полчаса – на час. В исследовании этого вопроса к нам, кстати, присоединилась еще и структура Роспотребнадзора, и мы стали смотреть, как влияют эти быстрые углеводы на развивающийся организм. Более обеспеченные слои населения не питаются этими продуктами, они приобретают пищу из твердых сортов пшеницы, которая содержит достаточное количество микроэлементов. А если питаться только быстрыми углеводами – с этим согласны некоторые специалисты – возможно развитие дебилизма. В этом и заключается опасность. Поэтому нужно думать о том, как ограничить производство продуктов быстрого приготовления, которые не приносят никакой пользы здоровью.
Строков А.С.
– Я бы хотел высказаться по ценам. Если мы посмотрим на представленные данные по индексам цен в разных секторах экономики, то увидим, что самый высокий рост индекса цен на сельскохозяйственную продукцию был в 2010 году – более 123 процентов. Но доходов в этот год у сельскохозяйственных производителей не было, потому что в предыдущем году была засуха, и цены выросли из-за того, что не хватало урожая. Если мы вспомним 2008 год, когда был избыток урожая, и цены снизились, и люди не могли выплатить кредиты по своим тракторам, погасить проценты по кредитной ставке. Все последние пять лет многие отмечают, что доходность, рентабельность производителей снижается. Так устроена наша современная система госрегулирования, что даже при росте цен нет уверенности в том, что производитель, грубо говоря, будет счастлив, сможет расплатиться по своим кредитам. А что касается мелкого производителя, то здесь проблема заключается в отсутствии интеграции.
Ильющенко Н.Е.
– По мелким товарным производителям я хочу сказать, что по результатам переписи 2010 года в Ростовской области в 33 районах из 43 у нас население уменьшилось на 75 тысяч человек по сравнению с 2002 годом. Ростовская область – это регион с не самой благоприятной ситуацией. Качество питания стало несбалансированным, из-за того что белковую продукцию стали меньше употреблять в связи с ростом цен. Однако правительство нашего региона обратило на это внимание: у нас есть губернаторская программа «Школьное молоко», которая предполагает бесплатную раздачу молока в школах.
Но сократилось фермерство по результатам переписи на 140 тысяч рабочих мест. А в связи с чем? В связи с тем, что у нас сократилось животноводство. И для того, чтобы стимулировать развитие животноводства в рамках развития АПК, выделялись деньги на развитие личных подсобных хозяйств. Но к чему это привело? Это привело к тому, что люди стали готовы развивать свои производства, предоставлять на рынок качественную продукцию, но правительству нужно было создать рынок сбыта, и тогда население было бы обеспечено качественной продукцией. Ведь мясо – это продукт быстропортя-щийся. Но здесь вступили в игру частные скупщики, которые установили фиксированные цены, невыгодные для производителя. Естественно, что те, кто развивал производство – производители, просто разорились. Те, у кого есть молоковозы с охладителями, закупают молоко по минимальной цене, а населению продают по завышенной. Хорошо, если производитель живет за 5 километров от центра, а что делать тем, кто взял кредит на развитие своего хозяйства и живет в 150 километрах? Поэтому мелкий производитель со своей качественной продукцией практически разорился. Поэтому наш проект развития личного подсобного хозяйства не слишком эффективен.
Здесь уже правильно сказали, что мелким сельскохозяйственным производителям нужно интегрироваться. Но здесь тоже есть множество препонов: существующие СНИПы не позволяют развивать фермы, да и соседи фермеров не хотят, чтобы рядом с ними было такое предприятие (такая ферма). Ну и сам проект развития личного подсобного хозяйства был не продуман со стороны правительства. Если бы параллельно была реанимирована сельхозкооперация, то тогда был бы результат. Тогда рынок был бы насыщен качественной продукцией.
Лавренов Г.В.
– Во-первых, важно уделять внимание технологии. Во-вторых, почему происходят колебания цен на разные типы продукции: на зерно, на семечки? Получается так, что, например, в одном районе один производитель собрал урожай семечек, а все остальные – картофель. Соответственно, производитель семечек хорошо продал свой урожай, а производители картофеля получили мало. А когда на следующий год все посадили семечки, то цены на эту продукцию упали. Смысл кооперации в том, что существует заказ. Но, опять же, чей заказ? Если заказ идет от государства, то нужно где-то хранить продукцию, а современных систем хранения у нас нет. В наших хранилищах сохраняется в лучшем случае половина продукции (а, к примеру, в Бельгии в хранилищах сохраняется 99,9 процента продукции). То есть здесь налицо некая несбалансированность: нет государственных разработок, программ. Большую роль в колебаниях цен играет и природный фактор.
Чекалин В.С.
– О развитии кооперации: я бы хотел привести пример Евросоюза, где через кооперативы реализуется порядка 50-60 процентов сельскохозяйственной продукции. По отдельным видам продукции (например, молоко) и, скажем, в Североевропейских странах эта цифра приближается к 90 процентам. То есть кооперативы играют важнейшую роль. Они являются инструментом повышения доходов сельхозпроизводителей и получения того достойного уровня в конечной цене продукции, которого они могли бы достичь.
Лавренов Г.В.
– Я бы хотел отметить, что такие кооперативы – это общественные некоммерческие организации, то есть они не заинтересованы в прибыли. Они заинтересованы в равномерном, справедливом распределении. Если у нас будут кооперативы, то они будут этническими. И у нас есть такие магазины, которые хорошо организованы, но основное их назначение – не торговля. Хозяином такого магазина может быть некто, который не торгует продуктами, который произвольно устанавливает цены для того, чтобы создать видимость.
Адуков Р.С.
– Дело в том, что есть кооперативы коммерческие – это производственные кооперативы, а есть потребительские...
Какие меры могут помочь снизить волатильность потребительских цен на продукты питания?
Адуков Р.Х.
– Прежде всего, доступность цен зависит от производительности труда, поэтому ее необходимо повышать. Мы изучали несколько предприятий, где была осуществлена модернизация. Естественно, продукция такого предприятия продается намного дешевле и т. д. Следовательно, у нас пока модернизация не осуществляется.
Приведу пример: если на одного человека приходится меньше 240 гектара, то предприятие уже неконкурентноспособно. У нас производительность труда меньше в три раза, а урожайность за рубежом выше, получается, что и производительность там в 70 раз выше, чем у нас. Нам обязательно надо решить этот вопрос, иначе мы не решим никаких проблем.
Далее, во всей стране рынки монополизирова- ны одними иностранцами. Я думаю, что это скорее вопрос не экономический, а политический. Продукты в магазинах, которыми владеют иностранцы, стоят дороже процентов на 30–40, покупатели вынуждены переплачивать. А отечественные производители, у которых цена в разы ниже, не могут пробиться на рынок (их не пускают). Они вынуждены продавать свою продукцию иностранцам. И этот вопрос должен быть решен тоже на самом высоком политическом уровне, – никто больше не сможет.
По поводу кооперации, товарищи, я бы хотел сказать, что она нужна. Во многом из-за развития кооперации больше стало сельскохозяйственного орошения, то есть мы стали успешнее конкурировать на аграрно-продовольственных рынках. За последние 6 лет в отрасль вернулись 1 миллион человек, в том числе из-за границы. Причем большинство из этих людей составляет молодежь, которая проработала на фермах в Германии и т. д. Вот в Польше, например, специально предусмотрено государственное субсидирование, для того чтобы люди объединялись в кооперативы. То есть государство там помогает не только в финансовом, но и в организационном плане. Вот недавно (в Польше?) государство способствовало объединению около 1000 фермеров и дало им деньги, чтобы они выкупили мясокомбинат. То есть речь идет о государственной помощи. Поэтому вопрос с кооперативами в России зависит от государственной поддержки. К сожалению, у нас именно такая ситуация.
Безбудько Н.В.
– Я хочу немного добавить по ценам. Правильно сказали, что на пшеницу цена сильно выросла. Производителю сейчас легче меньше вырастить и получить ту же самую сумму, чем больший урожай. Почему? Большой урожай – это большие затраты на перевозку, на погрузку, разгрузку, топливо и т. д. Если урожай меньше, то при высокой цене прибыль остается такой же, а затрат меньше.
По кооперации: у нас 3–4 года назад было решено создать сельскохозяйственные кооперативы. Мы все выполнили, собрали фермеров, но опять встала проблема волатильности цен. Первое зерно шло по 6 рублей, а продавать кооператив стал по 4. И никто на себя больше такой ответственности не возьмет: где взять недостающие средства. И поэтому прежде чем создавать кооперацию нужно установить конкретные цены – сколько, что и когда будет стоить, чтобы люди уже знали: фермер заранее просчитывает цены наперед, он не купит себе машину, лишнюю одежду, он не поедет лечиться, а будет сеять хорошее зерно, будет удобрять его, обрабатывать химикатами, а считать нужно всегда. Поэтому я за кооперацию, но цены должны быть стабильными.
Строков А.С.
– Если говорить о драйверах, то, во-первых, Россия давно уже интегрирована в мировую экономику, поэтому, как бы это странно ни звучало, цена на зерно на Чикагской товарной бирже уже через день будет влиять на цену зерна на Алтае, в Краснодаре, где угодно. Но одна из проблем товарных бирж, финансовых, фондовых рынков – это спекуляции, поэтому данный фактор я бы поставил на первое место.
Второй фактор у нас в России – это рост цен естественных монополий. Каждый год цены на газ и электроэнергию поднимаются на 15–20 процентов, в некоторых регионах скачки еще больше. Естественно, что это влияет на цены производителей промышленной продукции, сельского хозяйства.
И третий фактор – это перекупщики.
Калмыков С.Б.
– Я бы хотел обратить внимание на следующее. Во-первых, было бы неплохо, чтобы государство в вопросе государственных закупок сельскохозяйственной продукции отдавало приоритет отечественному производителю. Во-вторых, у нас есть система социальной защиты населения – это те ядра, вокруг которых государство могло бы развернуть сеть специальных продовольственных магазинов для социальной поддержки малообеспеченных семей. Ввести наконец, пластиковые карточки для этих категорий, на которых была бы какая-то месячная минимальная сумма для приобретения товаров по льготным ценам.
Мы говорили о кооперативах. Вы знаете, что в России с 1990 года существует государственная некоммерческая организация «Ассоциация крестьянско-фермерских и сельскохозяйственных кооперативов». Я хотел бы сказать об уровне взаимодействия: в прошлом году была утверждена государственная программа развития АПК на 2015–2020 годы, в разработке принимали участие представители этой организации. Они предлагали практически те же меры, которые мы сейчас обсуждаем. В частности, что предосудительного в том, чтобы развернуть вокруг мегаполисов (я говорю не только о Москве, но и о других крупных городах) сеть закупочных баз, к которым имели бы прямой доступ мелкие предприниматели, кому трудно реа- лизовывать продукцию, и, что важно, доступ к сети общественного питания. Сейчас не получается создать такую сеть, потому что нет соответствующей государственной поддержки.
Лавренов Г.В.
– Для того чтобы избавиться от той волатильности цен на продовольствие, которая существует на территории России, есть предложение создать Комиссию по ценовому тарифу. Эта комиссия должна будет реагировать на всевозможные всплески цен на зерно и на другие продукты. Поэтому я считаю, что роль государства не должна сводиться к тому, чтобы выдавать карточки малообеспеченным семьям. А вот создание такого органа как Комиссия в нашей стране, где не такой сбалансированный рынок, есть перекосы, есть монополии как искусственные, так и естественные, вполне возможно. Это был бы самый действенный рычаг при всплесках и падениях цен на все, в том числе и на продовольствие.
Когда гречка взлетела в цене – необоснованно, причем совершенно необоснованно – когда резкие колебания нефти происходили в конце 1990-х годов, или доллара (в 1998 году, когда доллар был 6 потом 30 рублей), было сказано, что надо жить на рубли, а там должны быть тарифы. Не субъективные какие-то изменения цен, а нормальные инфляционные. Инфляция – это понятно: есть количество денег, выпускается еще определенное количество, увеличивается зарплата, поэтому инфляция будет всегда. Но не субъективная инфляция – вот это самое важное. А пресекать инфляцию можно одним способом, на предпринимателей можно воздействовать только одним способом – палка и кнут. Под предпринимателями имеется в виду не мелкие фермеры, а сетевые компании, которые заинтересованы в резком поднятии розничных цен и резком снижении оптовых цен. И на этой разнице они будут жить очень хорошо, ездить на Бали и так далее. А все люди будут страдать. Производство продовольствия должно быть основано не на крупных производителях, а на частном фермерстве. И государство должно включаться уже на стадии сохранении этого сегмента.
Чекалин В.С.
– Что касается драйверов, то можно выделить драйверы вообще роста цен на продовольствие – это неудовлетворенный спрос на продукты питания (нам в целом на селе еще есть куда стремиться по количеству потребляемых продуктов питания), рост доходов населения и, соответственно, рост потребления, и при этом низкая связь между потребительскими ценами и ценами производителей, недостаточная динамика отечественного производства, несоответствующая уровню спроса. У нас спрос растет, производство, казалось бы, тоже растет, но при этом еще и импорт продовольствия тоже растет, потому что собственное производство не поспевало за финальным спросом из-за того, что оно недополучало все те доходы, которое оно могло бы потенциально получить от роста спроса на продукты питания в нашей стране. А что касается волатильности, то уже отмечалось, что здесь играют факторы как климатические, так и технологические и экономические. Хотелось бы отметить и уровень развития инфраструктуры – он тоже существенно влияет на волатильность и связанные с этим доходы производителей. У кого из производителей есть развитая инфраструктура – это мощности по хранению, по переработке – для них эта волатильность снижается, и они больше защищены от колебания цен. Вот кто имеет доступ к хранилищам, тот может сейчас использовать зерно, которое заложил туда еще в прошлом году, и этот рост цен на зерно на них так не сказался. То же самое с овощами – кто имеет возможность с осени заложить на хранение продукцию, тот не страдает от сезонных скупок, а может в течение года равномерно продавать по достаточно высокой цене.
Отсюда вытекает вопрос: что делать? Это развитие рыночной инфраструктуры, развитие рыночной кооперации, совершенствование регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Следует отметить, что в принципе, по всем этим направлениям присутствуют мероприятия, принятые в государственной программе 2013–2020. Другое дело, что эти меры имеют недостаточный объем финансирования, и поэтому они крайне ограниченно могут воздействовать на ситуацию в стране, и механизм этих мер несовершенен. Поэтому они тоже недостаточное влияние оказывают. Совершенно справедливо отмечалось про кооперацию. При поддержке Россельхоза прошла конференция, предложены меры по разработке ведомственной целевой программы по развитию кооперации, однако по ходу рассмотрения этой программы под общеизвестным в России предлогом, что нет денег, мероприятия из этой программы вымываются.
Адуков Р.Х.
– Хотелось бы добавить, что у нас сейчас складывается ситуация, когда проблем немало во многих регионах, особенно в Ростовской об- ласти. Ситуация такая: кооперативы есть, кооперации нет. Возникает такой вопрос: чтобы цены были доступными для населения, нужно много мероприятий. А есть ли такое мероприятие, реализация которого дает толчок и служит спусковым механизмом для реализации всех этих мероприятий? Такой механизм есть – это развитие местного самоуправления. Без этого ни одна проблема в России не будет решена. А это означает, что необходима модернизация государственного управления. А децентрализация предполагает не только больше полномочий для местных органов власти, но и больше ресурсов на места. Иначе мы не решим ни одну проблему.
Внимание уделялось и тому, что очень мало достается производителю. А чем меньше достается производителю, тем меньше развивается сельское хозяйство, и тем сильнее растут цены. Сейчас доля производителя в цене продукции составляет где-то около 20 процентов, а ему должно доставаться значительно больше. Вот, например, в странах ЕС от розничной цены молока 60 процентов достается производителю. Это происходит, потому что значительная часть перерабатывающих мощностей и торговли принадлежит кооператорам. И это все осуществляется благодаря давлению кооперативного сектора. И государство этому способствует. У нас, к сожалению, этого нет.
Бобков В.Н.
– Хотел бы отметить, что пока не будет рабочих мест, пока не будут созданы условия, чтобы молодежь могла не завидовать тем, кто живет в городе, ничего не решится. А для этого нужно по-другому построить бюджетную систему. ВЦУЖ уже выступал с этим предложением, но пока не получил должной поддержки. Или по-другому взимать подоходный налог: не по месту работы, а с домохозяйства по месту жительства. Если бы они платили налоги на душевой доход в семье, тогда этот подоходный налог поступал бы в местный бюджет, и у местного бюджета были бы деньги для того, чтобы создавать условия для развития рабочих мест. Естественно, я согласен с тем, что надо защищать отечественного производителя, и надо повышать производительность труда. Причем все это возможно станет только тогда, когда появятся люди, которые будут заниматься производством.
Безбудько Н.В.
– Я полностью согласна с необходимостью создания рабочих мест на селе. Важны также жилье – необходима программа жилья – и социальная сфера – необходимы детские сады и школы. Будут детские сады – женщины займутся хозяйством.
Подготовлено на основе стенограммы