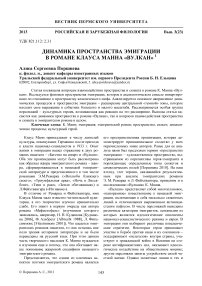Динамика пространства эмиграции в романе Клауса Манна «Вулкан»
Автор: Поршнева Алиса Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 (23), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам взаимодействия пространства и сюжета в романе К. Манна «Вулкан». Исследуется феномен пространства эмиграции, которое в аксиологическом смысле инвертировано по отношению к пространству классического мифа. Анализируется основное направление динамических процессов в пространстве эмиграции – расширение центральной «темной» зоны, которое находит свое выражение в событиях большого и малого масштаба. Рассматривается особая группа персонажей – культурных героев, возникающая как реакция на это расширение. Выводы статьи касаются как динамики пространства в романе «Вулкан», так и вопросов взаимодействия пространства и сюжета в эмигрантском романе в целом.
К. манн, эмиграция, эмигрантский роман, пространство, сюжет, динамические процессы, культурный герой
Короткий адрес: https://sciup.org/14729223
IDR: 14729223 | УДК: 821.112:
Текст научной статьи Динамика пространства эмиграции в романе Клауса Манна «Вулкан»
Клаус Манн принадлежит к числу деятелей культуры, покинувших Германию после прихода к власти национал-социалистов в 1933 г. Опыт жизни в эмиграции нашел отражение в двух романах писателя – «Бегство на север» и «Вулкан». Оба эти произведения могут быть рассмотрены как образцы жанра эмигрантского романа – жанра, сформировавшегося в немецкой эмигрантской литературе и представленного в том числе романами Э.М.Ремарка («Возлюби ближнего своего», «Триумфальная арка», «Ночь в Лиссабоне», «Тени в раю», «Земля обетованная») и Л.Фейхтвангера («Изгнание»).
В отличие от Ремарка и Фейхтвангера, имя Клауса Манна мало известно читательской аудитории, а его творчество изучено сравнительно слабо. Его знают в первую очередь как автора романа «Мефистофель» (изучением которого занимались, например, Н. Н. Кудашова [Кудашова 2006], Ф. Альбрехт [Albrecht 1988], Л. Фитцсиммонс [Fitzsimmons 2001]). Что касается эмигрантских романов писателя, то они остались вне поля зрения историков литературы и не были переведены на русский язык. При этом данная часть творческого наследия К. Манна нуждается в изучении еще и потому, что она обогащает наше понимание жанровой специфики немецкого эмигрантского романа.
Представляется, что одним из ключевых аспектов поэтики эмигрантского романа является его пространственная организация, которая демонстрирует принципиальное сходство у всех перечисленных ниже авторов. Ранее для ее анализа нами был предложен термин «пространство эмиграции» – художественное пространство, выстраиваемое из перспективы героя-эмигранта и порождающее определенные типы сюжетов и символических полей [Поршнева 2010]. На наш взгляд, этот термин, оказавшийся результативным при анализе эмигрантских романов Э. М. Ремарка и Л. Фейхтвангера, применим и к исследованию «Вулкана» К. Манна.
«Вулкан» представляет собой многоплановое, «панорамное» повествование о немецкой эмиграции, включающее в себя несколько сюжетных линий и отличающееся выраженным антинаци-стским пафосом. В числе персонажей выведены различные категории эмигрантов, основными из которых являются идеологические оппоненты национал-социалистического режима и евреи. В эмиграции они выбирают различные поведенческие стратегии. Некоторые герои принимают участие в борьбе против наци и их союзников – поддерживают «нелегалов» внутри страны, участвуют в гражданской войне в Испании на стороне антифранкистских сил, оказывают идеологическое воздействие на общественное мнение; другие персонажи заняты устройством своей частной жизни. Однако сюжетные линии и тех и других определяются пространством, в котором они существуют, – пространством эмиграции.
В структурном отношении пространство эмиграции повторяет пространство мифа, которое организовано в виде концентрических кругов вокруг сакральной точки, имеющей статус центра мира [см.: Мелетинский 2000: 205, 212; Би-дерманн 1996: 193; Альбедиль 2002: 119]. Непосредственно прилегающей к центру мира территорией является сакральная земля, ее окружает населенная варварами профанная земля, далее – на окраинах ойкумены – располагаются населенные персонифицирующими хаос чудовищами (великанами, гигантами, циклопами и др.) враждебные земли.
Аксиологические характеристики пространства эмиграции, напротив, «обратны» аксиологии классического мифа: центральная часть пространства («снаружи» [Mann 1999: 16, 20, 141, 255]2 (здесь и далее перевод мой. – А.П .) которой располагается остальной мир), образованная Третьим рейхом, соотносится не с сакральной, а с враждебной землей, не охваченной культурой, лишенной разума и порядка. Окраинная зона – различные страны за пределами Европы (США, Латинская Америка, Палестина, Новая Зеландия, французские колонии) – напротив, в картине мира героя-эмигранта обладает наиболее ценностно-позитивным статусом. Располагающаяся «между» ними не-немецкая Европа (первое «кольцо» вокруг Рейха) представляет собой «проблематичный континент» (381), в котором уравновешивают друг друга дружественное и враждебное отношение к эмигрантам, возможность самореализации и препятствия к ней, сопротивление и попустительство немецкой экспансии [см.: Поршнева 2013].
Выстроенное таким образом пространство оказывает воздействие на героев, заставляя их отдаляться от аксиологически негативной зоны. Центральный «темный» участок пространства, образуемый Третьим рейхом, действует на эмигрантов с выталкивающей силой, побуждая удаляться от него на все более значительное расстояние. В частности, решение Марион об эмиграции описано в следующих выражениях: «Что до Марион, то для нее эмиграция была чем-то само собой разумеющимся. Не стоило сомневаться в том, что отныне ее свобода и, возможно, даже жизнь были в Германии под угрозой; отвращение и ненависть гнали ее прочь» (19) (выделено мной. – А.П.). О своем учителе, профессоре Беньямине Абеле, Давид Дойч говорит так: «Моего старого Абеля – саму безобидность – гонят в изгнание» (107) (выделено мной. – А.П.). Сам Абель считает: «Меня вышвырнули из Гер- мании» (114) (выделено мной. – А.П.). Очевидна «выталкивающая» семантика глаголов и глагольных выражений, выбранных автором для описания мотивов отъезда героев из Третьего рейха.
Основным направлением пространственных преобразований, отчетливо прослеживаемым в пространстве эмиграции, является расширение границ центральной территории за счет периферийных зон. Такое расширение обусловлено стремлением Третьего рейха подчинить своему прямому и косвенному влиянию как можно больше стран и ликвидировать очаги идеологического сопротивления на периферийных участках территории. Этот процесс также представляет собой инверсию соответствующих процессов, происходящих в мифологическом пространстве, где центральная – сакральная – зона расширялась за счет присвоения и «окультуривания» соседних профанных земель. Так, например, в греческой мифологии царь и культурный герой Тесей [Плутарх 1990: 43–44] истребляет живущих на территории Аттики разбойников и устанавливает там единый закон; именно вследствие этого сакральная земля расширяется до масштаба всей Аттики. В пространстве эмиграции этот процесс имеет противоположную аксиологию и выглядит не распространением законов и культуры, а экспансией варварства и дикости.
В масштабе всей Европы расширение «темного» мира проявляется в том, что Германия подчиняет своему прямому или косвенному влиянию прилегающие к ней территории. Одним из мотивов бегства Дитера (героя второго плана) из Рейха становится нежелание содействовать этому процессу – «потому что Рейх должен стать еще больше » (541) (выделено мной. – А.П .), «чтобы эта каторжная тюрьма стала еще больше » (551) (выделено мной. – А.П .).
Одним из первых объектов территориальных притязаний Третьего рейха становится Заар. Непосредственное присоединение этого участка первого «кольца» к Германии происходит в 1935 г., и это выталкивает оттуда новую волну эмигрантов: «Год 1935 еще не успел состариться, а уже прибывали все новые беженцы. Это были те, кто в свое время в Зааре выступал против присоединения этой области к Третьему рейху. Заар стал немецким. Гитлер праздновал триумф» (196–197). По этому поводу эмигранты задаются вопросами о пределах немецкой экспансии: «Как далеко должны зайти наци, чтобы Англия и Франция потеряли терпение? Где-то же должна быть граница, – думали они все. – Остановится ли перед ней Гитлер? <…> Некоторые считали: граница – это Австрия. Вену он не получит. Дру- гие оставались скептичными: Англия пожертвует и Веной ради своего дорогого мира. <…> И тут чехи объявляли: если нет никакой другой границы – то нашу он не перешагнет» (197); «Как далеко уже продвинулись разбойники? Какие местности сейчас подвергаются бомбардировкам? <…> Предпримет ли Англия серьезные санкции против агрессоров?» (198). Следующим объектом территориальных притязаний Третьего рейха становится Австрия: «Наци хотели иметь Австрию» (196) – позже эта страна становится частью Германии, «Восточной маркой» (Ostmark). Австрия не становится для немецких экспансионистских устремлений непреодолимой границей: она «не оборонялась, во Франции был правительственный кризис, Европа наблюдала с почтительным напряжением исторические процессы, фюрер и дуче обменивались радостными телеграммами» (493). Марион предсказывает и дальнейшее расширение немецкой территории в Европе: «Прага падет! <…> Франция и Англия будут защищать Чехословакию так же слабо, как они защищали бедную Австрию» (506).
Расширение центральной, «темной» зоны пространства эмиграции проявляется не только в глобальном «измерении» – основным из таких «больших» событий является присоединение Заара и Австрии к Германии, – но и в ряде событий «маленьких», которые в то же время встраиваются в основную тенденцию пространственной динамики в романе.
И центральные, и периферийные персонажи романа переживают ситуации, которые являются составляющими процесса расширения «темного мира». В частности, прибывшие из Германии молодые рабочие-социалисты, ученики Тео Хуммлера, жалуются ему «на легковерие рабочих; …что они позволяли совращать себя любой ложью, преподносимой каким-нибудь болтуном. “Я знаю очень многих, которые были с нами или с коммунистами, а теперь носят в петлице свастику”» (139). Переход бывших оппонентов национал-социалистического режима в ряды его сторонников как результат пропаганды тоже является составляющей процесса расширения центральной «темной» зоны пространства эмиграции. Осознавая, что этот процесс идет, Тео Хуммлер декларирует необходимость идеологического воздействия на « пока еще цивилизованные, еще демократические нации» (140) (выделено мной. – А.П .). По словам Ангела, показывающего Кикжу бегство Дитера из Рейха через швейцарскую границу, «прекрасная Швейцария пока еще остается свободной» (538) (выделено мной. – А.П .).
Чем больше расширяется «темный мир», тем менее пригодным для жизни становится первое «кольцо» пространства эмиграции. Вена, уже захваченная немецким влиянием незадолго до присоединения Австрии к Третьему рейху (1937, 2-я часть романа), становится для Абеля «разочарованием… Воздух клерикальной диктатуры был спертым и гнилым; борьба против наступающего национал-социализма велась неправильно и боязливо» (362) – первоначально принадлежащая к числу стран первого «кольца», Австрия еще до официального присоединения к Рейху попадает в зону его влияния и в глазах эмигранта перестает быть пригодной для жизни. Эти процессы обретают свое логичное завершение во время присоединения, когда «Вена зловеще изменилась: за одну ночь, без перехода и подготовки, она приобрела чужое и устрашающее лицо. Повсюду развевались флаги со свастикой… <…> “Убийцы… – подавленно думал господин Бернхайм в своем лимузине. – Все они выглядят убийцами. Что стало с моей прекрасной, благочестивой, консервативной Веной?” Даже песни, которые распевались, звучали жутко» (494). Присоединение к Германии делает Австрию частью «темного» мира, его границы снова раздвигаются, как это было и в случае с Зааром, и «прекрасная» Вена становится «чужой и устрашающей». Появляется Großdeutschland ‘большая Германия’ (538), Австрия становится ее провинцией – «Восточной маркой» (538). На этом этапе новая волна эмигрантов уже четко осознает: «Что еще им было делать в Европе?» – и сразу старается «добыть себе визы и билеты на корабль для переезда через океан» (502), не задерживаясь в Европе.
Одна из слушательниц Марион, которая намерена уехать в Эквадор, обобщая эти процессы, считает, что «Европе конец, она погибла» (230). Эмигрант Бобби Зедельмайер, вынужденный закрыть свой бар в Париже, рассказывает о своих дальнейших планах, делая акцент на том, что Европа перестала быть подходящим для него местом: «Европа вообще становится слишком тесной! Я сыт ею по горло. <…> Я хочу уехать в Китай. <…> В Шанхай. <…> Дальний Восток – моя давняя мечта. Там я совершенно точно найду свое счастье…» (185).
Руководитель комитета помощи евреям господин Натан считает, что ситуация в Европе стала «безнадежной» (372). Майорка, считавшаяся «самым мирным островом, беззаботным маленьким раем, расположенным очень далеко от шума и опасностей мира», переживает вторжение сил итальянского фашизма, налет «бомбардировщиков, изготовленных в Италии и управляемых итальянскими пилотами» (276); причем итальянская армия оказывается здесь частью того зла, которое представлено в романе национал-социалистическим государством: массовыми арестами на Майорке руководят наделенные равными правами «прусский чиновник» и «римский офицер» (277). Богатый немецкий эмигрант Зигфрид Бернхайм вынужден спешно бежать с острова, оставив принадлежащую ему виллу на произвол судьбы – иначе «он не мог быть спокоен за свою жизнь» (278). В третьей части романа, которая приурочена к 1937–1938 гг., Европа уже объявлена цивилизацией, на которой «лежит проклятие» (484). Эмигранты, которые просят у проживающих в Америке знакомых финансовых гарантий, необходимых им для переезда, употребляют по отношению к не-немецкой Европе те же слова, что использовались для характеристики Третьего рейха: «Я задохнусь здесь!» (505) (о Европе) – «Я должен был уехать, потому что иначе я бы задохнулся!» (551) (Дитер о Германии); отсюда видно, насколько Европа к 1938 г. уже уподоблена Германии, подчинена ее влиянию, периферийное пространство ассимилировано центром.
Лейтмотивом «ухудшения» пространства первого «кольца» становится в романе предчувствие надвигающейся катастрофы – мировой войны: «Никто не знает, что случится в Европе в ближайшее время. Завтра дело может дойти до войны между Англией и Италией – то есть до всеобщей катастрофы. Во Франции уже сейчас почти что идет гражданская война» (265). Кикжу на политическом собрании описывает «апокалиптические картины» и «тот ад, который сейчас подготавливается» (379). «Подготовка тотальной войны» (484) влечет за собой «большой возврат к варварству», «устрашающее возвращение в ночь и смерть» (484–485). Наци видят свою задачу в том, чтобы «распространять адский шум» и «сделать землю адом» (485). Европа становится «больным континентом», который «не хотел больше предоставлять эмигрантам жизненное пространство»; соответственно, для них «Америка была надеждой» (505). В итоге герои, первоначально вытесненные из Третьего рейха установившимся там национал-социалистическим режимом, затем «выталкиваются» и из Европы, которая становится для них «слишком тесной» и непригодной для жизни, хотя первоначально представляла собой спасительную альтернативу жизни в Германии. Можно сказать, что пространство первого «кольца» «ухудшается» и «портится» – и это является, в первую очередь, следствием немецкой экспансии на прилегающие территории.
Если самим фактом возникновения «темного» мира (установление в Германии национал-социалистического режима) эмигранты выталкиваются в пространство первого «кольца», то расширение этого «темного» мира становится причиной дальнейшего вытеснения героев-эмигрантов из первого «кольца» во второе.
В этом контексте следует рассмотреть эпизод конфликта Беньямина Абеля с Феликсом Вольф-ритцем. В Голландии, проживая в пансионе «Huize Mozart», Абель вынужден терпеть соседство наци – Феликса Вольфритца, брата хозяйки, который каждое утро включает государственный гимн. При попытке договориться с Вольфритцем об ограничении громкости прослушивания гимна Абель сталкивается с агрессивной реакцией последнего: «Только этого мне не хватало! Еврей хочет запретить мне включать гимн моего отечества в моей комнате. Какая безграничная дерзость! У нас все еще поступают с евреями слишком мягко! Как только они оказываются за границей, они теряют всякий стыд!» (135). Защитить себя от оскорблений со стороны наци Абель, хотя и находится за пределами Рейха, не может. Конфликт заканчивается тем, что он вынужден уехать из пансиона. Здесь происходит вытеснение героя-эмигранта представителем мира наци – т. е. в микромасштабе повторяется глобальный процесс присвоения Третьим рейхом периферийных по отношению к нему областей Европы и оттеснения эмигрантов все дальше к окраинам пространства эмиграции.
Изложение данного эпизода К.Манн предваряет следующими словами: «Кто знает, как долго Абель просидел бы в “Huize Mozart”, никуда не двигаясь, если бы маленькое, но фатальное и будоражащее происшествие не заставило его прийти к решению изменить свою жизнь, начать движение, действовать» (134). Эмигрантская биография героя завершается впоследствии в Америке, где он работает в университете, пользуется заслуженным уважением, создает семью и не имеет никакого желания возвращаться в Европу. Поэтому можно утверждать, что в том «толчке», который дает ему инцидент в пансионе «Huize Mozart», заключена выталкивающая сила, возникшая в пространстве эмиграции из-за экспансионистских устремлений его центрального участка. Подобно тому как Германия присваивает себе соседние страны, наци Вольфритц «присваивает» себе амстердамский пансион, а эмигранта Абеля оттуда вытесняет.
Читая лекции в различных университетах Европы в качестве приглашенного профессора, Абель сталкивается с различными трудностями, имеющими «немецкое» происхождение. Его лекции в университетах Дании, Норвегии и Швеции вызывают недовольство немецких дипломатических ведомств: «Представительства Третьего рейха уже начали торжественнообиженно протестовать против “бесстыдной ан-тинемецкой агитации” этого агрессивного ученого – после чего официальная скандинавская сторона дала ему понять, что ему следует быть осторожнее». Этот случай «побудил Абеля положительно ответить на почтительное послание из США» (362).
С аналогичными явлениями сталкивается Марион во время своего турне по Европе (в ходе которого она читает фрагменты классической и современной немецкой прозы и поэзии, подбирая их так, чтобы сформировать у зрителей однозначно негативное отношение к режиму наци): «В Вене ей не разрешили выступать, потому что австрийское правительство считалось с реакцией на это Третьего рейха. В Цюрихе фашистски настроенные студенты устроили скандал, когда она читала стихотворение автора, убитого в немецком концентрационном лагере. Полиция выставила нарушителей покоя из зала, про которых позже выяснилось, что они получили деньги от немецкого консульства. После этого случая у Марион всегда были проблемы с тем, чтобы получить разрешение на работу в Швейцарии; некоторые особо осторожные кантоны отказывали ей. Не только в Швейцарии, но и в Чехословакии и Голландии чиновники интересовались выбором стихотворений, которые она собиралась читать. Повсюду стремились избежать проблем с раздражительными немецкими посольствами или консульствами» (227–228). Марион встречается, таким образом, с многочисленными препятствиями «немецкого» происхождения. Те страны, в которых она выступает, формально территорией Германии не являются, но в том, что касается ее гастролей, проводят волю Третьего рейха, т. к. уже частично перешли в зону его влияния.
Ганс Шютте и его друг Эрнст, проживающие в Праге, тоже вытесняются оттуда из-за немецкого вмешательства: на них «пожаловалось пражским властям дипломатическое представительство Третьего рейха», и они покидают Чехословакию, чувствуя, что «воздух сгущается» (195). Точно так же они не могут себе позволить задержаться в Австрии, поскольку под немецким влиянием – «особенно сейчас», когда уже идет речь о присоединении этой страны к Рейху, – ее жители были «особо неблагосклонны к подозрительным товарищам вроде них – беспаспортному сброду, эмигрантскому отребью» (198), – т. е. и в данном случае мы снова наблюдаем действие механизмов выталкивания героев-эмигрантов по направлению к окраинам пространства эмиграции; это выталкивание всегда обусловлено немецким влиянием.
Описанные динамические процессы в пространстве эмиграции имеют еще одно следствие – то, что среди эмигрантов выделяется особая группа персонажей, которые берут на себя функцию сопротивления экспансии немецкого «варварства» (255). В свете дифференциации «разумных» и «неразумных» участков в пространстве эмиграции можно говорить о том, что «цивилизованные» периферийные зоны пространства порождают культурных героев – их функцию выполняют те из эмигрантов, которые участвуют в борьбе против наци, сопряженной с нелегальными поездками в Германию с целью пропаганды, распространения запрещенного материала и т.п. Функции культурного героя – «защитить род людской и вообще весь мир человеческий от злых чудовищ, которые либо воплощают в своем образе гибель мира, либо грозят разрушить только что сотворенный мир и снова ввергнуть его в первозданный хаос» [Альбедиль 2002: 175–176]; такую же угрозу для разумного мира создает расширяющееся национал-социалистическое государство. В задачи культурного героя входят «защита жизни людей от чудовищ» [Мелетин-ский 2000: 184], «уничтожение чудовищ и демонов» [Мелетинский 2000: 198], обеспечение «победы сообразительности, континуального разума …над разрушающим хаосом и психофизиологической неполноценностью» [Руднев 2002: 47]. С целью защиты цивилизованного мира от разрушения культурный герой «отправляется в иной мир» [Мелетинский 2000: 197].
Подобно тому как культурные герои отправляются в дикие земли, которые функционально близки подземному миру, поскольку и туда, и туда вытеснен остаточный хаос (см.: [там же: 212]), работающая в Германии нелегальная оппозиция ведет, по определению К. Манна, «подземную, тайную борьбу» (198). В романе «Вулкан», в отличие от «Бегства на север» (где судьба двух культурных героев однозначно находится в центре авторского внимания), центральные персонажи – кроме Марион фон Каммер в определенный период ее жизни – слабо связаны с этим феноменом. Однако при этом в числе периферийных персонажей культурные герои присутствуют, в частности, в четвертой главе первой части романа появляются «молодые рабочие-социалисты, которые бежали сюда через Страсбург. В Берлине они были учениками Тео Хумм-лера» (139). Они обсуждают с Хуммлером свои удачи и неудачи в деле антинацистской пропаганды среди рабочих, и он говорит следующее:
«Наше дело – просвещать их, и не один раз, а сотни раз. Для этого в Германии находятся те из наших людей, которые действительно что-то знают и чему-то научились. И вы для этого здесь, юноши! <…> Вы должны получить хороший материал, когда поедете обратно в Германию!» (139) (выделено мной. – А.П .). Задача всех этих персонажей заключается в «просвещении» немецких рабочих, в том, чтобы «переправлять туда разъяснения, предупреждения и призывы к непрерывному сопротивлению», «действовать в просветительском, пропагандистском ключе» (140), т. е. – в мифологической перспективе – в распространении разума и порядка на не охваченные цивилизацией территории; поэтому, несмотря на то что это персонажи второго плана, можно утверждать, что они имеют статус культурных героев.
Марион фон Каммер в период ее турне по европейским странам тоже выступает в роли культурного героя. Об этом свидетельствуют получаемые ею письма «от немцев – врагов режима наци, которые вынуждены были терпеть его в Рейхе и только на короткое время оказывались за границей. “Мы начали ненавидеть свою родину, – писали они. – Та Германия, в которой мы живем, достойна ненависти. Вы снова напомнили нам о другой Германии, вживую показали нам лучшую Германию”» (230). Считая немцев – сторонников Гитлера «ничего не понимающими и глупыми», Марион говорит о своей и своих единомышленников миссии – «их воспитывать» (263). Приобщение немцев к эмигрантскому видению мира и эмигрантской оценке происходящего в Германии в контексте мифологической семантики пространства эмиграции является приобщением к разуму и культуре – и это делает Марион культурным героем.
Следует отметить, что способность периферийных областей пространства эмиграции порождать культурных героев как реакция на расширение «темного» мира – это индивидуальная черта художественного мира Клауса Манна. Ни у Ремарка, ни у Фейхтвангера такого феномена не наблюдалось, хотя в остальном закономерности моделирования пространства эмиграции в романах данных трех авторов в целом идентичны.
Логика центробежно ориентированного пространства эмиграции предписывает героям движение в строго определенном направлении, поэтапно «выталкивая» их сначала из «темного» центра, средоточия хаоса и неразумия, к европейской периферии, а затем из Европы – в окраинные участки пространства эмиграции. При этом второй этап данного процесса – вытеснение эмигрантов из первого во второе «кольцо» – на- прямую обусловлен расширением немецкой территории и немецкого влияния, агрессивной экспансией Третьего рейха, и находит свое выражение как в процессах исторического масштаба, так и в событиях частной жизни героев-эмигрантов, которые в той или иной форме вытесняются либо персонально героями-наци, либо под воздействием усилившегося немецкого влияния.
При таком взгляде эмиграция становится единым сюжетно-пространственным комплексом. Зависимость сюжета от пространственно-временной организации неоднократно отмечалась теоретиками литературы. Так, Н. Д. Тамарченко пишет: «Изображенное пространство-время – это условия, определяющие характер событий и логику их следования друг за другом » [Тамарченко, Тюпа, Бройтман 2004: 178; выделено мной. – А.П .]. Ю. М. Лотман определяет сюжетное событие как «перемещение персонажа через границу семантического поля» [Лотман 1998: 223], а Н. Д. Тамарченко дополняет это определение следующим образом: « Событие – переход персонажа через границу, разделяющую “семантические поля” в тексте (с точки зрения автора и читателя) или части (сферы) пространства-времени в мире (с точки зрения героя, связанной с его представлениями о цели и о препятствиях к ее достижению)» [Тамарченко, Тюпа, Бройтман 2004: 184].
Приведенные наблюдения над соотношением пространства и сюжета в полной мере можно отнести и к изучаемому роману. Движение сюжета романа «Вулкан» определяется динамическими процессами в пространстве эмиграции: перемещения персонажей детерминированы расширением располагающегося в центре «темного» мира, в результате которого они выталкиваются из первого кольца во «второе». Это, в свою очередь, образует событийный стержень сюжетных линий как главных, так и второстепенных персонажей. Этим же фактором, а также потребностью сдержать расширение темного мира обусловлено появление особой группы культурных героев, достаточно обширно представленной в романе К. Манна. В силу этого можно утверждать, что обозначенный процесс пространственного характера оказывает решающее влияние на формирование романного сюжета, – причем данное заключение применимо не только к «Вулкану», но и к другим образцам жанра эмигрантского романа [см., например: Поршнева 2012].
DYNAMICS OF THE EXILE SPACE
Список литературы Динамика пространства эмиграции в романе Клауса Манна «Вулкан»
- Альбедиль М. Ф. В магическом круге мифов. Миф. История. Жизнь. СПб.: Паритет, 2002. 336 с
- Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 312 с
- Кудашова Н. Н. Портретизация толпы в тексте прозаического произведения (на материале пролога к роману Клауса Манна «Мефистофель»)//Лингвистические и экстралингвистические проблемы коммуникации. Саранск, 2006. Вып. 5. С. 40-44
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста//Лотман Ю.М. Об искусстве: Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). СПб., 1998. С. 14-285
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Вост. лит., 2000. 408 с
- Плутарх. Тесей//Плутарх. Избранные жизнеописания: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 27-54
- Поршнева А. С. Динамика пространства эмиграции в романе Лиона Фейхтвангера «Изгнание»//Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2012. №4. Т.1: Филология. С. 63-74
- Поршнева А. С. Пространство эмиграции в романе Клауса Манна «Вулкан»//Вестник Челябинского государственного университета. 2013. (В печати)
- Поршнева А. С. Пространство эмиграции в романном творчестве Э.М.Ремарка. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. 231 с
- Руднев В. П. Винни-Пух и философия обыденного языка. Изд. 3-е, испр., доп. и перераб. М.: АРГРАФ, 2002. 320 с
- Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройтман С. Н. Теория литературы: учеб. пособие: в 2 т. Т.1: Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Академия, 2004. 511 с
- Albrecht F. Klaus Manns „Mephisto. Roman einer Karriere“//Weimarer Beiträge. Berlin; Weimar, 1988. Jg. 34, №6. S. 978-1001
- Fitzsimmons L. “Scathe me with less fire”: disciplining the African German “Black Venus” in “Mephisto”//Germanic review. Washington, 2001. Vol.76, №1. P. 15-40
- Mann K. Der Vulkan: Roman unter Emigranten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999. 572 S