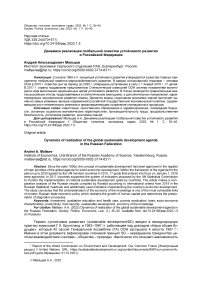Динамика реализации глобальной повестки устойчивого развития в Российской Федерации
Автор: Мальцев Андрей Александрович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
С начала 1990-х гг. концепция устойчивого развития утверждается в реестре главных приоритетов глобальной повестки мирохозяйственного развития. В рамках согласованной странами - членами ООН в 2015 г. повестки дня на период до 2030 г. утверждены вступившие в силу с 1 января 2016 г. 17 целей. В 2017 г. страны поддержали предложенную Статистической комиссией ООН систему показателей мониторинга хода выполнения национальных целей устойчивого развития. В статье проводится сравнительный анализ российских итогов, представляемых в статистическом ежегоднике, и дополнительных показателей, характеризующих экономическое развитие страны. Делается вывод: недооценка экономики знаний выступает одним из самых уязвимых звеньев современной российской государственной экономической политики, сдерживающим рост человеческого капитала и предопределяющим сохранение стагнационных процессов.
Инвестиции, качественное образование и здравоохранение, ликвидация бедности, основные социально-экономические характеристики, производительность труда, продовольственная безопасность, устойчивое развитие, экономика знаний
Короткий адрес: https://sciup.org/149139659
IDR: 149139659 | УДК: 338.24(470+571) | DOI: 10.24158/pep.2022.1.5
Текст научной статьи Динамика реализации глобальной повестки устойчивого развития в Российской Федерации
Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия, ,
Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Yekaterinburg, Russia, ,
Термин «устойчивое развитие» (sustainable development/SD) введен в международную практику комиссией Г.Х. Брунтланд, в 1983–1987 гг. работавшей над докладом «Наше общее будущее», который 42 сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заслушала 4 августа 1987 г.1 Именно в этом документе зафиксирован ключевой принцип SD – неразрывное триединство цепочки взаимодействия «человек – общество – природа». Фактически это означает невозможность обеспечения устойчивого развития, если, например, вопросы социально-экономической политики будут рассматриваться в отрыве от экологической повестки или наоборот. Такое «размыкание» цепочки взаимодействий обернется на деле крупными экономическими потерями и утратой человеческого капитала. На это неоднократно обращают внимание в своих работах отечественные и зарубежные специалисты, в частности, А.Г. Аганбегян (2018; 2019), А.А. Акаев, О.И. Давыдова (2020), В.И. Данилов-Данильян и др. (2020), Д.Х. Медоуз и др. (2014), Б.Н. Порфирьев (2016; 2020), В. Смил (2012), К. Шваб (2016), Б.Н. Порфирьев, А.А. Широв, А.Ю. Колпаков (2020) и др.
В глобальной повестке концепция SD закрепилась в реестре первых приоритетов 8 сентября 2000 г., когда в развитие идей рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК) от 9 мая 1992 г., подписанной по результатам Конференции ООН по окружающей среде и развитию 3–14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро1, на 55 сессии ГА ООН 193 страны приняли Декларацию тысячелетия (The United Nations Millenium Declaration), в которой под № 5 в перечне фундаментальных ценностей XXI века после «свободы», «равенства», «солидарности» и «терпимости» значилось «уважение к природе» с конкретизацией: «в основу охраны и рационального использования всех живых организмов и природных ресурсов должна быть положена осмотрительность в соответствии с постулатами устойчивого развития»2. Декларация тысячелетия принималась на 15-летний срок, по завершении которого 25 сентября 2015 г. на 70-й сессии ГА ООН страны-участницы приняли новую резолюцию «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)3. В Повестку-2030 вошли 17 целей в области устойчивого развития. В цели № 8 его главная миссия формулировалась в наиболее концентрированном виде: «Содействие поступательному, всеохватному экономическому и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех».
В реальной практической действительности все больше стран основу своих национальных стратегий развития начинают базировать на принципах SD. При этом обоснование наиболее эффективной стратегии практически во всех случаях строится с учетом фактора климатических изменений. Об этом, в частности, говорят названия соответствующих программ: «План действий в области климата» (Германия), «Стратегия экологически чистого роста» (Великобритания) и др. (Данилов-Данильян и др., 2020: 923). Однако обосновываемая в них, по сути, единственная ставка на снижение эмиссии парниковых газов для купирования негативных последствий изменений климата, как доказал 30-летний опыт деятельности Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), означает «недооценку социально-экономической специфики стран мира, в том числе России», и «не только не является панацеей, но зачастую ведет в тупик» (Да-нилов-Данильян и др., 2020: 922). В таком сопряжении социально-экономических и экологических повесток конечный эффект устойчивого развития становится недостижим.
В России постепенно укореняются различные аспекты SD. Оформляются, в частности, концепции устойчивого финансирования (Данилов, 2021; Порфирьев, 2016). Вот только их поддержка со стороны государства весьма фрагментарна (Данилов, 2021: 22). Это прямо отражается на динамике выхода на целевые ориентиры SD.
Дело в том, что 6 июля 2017 г. на 71-й сессии ГА ООН без голосования была принята ре-золюция4, утвердившая систему из 244 показателей достижения целей и задач в области устойчивого развития к 2030 г., приведенных в приложении к резолюции. Страны согласовали добровольное и по собственному усмотрению применение данного инструмента, а также ежегодную корректировку первоначального набора показателей и его возможный пересмотр на 56-й сессии Статистической комиссии в 2025 г. Во исполнение данных решений Росстат как национальный координатор деятельности федеральных органов государственной власти, связанной с мониторингом выполнения целей устойчивого развития, с 2019 г. дополнил содержание «Российского статистического ежегодника» (РСЕ) новым разделом – «Показатели достижения целей устойчивого развития».
Сводные данные Росстатом систематизированы по целям. В разрезе каждой из них (кроме № 12–14) приводятся данные за 2010–2019 гг. (при наличии). Формально почти по каждой из них РФ справляется с выполнением поставленных задач. Остановимся на некоторых приводимых в РСЕ данных. Так, в цели № 1, например, отмечается доля населения, живущего за международной чертой бедности, которая с 2010 г. в России стабильно держится на отметке 0,0 %. Цель № 2: среди родившихся в России детей в возрасте до 5 лет отклонение веса говорит не об истощении, а об имеющем место ожирении. Цель № 3: коэффициент материнской смертности (на 100 тыс. родившихся живыми детей) за 2010–2019 гг. снизился с 16,5 до 9,0; детская смертность до достижения возраста 5 лет (на 1 тыс. родившихся живыми) – с 9,9 до 6,0; заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. человек сократилась почти вдвое – с 76,9 до 41,2 (на 100 тыс. человек). Цель № 4: доля населения в возрасте 15–72 лет, владеющего навыками в области информационнокоммуникационных технологий, возросла с 72,7 % в 2015 г. до 75,5 % в 2019 г. Цель № 5: гендерное равенство укреплялось практически по всем параметрам, в частности, доля женщин на руководящих должностях увеличилась с 47,5 % в 2015 г. до 49,7 % в 2019 г. К чистой воде (цель № 6) в 2018 г. имели доступ 93,6 %, к электроэнергии – 100 % жителей страны (данные приводятся за 1 год). С экономическим ростом и инновациями (цели № 8–9) ситуация выглядит поскромнее, но согласно приведенным данным (табл. 1) большинство параметров оказались в «зеленой» зоне1.
Таблица 1 – Официальные итоги выполнения целей № 8 «Достойная работа и экономический рост» и № 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» устойчивого развития в РФ2
|
Показатель |
2010 |
2015 |
2019 |
|
Индекс физического объема ВВП на душу населения за год, предшествующий предыдущему, % |
104,5 |
97,8 |
101,4 |
|
Индекс производительности труда, % |
103,2 |
98,7 |
102,0 |
|
Уровень безработицы, % |
7,3 |
5,6 |
4,6 |
|
Расходы на НИОКР, % от ВВП |
1,13 |
1,10 |
1,03 |
|
Количество исследователей в эквиваленте полной занятости, на 1 млн жителей |
3094,3 |
3065,1 |
2730,3 |
|
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП за год, предшествующий предыдущему, % |
22,8 |
21,1 |
21,1 ∗ |
Примечание: ∗ – 2018 г.
Однако можно попытаться оценить параметры устойчивого развития РФ в несколько ином измерении. Для начала напомним, что еще 7 мая 2012 г. Президент РФ в качестве главной цели среднесрочного развития страны назвал повышение к 2018 г. темпов, упавших с 6,2 % среднегодового прироста ВВП за 2001–2005 гг. до 3,6 % в 2006–2010 гг.3, и обеспечение устойчивости экономического роста. Конкретно указаны были 5 целевых ориентиров4.
Во-первых, создать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ), правда, к 2020 г. задачу решали главным образом «на бумаге», по крайне интересной методике Росстата, когда ВПРМ определялись не по производительности труда, а по средней заработной плате на предприятии. Если таковая превышала некое пороговое значение, установленное с учетом отрасли и региона, все рабочие места на предприятии автоматически зачислялись в «высокопроизводительные». В 2018 г. таким «учетно-зачетным» методом вышли на 19,5 млн ВПРМ, но перспективы дальнейшего реального роста заработных плат делали итоговую задачу недостижимой5.
Во-вторых, довести объем инвестиций не менее чем до 25 % ВВП к 2015 г. и 27 % к 2018 г. Однако если в 2012 г. вложения в основной капитал составляли 21 % ВВП, то к 2018 г. они сократились до 17 % ВВП (Аганбегян, 2019: 4), что сопровождалось затуханием среднегодовых темпов роста с 11,0 % за 2006–2010 гг. до 4,5 % в 2011–2015 гг. и 2,6 % в 2016–2019 гг.6 За 2020 г. произошло абсолютное сокращение потока инвестиций на 1,4 % к предыдущему году7.
В-третьих, увеличить долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза по сравнению с 2011 г. Другими словами, с 19,7 % в 2011 г. данный показатель требовалось нарастить до 25,6 %. По факту вышли на 21,3 %, выполнив задачу на 83,2 %1.
В-четвертых, увеличить производительность труда в 2018 г. в 1,5 раза относительно уровня 2011 г. Здесь произошло самое большое недовыполнение задания – удалось добиться лишь 5,5 %увеличения2.
Для более полного представления о ходе достижения целей устойчивого развития в РФ в разрезе выделенных выше направлений выберем наиболее емкие характеристики, показывающие максимально приближенное к реальной действительности статус-кво. В сжатом виде получается следующее.
Цель № 1: к сожалению, бедность в России не сокращается, а растет. По итогам II квартала 2019 г., то есть до начала пандемии число бедных россиян достигло 19 млн человек или 13 % граждан страны (Порфирьев, 2020: 244). При этом с 2013 г. реальные доходы населения (РДН) падают – накопленным за 2014–2019 гг. итогом на 12 % – при увеличении реальных доходов федерального бюджета РФ за тот же период на 9,5 %6. В 2020 г. РДН снизились в стране еще на 3,6 %7.
Цель № 2: развитие сельского хозяйства России последних лет отличает лучшая из всех макроэкономических итогов страны динамика. За 2013–2018 гг. накопленный рост составил 19,8 % (Порфирьев, 2020: 244), 2019 г. добавил еще 4,1 %8, 2020 г. удалось также завершить с плюсом 5,3 %9. По итогам 2020 г. перевыполнены пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности10 по мясу и мясопродуктам (109,03 % к целеустановке), зерну (110,99 %), растительному маслу (161,2 %), но не выполнены по молоку и молочной продукции (недовыполнение 0,73 %), картофелю (2,35 %), овощам и бахчевым (4,46 %), сахару (8,14 %), рыбе и рыбной продукции (16,79 %), фруктам и ягодам (22,64 %) (Ушачев, Колесников, 2021: 62). При этом сохраняется технологическая зависимость АПК по импорту целого ряда критических позиций.
Цель № 3: качественное здравоохранение - важнейшая составляющая развития человеческого капитала общества. Однако в 2014–2018 гг. реальные расходы на здравоохранение в стране заморозили, Россия оказалась на 96 месте в мире по расходам на здравоохранение в процентном отношении к ВВП11. Для сравнения: РФ тратит на здравоохранение 4 % ВВП против в среднем 10 % в развитых странах Европы и 17 % ВВП в США (Аганбегян, 2019: 13).
Цель № 4: образование и наука - наряду со здравоохранением - важнейшие элементы экономики знаний, выступающие ключевыми факторами, обеспечивающими устойчивость экономического роста. Как отмечает академик РАН А.Г. Аганбегян, еще в 1960-е гг. Россия находилась на третьем месте в мире по уровню развития образования, а в настоящее время занимает 33-ю позицию, по его финансированию – примерно 100-ую (Аганбегян, 2018: 152). Только и остается, что вспомнить пророческие слова Д.И. Менделеева: «Без светоча науки и с нефтью будут потемки»1.
Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, подтверждается точка зрения большинства отечественных специалистов: «Россия сильно отстает от ряда стран в плане внедрения принципов устойчивого развития в практику функционирования предприятий реального сектора». Их недооценка чревата тем, что «в среднесрочной перспективе без перехода к устойчивому развитию Россия может оказаться на обочине мировой цивилизации» (Данилов, 2021: 22).
Во-вторых, продолжает сохраняться явное недофинансирование институтов развития человеческого капитала. По соотношению расходов на здравоохранение и образование к расходам военного бюджета в списке из 15 стран-лидеров по его абсолютным параметрам Россия занимает предпоследнее место – 2,3 %, сумев «опередить» только Саудовскую Аравию – 1,2 % (Дын-кин, 2020: 215). Речь, понятно, не о величине отечественных оборонных расходов – 61,7 млрд долл. в 2020 г. или четвертая позиция по их абсолютным объемам, которые просто несопоставимы с 778,0 млрд долл. США – лидера абсолютного зачета2, а о том, что даже в условиях пандемии в проект федерального бюджета на 2022 г. заложено снижение расходов и по позиции «национальная экономика» – на 4,2 %, и на здравоохранение – минус 8,6 %3.
В-третьих, как раз на основе доработки механизма обеспечения устойчивого развития экономики можно попытаться, наконец, реализовать выдвинутую Д.И. Менделеевым идею «избавить (Россию – А.М.) от экономической зависимости, сделать богатой и безостановочно прогрессирующей посредницей между Западом и Востоком»4. В 1897 г. выдающийся русский ученый прямо призывал направить на реализацию данной задачи «всю совокупность мероприятий государства, благоприятствующих промыслам и торговле и к ним приноравливаемых, от школ до внешней политики, от дороги до банков, от законоположений до всемирных выставок, от бороньбы земли до скорости перевозок». Сказано, заметим, ровно 125 лет назад, но полностью корреспондирует с постулатами современной концепции устойчивого развития.
Список литературы Динамика реализации глобальной повестки устойчивого развития в Российской Федерации
- Аганбегян А.Г. Исследование социально-экономического развития России (о книге В.А. Мау «Кризисы и уроки. Экономика России в эпоху турбулентности» и не только) // Вопросы экономики. 2018. № 6. С. 146-154. https://d0i.0rg/10.32609/0042-8736-2018-6-146-154
- Аганбегян А.Г. О неотложных мерах по возобновлению социально-экономического роста // Проблемы прогнозирования. 2019. № 1 (172). С. 3-15.
- Акаев А.А., Давыдова О.И. Парижское климатическое соглашение вступает в силу. Состоится ли Великий энергетический переход? // Вестник Российской академии наук. 2020. Т. 90, № 10. С. 926-938. https://d0i.0rg/10.31857^0869587320100023
- Данилов-Данильян В.И., Катцов В.М., Порфирьев Б.Н. Проблема климатических изменений - поле сближения и взаимодействия естественных и социогуманитарных наук // Вестник Российской академии наук. 2020. Т. 90, № 10. С. 914-925. https://d0i.0rg/10.31857/в0869587320100035
- Медоуз Д.Х., Рандерс Й., Медоуз Д.Д. Пределы роста: 30 лет спустя. М., 2014. 358 с.
- Порфирьев Б.Н. «Зеленые» тенденции в мировой финансовой системе // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60, № 9. С. 5-16. https://d0i.0rg/10.20542/0131-2227-2016-60-9-5-16
- Порфирьев Б.Н. Перспективы экономического роста в России // Вестник Российской академии наук. 2020. Т. 90, № 3. С. 243-250. https://d0i.0rg/10.31857/S0869587320030159
- Порфирьев Б.Н., Широв А.А., Колпаков А.Ю. Стратегия низкоуглеродного развития: перспективы для экономики России // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64, № 9. С. 15-25. https://d0i.0rg/10.20542/0131-2227-2020-64-9-15-25
- Смил В. Энергетика: мифы и реальность. Научный подход к анализу мировой энергетической политики. М., 2012. 272 с. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М., 2016. 138 с.
- Данилов Ю.А. Концепция устойчивых финансов и перспективы ее внедрения в России // Вопросы экономики. 2021. № 5. С. 5-25. https://d0i.0rg/1032609/0042-8736-2021-5-5-25
- Ушачев И.Г., Колесников А.В. Экономическая доступность продовольствия для населения Российской Федерации // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2021. № 4. С. 59-77. https://d0i.0rg/10.52180/2073-6487_2021_4_59_77
- Дынкин А.А. Международная турбулентность и Россия // Вестник Российской академии наук. 2020. Т. 90, № 3. С. 208219. https://d0i.0rg/10.31857^0869587320030032