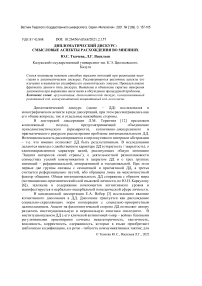Дипломатический дискурс: смысловые аспекты расхождения во мнениях
Автор: Ткачева Юлия Сергеевна, Васильев Лев Геннадьевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена неявным способам передачи интенций при реализации несогласия в дипломатическом дискурсе. Рассматриваются различные аспекты его изучения и выявляется специфика его семиотических локусов. Проведен анализ фрагмента данного типа дискурса. Выявлены и объяснены скрытые намерения дипломатов при выражении несогласия в обсуждении процедурной проблемы.
Аргументация, дипломатический дискурс, коммуникативный реактивный ход, коммуникативный инициативный ход, несогласие
Короткий адрес: https://sciup.org/146282286
IDR: 146282286 | УДК: 81’42:808 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.157
Текст научной статьи Дипломатический дискурс: смысловые аспекты расхождения во мнениях
Дипломатический дискурс (далее – ДД) исследовался в монографическом аспекте в ряде диссертаций, при этом рассматривались как его общие вопросы, так и отдельные важнейшие стороны.
В докторской диссертации Л.М. Терентия [12] предложен комплексный подход, предусматривающий объединение психолингвистического (примарного), когнитивно-дискурсивного и прагматического ракурсов рассмотрения проблемы интенциональности ДД. Интенциональность рассматривается в перлокутивном интервале абстракции – т.е. что именно позволяет ДД быть результативным. В исследовании делаются выводы о двойственном характере ДД (открытость / закрытость), о единонаправленном характере целей, реализующих общую интенцию ‘Защита интересов своей страны’), о деятельностной разноплановости совместных усилий коммуникантов в закрытом ДД и о трех группах интенций – референциальной, интерактивной и эмоциональной. При этом первые две группы связаны с семантикой и прагматикой ДД, а третья считается референциально пустой, ибо обращена лишь на межличностный фактор общения. Общая интенциональность ДД сопряжена с образом мира (мотивационно-прагматический слой языковой личности, по Ю.Н. Караулову [6]), заложена в содержании компонентов когнитивного уровня и манифестируется в вербально-невербальной поведенческой сфере личности.
В кандидатской диссертации Е.А. Вебер [3] исследовано явление когнитивного диссонанса в ДД. Диссонанс трактуется как расхождение социально-скрепляющих норм кооперации с социально-приоритетным целеполаганием. Акцент на филогенетической стороне ДД позволяет автору разделить институциональную и персональную ипостаси последнего. В институциональном ДД с его ключевой антиномией «мир – война» базовыми регулятивными ориентирами сочтены некатегоричность, тактичность, вежливость, корректность, сдержанность, которые в языке приобретают шаблонную кодификацию, а в речи – гибкость коммуникативных тактик; для
снижения когнитивного диссонанса они реализуют стратегии создания двусмысленностей, эвфемизации, политкорректности, псевдономинации, смены коммуникативного фокуса, молчания и умолчания, ухода от ответа. В персональном ДД примат отдается конфликто-урегулирующей функции, а предметная область не связана с социумно-групповым фактором.
В исследовании Т.А. Волковой [4] ставится цель изучения речеязыковых особенностей и жанровых опор ДД. К последним можно отнести модели построения ДД и отдельно – его анализа, который моделируется на основе взаимодействия понятий ‘текст’, ‘дискурс’ и ‘коммуникация’, воплощаясь в авторской модели стратегий перевода документов. Эта стратегия представлена как реагирующая, т.е. связанная с особенностями целей, ценностей, свойств, функций дипломатического текста, а также со спецификой его коммуникативных реализаторов. Макростратегия перевода подчинена задачам создания эквивалентного прагматического эффекта, компенсации, сохранения исходного синтаксиса, использования дискурсивной формулы; отдельно описана стратегия самопрезентации с тактиками позиционирования, убеждения, внушения, психологического заражения.
В диссертации А.С. Кожетевой [7] ДД изучается в ракурсе информативности, конвенциональности и персуазивности поджанра дипломатических нот. Внимание сосредоточено на экстралингвистических факторах создания ноты, на зависимости степени персонализированности и адресованности ноты от задач деловой переписки, на коммуникативнопрагматических категориях, параметрах хронотопа и интертекстуальности поджанра. Выявляется набор наиболее активных тактик стратегии вежливости и средства их манифестации. Оценочное измерение ключевых лексем проводится методом семиометрии, коммуникативных интенций – методом интент-анализа, частотности манифестации релевантных характеристик – методом контент-анализа.
В диссертации Х. Трабелси [13] изучены базовые характеристики ДД, к которым автором отнесены информативность, коммуникативность и национально-культурная маркированнность. Они отражены в стратегиях и тактиках и реализуются как вербально, так и невербально. ДД считается близким по стилю политическому, но отличается от последнего степенью закрытости, спецификой адресатов, целью, речевыми и языковыми аспектами. Излагаются особенности дипломатической документации как материального отпечатка соответствующих дискурсивных практик, а учет национальных и религиозных традиций задает научную новизну исследования. Выявлены языковые и коммуникативные особенности ДД, объединенные общими правилами – простотой, ясностью, дискретностью, неоднозначностью, митигативностью.
Диссертация Н.В. Новикова [9] посвящена изучению коммуникативных стратегий цифровой дипломатии – текстов с графическим дополнением, опубликованных в интернете. Такой креолизированный дискурс не признается статусно-ориентированным; в нем адресант является обычно единично-коллективным, а адресат – массовым, и коммуникация носит вертикальный характер. Прагматическая установка адресанта на
«своих» нацелена на поддержание корпоративной культуры в дипломатической практике в интернете. В ориентированности на «не-своих» адресатов она направлена на формирование позитивного образа страны путем стратегий информирования, оценки и аргументации. Семантическая же установка направлена на информирование недифференцированной аудитории об основных событиях внешнеполитической жизни и на их комментирование. Ключевыми текстовыми категориями в цифровой дипломатии считаются ‘информативность’, ‘самопрезентация’ и ‘манипулятивность’.
В дополнение к описанным мы предлагаем вслед за [5], [10], [11] набор семиотических локусов ДД. Содержание локусов следующее.
(А) Дискурсивный тип: преимущественно институциональный с существенностью статусных и несущественностью социальных, возрастных и гендерных характеристик. (Б) Тема: защита интересов своей страны и организаций на международной арене. (В) Способ реализации: инициативнореактивное, информативное и фатическое общение. (Г) Степень официальности: формальное в официальной обстановке и формальное/неформальное в неофициальной диадической коммуникации. (Д) Форма: прямое и косвенное общение диалогического типа. (Е) Соотношение формы и содержания: прямое и косвенное в сопоставимых долях. (Ж) Структура: гибкая с варьированием тактик. (З) Каналы связи: преимущественно моносемиотическое общение.
Данная система может быть уточнена в зависимости от субжанра ДД, конкретики коммуникативной ситуации и выбора степени дробности таксономизации.
Общие и частные характеристики ДД могут быть дополнены в весьма важном отношении – синтагматики выражения мнения, его обсуждения и тактик согласия и несогласия.
Прямая демонстрация негативной реакции может помешать продуктивному общению. Дж. Лич предписывает свести к минимуму выражение невежливых убеждений – ср. максиму Согласия [15: 131 – 139].
Чтобы выражение несогласия не привело к возникновению конфликтной ситуации, адресанту надо использовать средства смягчения выражения негативной реакции с помощью, например, неявного способа передачи интенции. Адресат может вывести скрытый смысл, исходя из речевой ситуации речи и общих фоновых знаний.
При анализе тектоники диалога мы ориентировались на классификацию коммуникативных ходов М.Л. Макарова. К уже выделенным другими исследователями ходам (инициирующие, продолжающие, поддерживающие, обрамляющие, закрывающие, ответные, фокусирующие, метакоммуникатив-ные и др.) он добавляет предписывающие ходы, которые обычно являются инициативными (вопросы, приказы, просьбы и др.), и реактивно-инициативные ходы, наиболее полно выражающие функциональное своеобразие хода. Последний тип может отражать, например, реактивную импликатуру, которая сосуществует с инициативной экспликатурой [8: 138, 148 – 149].
Особый интерес в данном случае представляет ДД, где высока вероятность возникновения конфликтных ситуаций между коммуникантами, но эта вероятность должна быть сведена к минимуму. Анализируемый пример взят из русскоязычной стенограммы первого заседания Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (19–30 октября 1943 г.). Конференция была созвана для согласования странами-членами Антигитлеровской коалиции вопросов дальнейшего ведения войны. Разберем краткий диалог между советскими (В.М. Молотов – зампредседателя Совнаркома, нарком иностранных дел, М.М. Литвинов — заместитель наркома иностранных дел), британскими (А. Иден – министр иностранных дел) и американскими (К. Хэлл, госсекретарь США) участниками.
Для удобства анализа реплики участников коммуникации обозначим буквами (a) – (k). Предмет анализа – синтагматика реплик участников, направленная на разрешение несогласия по организационному вопросу. Приводим запись анализируемой ситуации:
-
(a) Молотов . … Со своей стороны я вношу предложение, чтобы мы председательствовали поочередно.
-
(b) Иден . Мы были бы очень рады, если бы Вы председательствовали все время.
-
(c) Молотов . Я считаю, что нужно распределить трудности этого дела между нами.
-
(d) Хэлл . Если бы председатель каждый день менялся, то это было бы равносильно тому, как если бы каждый день менялось командование армии.
-
(e) Молотов. В данном случае на этом фронте такой порядок не изменил бы результатов. Я думаю, вышло бы даже лучше. Но мне бы не хотелось начинать наше совещание с разногласий.
-
(f) Хэлл . Средства в Ваших руках.
-
(g) Молотов . Я все же просил бы принять мое предложение, если это нетрудно.
-
(h) Хэлл . Я считаю, что если бы у нас был один председатель, то это содействовало бы ведению нашего совещания.
-
(i) Молотов . Нельзя ли принять компромиссное решение?
-
(j) Литвинов. Не стоит спорить.
-
(k) Молотов . Я принимаю совет г-на Литвинова, но в дальнейшем мы можем внести поправку [16: 85–86].
В самом начале интеракции реализуется инициативный предписывающий коммуникативный ход: В.М. Молотов выдвигает предложение о поочередном председательстве представителей стран, присутствующих на конференции (a). В качестве реакции на инициативность А. Иден выражает несогласие с предложением адресанта, выдвигая встречное предложение (b). Данный ход можно охарактеризовать как реактивно-инициативный. Он содержит реактивную импликатуру – косвенный ответ на (a) и инициативную экспликатуру, эксплицирующую пресуппозицию просьбы. Специфика выражений речевого этикета связана с использованием сослагательного наклонения: эта глагольная форма не переводит высказывание в план ирреальной модальности, а манифестирует субъективную модальность, меру вежливости, смягчения сообщения о своем намерении.
Третья реплика вновь принадлежит В.М. Молотову и представляет собой реактивно-инициативный предписывающий ход (c). Его высказывание, так же, как и А. Идена, несет в себе скрытый смысл несогласия с выдвинутым предложением. Нарком СССР настаивает на своей позиции и обосновывает её, используя перифраз с измененным значением – трудности этого дела . Данный перифраз подразумевает обязанности председателя, и советский нарком с его помощью выражает свое отношение к такого рода обязанностям. Но здесь возможны две трактовки его отношения к ситуации по принципу противопоставления затрат и выгод. Первая – В.М. Молотов находит уровень ответственности слишком высоким и не хочет брать единоличную ответственность за принятие итогового решения. Таким образом, его первой возможной интенцией является распределение обязанностей председателя между остальными участниками конференции в связи с тем, что он находит работу на данном посту трудной. Вторая – возможно, он использует выражение трудности этого дела, чтобы придать значимость этой должности, и тогда его намерение – это косвенный комплимент: другие члены конференции также могут хорошо справиться с этими обязанностями. Возможно, что В.М. Молотов хочет предложить эту почетную миссию и другим министрам (ср. максимы Великодушия и Такта Дж. Лича [15: 131 – 139]) и не использовать единолично привилегии занимаемой должности, предлагая разделить их с коллегами.
Следующим в дискуссию вступает К. Хэлл. Он реагирует на речевой акт В.М. Молотова, не соглашаясь с его позицией (d). Как и остальные участники коммуникации, К. Хэлл не выражает свое несогласие с тезисом адресанта прямо. Он пытается аргументировать свою позицию, используя тип Основания Аналогии (см. о нем: [1: 11]), сравнивая председателя с командующим армии. Используемое сослагательное наклонение также снижает категоричность утверждения.
В.М. Молотов реагирует на аргументацию К. Хэлла, выражая несогласие с подобным способом доказывания тезиса (e). Нарком использует выражение на этом фронте, чтобы указать на ситуативную неприменимость аналогии К. Хэлла: на конференции таких последствий, как на фронте не последовало бы. Следующую реплику Я думаю, вышло бы даже лучше можно отнести к явлению аргумента ‘ наклонная плоскость’: «как только совершается первый шаг, становятся неизбежными и другие шаги, и мы неминуемо скатываемся по скользкому склону» [2: 117]. Обычно тут речь идет о последовательности нежелательных событий, но В.М. Молотов использует это аргумент с противоположным значением, подразумевая положительные последствия от принятия решения о поочередном председательствовании. Последняя реплика В.М. Молотов в рамках данного хода подчеркивает его стремление к кооперации: Но мне бы не хотелось начинать наше совещание с разногласий (соблюдение максимы Согласия Дж. Лича). Таким образом, данный ход является тоже реактивно-инициативным.
Следующий ход, принадлежащий К. Хэллу, также можно отнести к реактивно-инициативному типу. С одной стороны, он реагирует на предшествующее высказывание В.М. Молотова, не соглашаясь с ним, но и не отри- цая его (f). Он предпочитает оставить принятие решения за советским наркомом. В то же время ход выполняет инициативную роль, неся в себе следующий смысл: К. Хэлл вновь настаивает на своей позиции, подразумевая, что В.М. Молотов имеет право принятия решения, так как будет занимать должность председателя все время.
Затем В.М. Молотов снова предлагает занимать должность председателя поочередно, на этот раз формулируя свое предложение в виде просьбы (g). Сослагательное наклонение используется чтобы смягчить сообщение о намерении. С той же целью он использует аргументативный элемент Оговорка если не трудно. Этот ход выполняет инициативную роль, вновь демонстрируя неприятие В.М. Молотовым идеи председательства.
В качестве ответа на просьбу В.М. Молотова можно наблюдать новую попытку К. Хэлла не согласиться на предложение советского комиссара (h). В сей раз несогласие с предложением адресанта он выражает, давая Основание Обобщения [1: 11]. К. Хэлл, видимо, подразумевает то, что один начальник будет вести совещание лучше.
Следующая за аргументом К. Хэлла реплика В.М. Молотова указывает на несогласие с доводами адресанта. В данном случае, используя интер-рогатив, комиссар выдвигает встречное предложение о достижении компромисса (i). Учитывая нежелание А. Идена и К. Хэлла председательствовать по очереди, варианты компромисса таковы: либо заседать без председателя вовсе, либо председательствовать будут сразу все три министра. Однако на основе аргумента ‘к традиции’ (апелляции к устоявшейся в обществе системе образцов, норм и правил) принять одну из этих альтернатив не представляется возможным. Очевидно, что В.М. Молотов использует понятие ‘компромиссное решение’, подразумевая под ним принятие своей позиции, то есть он продолжает отстаивать свою исходную точку зрения.
Ввиду тупиковости ситуации в беседу вступает М.М. Литвинов с ини-циативно-предписывающей репликой. Он просит прекратить дискуссию, опасаясь, по-видимому, что это может вызвать серьезные разногласия (j). Такое нарушение субординации со стороны подчиненного, который позволяет себе поправлять начальника, возможно, вызвано тем, что М.М. Литвинов раньше уже занимал должность наркома по иностранным делам. Его опыт значительно солиднее (9 лет), чем у В.М. Молотова (менее 4-х лет), и он значительно старше по возрасту. Также известно, что в отношениях между М.М. Литвиновым, с одной стороны, и И.В. Сталиным и В.М. Молотовым, с другой, существовала напряженность [14: 197].
Реакция В.М. Молотова: он соглашается с позицией М.М. Литвинова, но принимать предложение К. Хэлла и А. Идена не желает (k). Его ход в этой ситуации содержит в себе фатический акт: он направлен на поддержание отношений между сторонами.
Схематично изобразить структуру данного диалога можно, обозначив инициативный ход как I, реактивный – R:
-
(a) I предложение (зкспликатура) -<----
-
(b) R несогласие с тезисом без обоснования (импликатура)
-
I просьба (зкспликатура) -*----
- (с) R несогласие выполнить просьбу (импликатура)
-
I предложение (зкспликатура) ^----
- (d) R несогласие с тезисом (импликатура) аргументация позиции (зкспликатура) *---- (е) R несогласие со способом аргументации (импликатура) аргументация (зкспликатура)
-
I пожелание (зкспликатура) *--------
- (f) R передача права принятия решения (зкспликатура)
I уже принятое решение (импликатура)
-
(g) I просьба (зкспликатура) *--------
- несогласие с позициями коммуникантов (импликатура) -------i
-
(h) R несогласие выполнить просьбу (импликатура) “1 аргументация позиции (зкспликатура)
-
(i) R несогласие с позицией коммуникантов (импликатура) --------;,
I вопрос (зкспликатура) предложение принять позицию говорящего (импликатура)
0) I совет (зкспликатура) *--------
-
(k) R согласие принять совет (зкспликатура) несогласие принять позицию коммуникантов (импликатура) ------- надежда на возвращение к обсуждению темы в будущем (зкспликатура)
Схема 1. Структура диалога
Большинство коммуникативных ходов носят инициативный предписывающий характер или представляют собой реактивно-инициативные ходы, что означает, что все участники коммуникации претендовали на ведущую коммуникативную роль на данном этапе их диалога, стремясь направлять разговор в нужное русло. Однако им удалось избежать конфликтов, ибо они не выражали несогласие с позициями оппонентов напрямую (соблюдение Принципа Вежливости Дж. Лича). Для аргументирования своей точки зрения и убеждения других в ее принятии представители трех держав использовали Основания Аналогии и Обобщения, аргументативную ошибку ‘наклонная плоскость’, которая применяется здесь с противоположным значением. Для смягчения выражения негативной реакции и выдвижения предложений использовалась Оговорка, сослагательное наклонение в разных функциях, перифраз с измененным значением.
Дипломатический дискурс представляет интерес для дальнейшего изучения и выявления его семиотических особенностей.
Список литературы Дипломатический дискурс: смысловые аспекты расхождения во мнениях
- Васильев Л.Г. Основы аргументации: Учебное пособие. Ч. I. Аргумента-тивно-функциональная модель. Калуга, 1995. 15 с.
- Васильев Л.Г. Проблема речевого воздействия: отечественные и зарубеж-ные подходы. Калуга: Калужский гос. ун-т им. К.Э. Циолковского, 2016. 152 с.
- Вебер Е.А. Опыт лингвистического исследования когнитивного диссонанса в английском дипломатическом дискурсе: автореф. дис. … канд. филол. наук. 10.02.04 / Е.А. Вебер; Иркутский гос. лингв. ун-т. Иркутск, 2004. 20 с.
- Волкова Т.А. Дипломатический дискурс в аспекте стратегичности перевода и коммуникации (на материале английского и русского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук. 10.02.20 / Т.А. Волкова; Тюменский гос. ун-т. Тюмень, 2007. 24 с.
- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Пе-ремена, 2002. 477 с.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 264 с.
- Кожетева А.С. Лингвопрагматические характеристики дипломатического дискурса (на материале вербальных нот): автореф. дис. … канд. филол. наук. 10.02.19 / А.С. Кожетова; Московский гор. пед. ун-т. М., 2012. 23 с.
- Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 280 с.
- Новиков Н.В. Коммуникативные стратегии цифровой дипломатии: авто-реф. дис. … канд. филол. наук. 10.02.19 / Н.В. Новиков; Московский гор. пед. ун-т. М., 2017. 26 с.
- Ренц Т.Г. Романтическое общение в коммуникативно-семиотическом ас-пекте: дис. … докт. филол. наук. 10.02.19 / Т.Г. Ренц; Волгоградский соц.-пед. ун-т. Волгоград, 2011. 376 с.
- Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2001. 252 с.
- Терентий Л.М. Интенциональная структура дипломатического дискурса: автореф. дис. … докт. филол. наук. 10.02.19 / Л.М. Терентий; Военный ун-т. М., 2017. 56 с.
- Трабелси Х. Лингвокоммуникативный анализ дипломатического дискурса: автореф. дис. … канд. филол. наук. 10.02.01 / Х. Трабелси; Гос. институт русского языка им. А.С.Пушкина. М., 2013. 23 с.
- Шейнис 3. С. Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, че-ловек / М.: Политиздат, 1989. 362 с.
- Leech G.N. Principles of Pragmatics. London; N.Y.: Longman, 1983. 250 p.