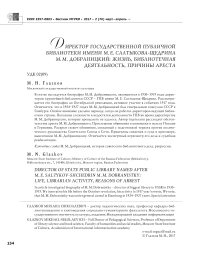Директор Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина М.М. Добраницкий: жизнь, библиотечная деятельность, причины ареста
Автор: Глазков Михаил Николаевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Библиотечно-информационная деятельность
Статья в выпуске: 2 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется биография М.М. Добраницкого, являвшегося в 1930-1935 годы директором крупнейшей библиотеки СССР - ГПБ имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Рассматривается его биография до Октябрьской революции, активное участие в событиях 1917 года. Отмечается, что в 1924-1927 годах М.М. Добраницкий был генеральным консулом СССР в Гамбурге. Особое внимание уделено периоду, когда он работал директором ведущей библиотеки страны. Показаны сложности и недостатки деятельности ГПБ во время директорства М.М. Добраницкого, которые преодолеть не удалось. Автор тщательно расследует обстоятельства ареста М.М. Добраницкого. Прослежены обвинения в шпионаже в пользу Польши и Германии. Раскрыт сюжет обвинения, связанный с подготовкой теракта против политического руководства Советского Союза в Сочи. Приведены сведения о суде и приговоре, вынесенном М.М. Добраницкому. Отмечается посмертный пересмотр его дела и судебная реабилитация.
М.м. добраницкий, история советского библиотечного дела, репрессии
Короткий адрес: https://sciup.org/144161074
IDR: 144161074 | УДК: 02(09)
Текст научной статьи Директор Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина М.М. Добраницкий: жизнь, библиотечная деятельность, причины ареста
В XXI веке к нам возвращаются всё новые «забытые» имена, связанные с библиотечным делом 1930-х годов. Первичные биографические сведения о директоре Государственной Публичной библиотеки Мечиславе Михайловиче Добраницком собраны в публикациях В. Д. Чурсина [9, с. 281–301].
Мы же в данной статье акцентируем внимание на анализе последних трагических обстоятельств его жизни.
М. М. Добраницкий родился 8 января 1882 года в городе Лодзь на юго-западе Польши в семье купца 2-й гильдии. Получив образование в Германии, он подтвердил свой диплом доктора права на экзамене в Казанском университете в 1912 году. В 1901–1914 годах активный член Социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы. За нелегальную работу в Лодзинском комитете партии в 1903–1904 годах почти год отсидел в Варшавской крепости. Судебная палата Санкт-Петербурга осудила его на 5 лет ссылки, но он ушёл в революционное подполье и эмигрировал. В 1907 году участвовал в V Съезде РСДРП в Лондоне, близко познакомился с В. И. Лениным. В 1910 году вернулся в Россию, в 1912–1914 годах – помощник присяжного поверенного, питерский адвокат. После начала Первой мировой войны в 1915 году был приписан к одной из воинских частей Юго-Западного фронта, ефрейтор запаса.
Февральскую революцию 1917 года М. М. Добраницкий встретил с ликованием. В марте 1917 года он член фронтового Военно-революционного комитета. Вскоре вошёл в петроградский ЦИК рабочих и солдатских депутатов. Примкнул к меньшевикам. Заметим, что Мечислав Михайлович весной 1917 года пользовался легковым автомобилем – редкостью, доступной тогда только представителям высшей власти. Хотя официально по должности (член Военной комиссии Временного правительства) он к высшей власти не принадлежал.
После Октябрьского переворота в 1917 году (согласно другим данным в 1918 году) Добраницкий по невыясненным причинам уезжает или бежит(?) из столицы в Ростов-на-Дону. Два года он служит в Областном совете профсоюзов Ростова, руководит рабочим секретариатом.
В 1921–1922 годах заведует музеем революции в Тифлисе. Только в 1922 году он возвращается в новую столицу – Москву, работает в Архиве Октябрьской революции, по совместительству – профессором Коммунистического университета имени Свердлова и I-го МГУ. В 1923 году он вступает в коммунистическую партию – РКП(б).
Осенью 1924 года М. М. Добраницкий назначается Генеральным консулом СССР в Гамбурге. В июне 1927 года переведён на должность заведующего отделом Наркомата иностранных дел по Прибалтике и Польше. Важно заметить, что он принял непосредственное участие в Специальной российско-польской смешанной комиссии по возвращению культурных ценностей Польше. Согласно позднейшим оценкам специалистов, смешанная комиссия в одностороннем порядке обогатила «буржуазную» Польшу ценностями, которые ни юридически, ни по законам исторической справедливости не должны были покидать нашу страну.
В 1929–1930 годах М. М. Добраниц-кий преподавал в Одесском университете народного хозяйства, являлся одесским представителем Агентства НКИД.
15 октября 1930 года Коллегия Нар-компроса РСФСР назначает М. М. Доб-раницкого директором Государственной Публичной библиотеки (с апреля 1932 года – ГПБ имени М. Е. Салтыкова-Щедрина). Он сменил на этом посту учёного с мировым именем, академика Н. Я. Марра. Библиотека являлась одной из крупнейших в СССР, обладала огромным научным и культурным потенциалом, богатейшими традициями – как бывшая Императорская публичная библиотека [4].
М. М. Добраницкий возглавил её в конечной стадии знаменитого «Дела Платонова», или «Дела академиков» – масштабного уголовного мероприятия ОГПУ по «оздоровлению интеллигентской среды» в Москве и Ленинграде. К сентябрю 1930 года в обеих академических столицах арестовали более 120 человек: учёных (многие с общероссийской известностью), их родственников, друзей [6, с. 26–28, 95].
Показательно, как Добраницкий откликнулся на эти события: «Только в конце 1930 года после чистки советского аппарата, когда была констатирована очень малая затронутость библиотеки вихрем революции, работники и новое руководство библиотеки решительно повернули её к задачам социалистического строительства» [8]. Именно при Добраницком «произошёл перелом и в кадровом составе Библиотеки: пришло большое число молодых сотрудников из рабочей среды и новой интеллигенции [9, с. 291]». Понятно, что их квалификация, мягко говоря, оставляла желать много лучшего.
При назначении никаким библиотечным опытом Мечислав Михайлович не обладал. Его советчиками и ближними помощниками стали сотрудники библиотеки В. Э. Банк, Б. Р. Зельцле, Л. И. Олавская. Несмотря на приход в незнакомую сферу, М. М. Добраницкий выступал с докладами в Институте книговедения при Библиотеке, вёл занятия по текущей политике на Высших курсах библиотековедения, публиковал статьи по библиотечному делу (см., например: «Красный библиотекарь» за 1933 год, № 6).
Однако в целом деятельность Библиотеки оставалась проблемной. 10 марта 1934 года в ГПБ приехал нарком просвещения А. С. Бубнов. Воочию увидев здесь большие недостатки, Андрей Сергеевич поставил вопрос о Библиотеке на заседании Совнаркома 7 сентября того же года. По итогам обсуждения, в котором участвовали представители Ленсовета, дирекции ГПБ, видные библиотековеды, было принято постановление Совнаркома РСФСР «О работе Государствен- ной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» от 25.09.1934 года, где отмечались существенные просчёты в постановке дела: плохое хранение фондов, медленную обработку новых поступлений, низкую квалификацию сотрудников, отсутствие в штате Библиотеки достаточного количества научных работников и т.д. Совнарком обязал руководство ГПБ устранить выявленные недостатки, отремонтировать здание Библиотеки, улучшить её отопление, освещение, устроить внутренний водопровод, решить вопрос об увеличении штатов и их подготовке. Для этих целей были выделены значительные государственные финансовые и материальные средства [12].
В ленинградской вечерней «Красной газете» от 19 сентября 1934 года содержалась следующая критика Библиотеки: «Тесно, нет места для расстановки книг, для работы с ними. Книги лежат на открытых местах, где много людей и нет охраны… До сих пор не израсходованы средства, выделенные на первое полугодие 1934 года. Странная экономия!.. ничего или почти ничего не сделала Библиотека для подготовки кадров. Повышением квалификации своих работников низших разрядов здесь никто не занимается [7]». Не было у ГПБ и своего читательского актива – «10–12 человек сегодня это не актив: у любой массовой библиотеки и то есть актив в 40–50 человек! [7]». То же издание 16 февраля 1935 года отмечало, что Библиотека получила от правительства крупные средства на приведение в порядок своего хозяйства. Ещё 100 новых сотрудников прибавятся к тем 400, что есть у Библиотеки сейчас и т.д.
Когда летом и в начале осени 1935 года в ГПБ развернулись широкие стро- ительные работы, многое оказалось не продумано. Отделы кочевали с места на место, библиотекари сидели, где придётся, книги лежали на полу, в каталогизации и обработке новых поступлений царил беспорядок. Теснота в читальном зале достигла последней крайности [9, с. 295]. Читатели активно жаловались на неорганизованность и неудобства. На эти жалобы «снизу» власти тогда обязаны были обращать пристальное внимание.
16 октября 1935 года М. М. Добраниц-кого исключают из рядов ВКП(б) за участие в меньшевистском крыле партии и другие неуголовные прегрешения. Отметим, что, несмотря на это, он ещё некоторое время числился директором. По-види-мому, последующее снятие с должности было вызвано как лишением его партбилета, так и недостаточной профессиональной компетентностью и непосредственно не связано с его будущим арестом 23 августа 1937 года. Новым руководителем библиотеки 15 марта 1936 года стал бывший старший следователь ВЧК А. Х. Вольпер. До середины апреля 1936 года Добраницкий продолжал работать в ГПБ. Затем он – помощник редактора Ленинградского отделения Соцэкгиза.
В характеристике, данной на работу Мечислава Михайловича в издательстве, говорилось, что его редакторские замечания и поправки, как правило, не улучшали, а ухудшали качество текста, в основном касались стилистической стороны рукописей, не затрагивая их содержания. Материалы для работы Добраницкому приносили на дом, а на рабочем месте он почти не появлялся [9, с. 297]. Правда, надо делать поправку на то, что характеристика сделана по запросу НКВД на опального бывшего руководителя.
Переходя к наиболее сложному вопросу нашей работы – мотивам ареста Добраницкого, можно отметить, что официально против него были выдвинуты два особо тяжких обвинения: участие в шпионаже в пользу Польши и Германии, а также подготовка и организация терактов. Следует понимать, что в 1930-е годы стандартная формулировка «шпионаж» совсем не обязательно означала акции в стиле Джеймса Бонда. В современной российской терминологии есть понятие «агент влияния», который продвигает и поддерживает враждебные нашей стране идеи и мероприятия. В этом смысле у следователей НКВД был ряд серьёзных претензий к Мечиславу Михайловичу.
Все из них нам не известны, пока закрыт доступ в архивы ФСБ. Но некоторые факты и предположения следует привести. Итак, одно из обвинений – агент влияния определённых германских структур. М. М. Добраницкий неоднократно бывал и жил в Германии, учился в университетах Берлина и Гейдельберга в 1903–1910 годы. Обе его жены – немки по подданству / гражданству (Елена Карловна и Сусанна Ванцлебен). За почти три года работы генконсулом в Гамбурге он нала- дил там хорошие связи.
В 1930-е годы Мечислав Михайлович был лично знаком с консулом Германии в Ленинграде, поддерживал с ним контакты. Нелегальные связи с немецкими дипломатами прямо инкриминировали Добраницкому в ходе уголовного процесса. В документах против М. М. Добра-ницкого имеются обличающие показания нескольких немецких политэмигрантов, проживавших в Северной столице. Среди них, например, был заведующий гаражом Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина Герман Грюнберг. Разумеется, Мечислав Михайлович не разделял нацистскую идеологию, но, по данным следствия НКВД, он «вре-дительски работал» на ослабление политического, научного, образовательного, культурного потенциала СССР накануне неотвратимо приближавшейся войны с Третьим рейхом.
Далее «шпионаж» в пользу Польши. Помимо польских корней М. М. Добра-ницкого, исторически очень сложных взаимоотношений Польши и нашей страны, многолетней дореволюционной подпольной борьбы Мечислава Михайловича против царской России, существовали и конкретные уголовные обстоятельства. Среди товарищей и давних знакомых Добраниц-кого были известные репрессированные лица, в частности И. С. Уншлихт (арестован 11 июня 1937 года). Оба в юности с разницей в один год вступили в Социал-демократическую партию Королевства Польского и Литвы, вместе работали в революционном Петрограде в 1917 году.
Особенно интересно, что Уншлихт после Октябрьского переворота являлся одним из руководителей, с 1921 года – заместителем председателя ВЧК-ГПУ, зани- мал другие высокие советские посты, в том числе зам. председателя Реввоенсовета, зам. наркома по военным и морским делам СССР (1925–1930).
Как и Добраницкого, И. С. Уншлихта обвинили в принадлежности к «диверсионно-шпионской сети польской разведки в СССР». Отметим, что 11 августа 1937 года, за несколько дней до ареста Мечислава Михайловича, был издан закрытый Оперативный приказ наркома внутренних дел Н. И. Ежова по борьбе со «шпионской, диверсионной, террористической дея- тельностью польской разведки в СССР [2, с. 353–354]». В приказе утверждалось, что из материалов следствия по делу так называемой «Польской организации войсковой» (ПОВ) была вскрыта «долголетняя и относительно безнаказанная диверсионно-шпионская работа [2]» польских нелегальных структур на нашей территории. Несмотря на разгром московского центра ПОВ (руководители центра, по данным НКВД, Уншлихт, Муклевич, Оль-ский. – М. Г.] и арест многих активных его членов, «ликвидация на местах польских диверсионно-шпионских групп и организаций ПОВ полностью не развёрнута. Темп и масштабы следствия крайне низкие. Основные контингенты польской разведки ускользнули… Что касается агентурной работы, то она почти совершенно отсутствует. Больше того, существующая агентура, как правило, двойниче-ская, подставленная самой польской разведкой [2]».
Раскрытие московского центра ПОВ привело к тому, что «польская разведка, предвидя неизбежность дальнейшего своего провала, пытается привести, а в отдельных случаях уже приводит в действие свою диверсионную сеть в народном хозяйстве СССР и, в первую очередь, на его оборонных объектах [2]». В связи с этим «основной задачей органов ГУГБ (Главного Управления государственной безопасности. – М. Г. ) в настоящее время является разгром антисоветской работы польской разведки и полная ликвидация нетронутой до сих пор широкой диверсионно-повстанческой низовки ПОВ и основных людских контингентов польской разведки в СССР [2]».
Нарком Н. И. Ежов приказал «с 20 августа 1937 года начать широкую опе- рацию, направленную к полной ликвидации местных организаций ПОВ… О ходе операции телеграфно доносить каждые 5 дней… [2]» Был указан ряд конкретных мер по исполнению приказа. Через три дня после начала операции М. М. Добра-ницкий оказался за решёткой.
Следующая линия в следственном деле Мечислава Михайловича – террористическая. Приходится удивляться продолжающейся строгой закрытости архивных фондов органов госбезопасности 80-летней давности, несмотря на сильный общественный и научный интерес. Невозможность исследовать их заставляет нас пользоваться опять же научными гипотезами, логическими сопоставлениями и обрывками фактических сведений. В то же время это лучше, чем вообще не изучать данную значимую историческую проблему [11].
Сразу скажу, что обвинения в террористической деятельности получили многие библиотечные деятели 1930-х годов. Такая мирная и далёкая от оружия профессия оказалась вдруг угрожающей.
В мае 1937 года расстрельный приговор по статье о терроризме был вынесен бывшему директору «Ленинки» В. И. Невскому. В 1938–1939 годах на долгие сроки (в том числе за попытки организации терактов) осудили Г. К. Дерман, бывшего директора Московского библиотечного института, В. Г. Кирова, бывшего начальника Библиотечного управления Наркомпроса, и некоторых иных лиц.
Причём у них имелись другие «тяжкие» статьи, что делало обвинения по терроризму не обязательными с точки зрения фабрикации, затруднительными и плохо объяснимыми обществу с точки зрения профессиональной принадлежности осу- жденных. Тем не менее они были офици- дически принимал лечебные ванны в Ма- ально предъявлены и доказаны в существовавшем тогда судебном порядке [6].
Отметим, что среди советских библиотечных руководителей 1920–1930-х годов оказалось много революционеров с опытом конспиративной подрывной работы против царизма до 1917 года и «белых» властей в Гражданскую войну. Это были дерзкие, решительные люди, подчас недовольные сталинским режимом. При этом сталинские управленческие кадры были тогда относительно доступны, что подтверждает убийство начальника второй советской столицы, члена Политбюро ЦК ВКП(б) С. М. Кирова в декабре 1934 года. Кстати, М. М. Добраницкого впоследствии тоже обвинили в попытках организации теракта против нового главы Ленинграда А. А. Жданова у Кировского моста или возле Смольного дворца.
Автором опубликованы документальные сведения о неудачном покушении на И. В. Сталина в Библиотеке ЦИК СССР в Кремле в январе 1935 года, которое пыталась осуществить молодая представительница графского рода Орловых-Павловых, при содействии (по данным НКВД) отдельных библиотечных работников [6, с. 49–51]. Непредвзятый исследователь вправе допустить возможность существования террористических намерений и действий в среде некоторых библиотечных руководителей. Предположительно, их могли использовать (через посредников) более подготовленные и высокопоставленные политические заговорщики.
Важнейшим эпизодом уголовного дела М. М. Добраницкого, очевидно, следует считать участие в организации покушения на советских вождей в Мацесте (Сочи) в 1930-е годы. Известно, что Сталин перио- цесте, всегда оставаясь во время процедуры в одиночестве. Показательно, что слабое место в охране первого лица СССР попыталась использовать в 1938–1939-е годы японская разведка. Об этих планах стало известно благодаря современным исследователям истории спецслужб (А. И. Колпакиди), получившим доступ к отдельным архивным делам [10].
В июле 1938 года перебежчиком в Японию стал начальник Дальневосточного управления НКВД Г. С. Люшков. Высокопоставленный чекист открыл множество государственных и военных тайн своим новым хозяевам, в том числе предложил им проработанный план убийства Сталина именно в Мацесте. Прежде Люш-ков был начальником Азово-Черноморского управления НКВД и знал весь ритуал «омовения» вождя до тонкостей. План был настолько убедительным и осуществимым, что японские спецслужбы решили его реализовать, используя для этого эмигрантов-белогвардейцев.
Учитывая, что по ночам напор воды в ванный корпус уменьшали и уровень её опускался, можно было по водостоку добраться до подземного накопителя. Оттуда через люк планировалось проникнуть в банный корпус, убрать двух техников, заменить их и дожидаться прихода Сталина. Для тренировки террористов был даже сооружён макет корпуса в японском лагере в Чангуне. Однако наша зарубежная агентура вовремя сообщила ценную информацию. И в январе 1939 года группа из шести террористов-диверсантов была «встречена» на советско-турецкой границе у селения Борчка [1, с. 309–311].
М. М. Добраницкий неоднократно поправлял здоровье в Мацесте в 1930-е годы, был знаком с сотрудниками Г. С. Люшкова и, вероятно, с ним самим. Назначил Люш-кова на должность начальника УНКВД по Азово-Черноморскому краю не кто иной, как Г. Г. Ягода – бывший начальник ОГПУ, по сентябрь 1936 года – нарком НКВД СССР. Назначенец Люшков провёл на месте большую чистку и, видимо по договорённости с Ягодой, стал подбирать верных людей для осуществления покушения. Подчеркнём, что после ареста Ягоды в марте 1937 года и его разносторонних признательных показаний, в частности против бывшего директора Государственной библиотеки имени В. И. Ленина В. И. Невского, возбуждают новое уголовное дело (апрель 1937 года). На закрытом совещании Военной коллегии Верховного суда СССР 25 мая Невского приговаривают к расстрелу за активное участие в антисоветской организации и за создание в 1933 году террористической группы [5]. А меньше чем через три месяца, 23 августа 1937 года, по аналогичной статье аресту подвергли бывшего директора другой крупнейшей библиотеки М. М. Добраниц-кого. Подобные «совпадения» заставляют задуматься.
Как бы то ни было, по результатам следствия 29 октября 1937 года Коллегия НКВД и Прокуратуры СССР приговорила М. М. Добраницкого по статье 58, п. 8, 10, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 5 ноября приговор был исполнен.
Пострадали и близкие Мечислава Михайловича. Сусанну Ванцлебен арестовали 16 октября 1937 года, а расстреляли 24 ноября. Елену Карловну Добраницкую арестовали 23 октября того же года, расстреляли по обвинению в шпионаже 19 февраля 1938 года.
Сын Казимир – член ВКП(б), представитель советской «золотой молодёжи», осведомитель ОГПУ-НКВД, по меньшей мере с 1932 года [3, с. 194], был арестован 18 октября 1937 года по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной террористической организации, расстрелян 9 декабря того же года.
При Н. С. Хрущеве 1 февраля 1960 года дело М. М. Добраницкого было прекращено за отсутствием состава преступления, а при М. С. Горбачеве в 1988 году приговор ему был полностью отменен. Но историческую истину во всей глубине ещё предстоит найти.
Список литературы Директор Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина М.М. Добраницкий: жизнь, библиотечная деятельность, причины ареста
- Баландин Р., Миронов С. «Клубок» вокруг Сталина- Заговоры и борьба за власть в 1930-е годы. Москва - Вече, 2002. 381 с.
- Бутовский полигон 1937-1938 годы - Книга памяти жертв политических репрессий / Постоянная межведомственная комиссия Правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, Московский антифашистский центр; [редкол.: Блинов Ю. П. [и др.]. Москва - Институт экспериментальной социологии, 1997.
- Варламов А. Н. Михаил Булгаков. Москва - Молодая гвардия, 2008. 840 с.
- Глазков М. Н. Главная библиотека царской России 100 лет назад // Вестник Московского государственного института культуры. 2014. № 6 (62). С. 30-35.
- Глазков М. Н. Директор «Ленинки» В. И. Невский- к научному исследованию репрессий 1920-1930-х годов // Вестник Московского государственного института культуры. 2016. № 4 (72). С. 166-174.