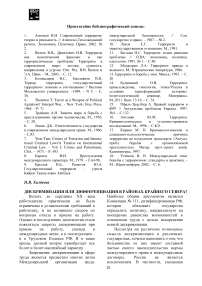Дискриминация или дифференциация в районах Крайнего Севера?
Автор: Халдеева Н.В.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (27), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваемая тема в статье о практике применения некоторых норм в правовом регулировании трудовых отношений работников Крайнего Севера актуальна и содержательна. В ней логично и последовательно излагаются существующие проблемы и предлагаются пути их решения.
Федеральный закон №122, права работников, свободы, равенство прав, север, проблемы
Короткий адрес: https://sciup.org/142232369
IDR: 142232369
Текст научной статьи Дискриминация или дифференциация в районах Крайнего Севера?
Вплоть до середины XX века работодатели практически не были ограничены в установлении требований к работнику, и не возникало споров по вопросам отказа в приеме на работу. Однако в последующие десятилетия стали появляться запреты дискриминации при приеме на работу, сначала в международных актах, а в последующем -и в Трудовом Кодексе РФ. И в наше время, данный вопрос приобретает все более и более масштабный характер.
Запрещение дискриминации в сфере труда является предметом многих актов Международной организации труда.
Наиболее общим документом является Конвенция № 111, ратифицированная РФ, которая обязывает государства определять политику, направленную на поощрение равенства возможностей в отношении труда с целью искоренения всякой дискриминации.
Несмотря на различное понимание смысла дискриминации в различных государствах, хочется напомнить о том, что большинство из них имеют составной частью своего законодательства нормы международного права и международные договоры. Россия не является исключением. В частности, указанная 28
Конвенция МОТ №111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий», принятая в Женеве, 25 июня 1958 года содержит обстоятельства, которые признаются дискриминацией, а какие нет. Статья 1 названной Конвенции определяет, что понятие дискриминация включает: во-первых, всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности или социального происхождения и имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий; во-вторых, всякое другое различие, исключение или предпочтение, имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий, которые могут быть определены заинтересованным членом Организации. Также данная статья указывает, что всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на специфических требованиях, связанных с определенной работой, не считаются дискриминацией. На наш взгляд недостатком является лишь то, что не установлен полный перечень данных оснований или хотя бы наибольшее количество вариантов. В связи с чем каждая сторона, то есть государство в какой-то мере все-таки искажает истинный смысл такого понятия, дополняя и изменяя его своими положениями. И данную проблему необходимо решать, прежде всего, начиная с международного уровня, а затем непосредственно в каждой стране.
Дискриминация определяется как всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, пола, цвету кожи, религии, политических убеждений, национального происхождения, социальной принадлежности, приводящие к уничтожению или нарушению равенства возможностей в области труда и занятий.
Конвенция МОТ № 111 запрещает не только прямую дискриминацию, но и косвенную, когда дискриминация возникает как объективное последствие мер, которые вводятся и применяются для всех категорий работников без каких-либо различий. Примером может являться требование в отношении знания языка, хотя фактически это требование направлено против работников- иностранцев или национальных меньшинств.
На основании международных актов каждое государство устанавливает свой набор оснований, которые признаются дискриминацией и запрещаются законом. Во всех странах запрещается дискриминация по расовому и половому признакам. В то же время различные страны мира имеют свои особые основания, дискриминация по которым запрещена. Так, дискриминационным признаком в Японии является социальный статус гражданина, в Италии -идеологические взгляды, в Бельгии, Франции и Германии - личная жизнь, в Канаде, Франции и Германии -сексуальная ориентация.
Из этого следует вывод, что наряду с общими признаками, определяющими запрет дискриминации по признакам пола и расы, присущими практически всем странам, в отдельных странах установлены свои признаки дискриминации.
Из данных примеров можно сделать вывод, что в большинстве своем регулирование тех или иных положений дискриминации зависит не только от законодательного закрепления и императивности его исполнения, а непосредственно от уровня моральных и нравственных устоев той или иной страны.
Законодательство каждой страны в понятие дискриминации включает определенные обстоятельства, в которых, по их мнению, заложен смысл самой дискриминации. Наиболее развернутый перечень оснований дискриминации при приеме на работу разработан в Новой Зеландии. Он включает в себя 26 оснований. И это является

положительным моментом правового развития страны, которая не стала ограничивать себя перечислением самых распространенных оснований и заключительной фразой «а также других обстоятельств», которая вносит множество разночтений и сомнений при толковании данного предложения.
Американское законодательство устанавливает преимущества при найме для тех категорий работников, которые наиболее часто подвергаются отказу в приеме на работу. За данной практикой закрепилось понятие «дискриминация наоборот». Смысл ее в том, что некоторые предприятия устанавливают квоты для какой-либо категории работников (например, для престарелых работников), и при наличии двух претендентов на должность разного возраста (например, 30 и 60 лет), работа преимущественно будет отдана пожилому претенденту. Однако сами американцы к такой практике относятся неоднозначно. Это можно понять - ведь не всегда, а практически никогда, то, что облагораживает, приносит прибыль и стабильность.
В Российском трудовом законодательстве установлена статья 3, в соответствии с которой «Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника», включающая 15 четко перечисленных оснований.
Постановление Пленума Верховного суда от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса российской Федерации» дает регламентацию деловых качеств работника, под которыми понимаются способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли). Из чего следует, что данное указание можно рассматривать как некую правовую гарантию от необоснованного отказа в приеме на работу.
Практика применения трудового законодательства последних лет показывает, что сегодня можно говорить о дискриминации отдельных категорий работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
М.В. Пресняков отмечает, что учет фактических обстоятельств реализации субъектом своих прав и предоставление преференций более слабой стороне в литературе иногда называют «позитивной дискриминацией»1.
Соответственно, можно говорить и о «негативной дискриминации», когда при наличии всех имеющихся оснований для предоставления определенных преференций - они не предоставляются, поскольку не закреплены в нормативных правовых актах.
Такую негативную дискриминацию можно наблюдать сегодня в отношении работников Крайнего Севера, которые, находясь в одинаковых экстремальноклиматических условиях, в части предоставления им правовых гарантий и компенсаций разделены на 4 категории.
1 категория - работники организаций, финансируемых из федерального бюджета - им предоставляются государственные гарантии и компенсации в соответствии с положениями Трудового кодекса и Закона РФ № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях»;

2-я категория - работники организаций, финансируемых из бюджетов субъектов федерации - им предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с положениями Законов субъектов РФ, иных нормативных актов субъектов РФ;
3-я категория - работники организаций, финансируемых из бюджетов органов местного самоуправления - им предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с положениями нормативных актов органов местного самоуправления;
4-я категория - работники организаций, не относящихся к бюджетной сфере финансирования - им могут предоставляться гарантии и компенсации, если они установлены локальными нормативными актами: коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами.
Эти четыре уровня дифференциации появились с 01 января 2005 года в связи с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и работодателями, не отнесенными к бюджетной сфере финансирования в связи с принятием новых федеральных законов от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации1, от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2 (с изменениями и дополнениями), от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений»3 и от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»4.
И 4-я категория работников оказалась самой незащищенной государством, о чем свидетельствует практика применения статей 325 и 326 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми предоставлены правовые гарантии работникам на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и оплату проезда и провоза багажа при переезде.
В соответствии со статьей 313 Трудового кодекса Российской Федерации государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно части 5 статьи 326 ТК РФ размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в организациях, финансируемых из местных бюджетов, - органами местного самоуправления, у работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, -коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами. Аналогичные положения содержатся в статье 35 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Таким образом, из анализа приведенных норм следует, что в данном случае полномочия по определению размера, условий и порядка компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в связи с выездом на новое место жительства из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях лицам, работающим в

организациях, финансируемых из местного бюджета, переданы органам местного самоуправления и они самостоятельно определяют порядок определения условий предоставления правовых гарантий работникам своих организаций. Из приведенного примера можно сделать вывод, что единство нормотворчества как субъектов Российской Федерации, так и органов местного самоуправления является весьма эфемерным и со строго научных позиций не может быть признано таковым.
Тем более отсутствует единство правового регулирования социально-трудовых отношений в локальных нормативных актах различных работодателей. В современной литературе отмечается, что на нормотворческом уровне локальные нормы легитимизируются в основном в актах трудового и образовательного права1, с чем можно согласиться, учитывая
положения статей ст. 8, 12, 15, 20, 22, 26, 33, 53, 56, 57, 59, 68, 70, 74, 80, 81, 88, 94, 96, 97, 101, 105, 112 и других Трудового кодекса. Вместе с тем, возложение на работодателей обязанности определять в локальных нормативных актах размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и переездом при отсутствии единых минимальных стандартов не может быть признано законным и обоснованным.
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Писатель-футуролог ЭлвинТоффлер в книге «Шок будущего»1 описывает историю и настоящее как движение к постиндустриальному информационному обществу. Суть в следующем – история и настоящее это перемены, а наступившее информационное общество - это перемены которые ускоряются все быстрее, захватывают и поглощают все стороны жизни. А значит, всему человечеству необходимо к этому готовиться. Каждая книга2 и глава в книге, посвящены одной из сторон жизни, которую надвигающиеся перемены изменяют сейчас, а в будущем изменятся еще больше. В «Шоке будущего», одна из глав посвящена системе образования, которая, как и другие общественные составляющие, меняются в настоящем, а в ближайшем будущем будут меняться еще быстрее. Во всех книгах автор делает анализ надвигающих изменений, для того чтобы встречать перемены подготовленными, а затем предлагает проекты такой подготовки.
Сделанный Тоффлером анализ состояния образовательной системы, состоит в следующем.
-
1) Образование должно быть занято развитием и повышением способности к адаптации к будущему и рассматриваться как подготовка к будущей жизни и профессии.
Учителя, правительственные чиновники и средства массовой информации призывают молодежь не бросать школу, подчеркивая, что будущее каждого целиком и полностью зависит от полученного образования. Однако, все школы, общеобразовательные и высшие, ориентированы не на будущее, не на нарождающееся новое общество, а обращены в прошлое, на отжившую систему.
-
2) В характеристике проблем современной школы, главная проблема это разница в подаче материалов:первое, по пространству и, второе, во времени. Например, каждому учащемуся любой школы старательно помогают локализоваться в пространстве. От него требуют изучать географию. Карты, диаграммы и глобусы – помогают ему точно определить свое место в пространстве. Ему показывают, где находится его город, регион, страна, объясняют, как расположена земля в космическом пространстве относительно других планет солнечной системы и во Вселенной.
Но когда дело доходит до локализации во времени, как играется злая шутка. Учащегося погружают в прошлое собственной страны и прошлое всего мира. Он изучает Древнюю Грецию и Рим, развитие феодализма, Французскую революцию и так далее. Он знакомится с фрагментами истории других стран и легендами своего отечества. Он нашпигован рассказами о войнах, революциях и переворотах, и все они снабжены ярлыками с соответствующими датами в прошлом. То есть, в образовательной системе десятки миллионов
Список литературы Дискриминация или дифференциация в районах Крайнего Севера?
- Пресняков М.В. Конституционная концепция принципа справедливости/под ред. Г.Н. Комковой. М.: ДМК Пресс, 2009. С. 74.
- EDN: VSLCED
- Рубайло Э.А. Локальные акты в системе правовых актов Российской Федерации//Журнал российского права. 2010. № 5. С. 72 -80.
- EDN: NDLXBD