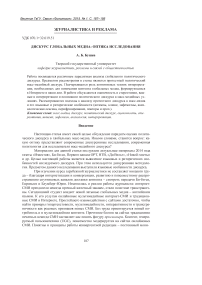Дискурс глобальных медиа: оптика исследования
Автор: Бушев Александр Борисович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Журналистика и реклама
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящается различным парадигмам анализа глобального политического дискурса. Предметом рассмотрения в статье является протестный политический масс-медийный дискурс. Подчеркивается роль когнитивных техник интерпретации, необходимых для понимания контента глобальных медиа, формирующихся в Интернете в наши дни. В работе обсуждаются оценочность и стереотипии, важные в интерпретации и понимании политического дискурса в масс-медийных условиях. Рассматриваются подходы к анализу протестного дискурса в масс-медиа и его языковые и риторические особенности (штампы, клише, эвфемизмы, аксиологическая лексика, перифразирование, повторы и проч.).
Масс-медиа, дискурс, политический дискурс, оценочность, стереотипия, штамп, эвфемизм, аксиология, интерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/146121611
IDR: 146121611 | УДК: 070.1+32.019.51
Текст научной статьи Дискурс глобальных медиа: оптика исследования
Настоящая статья имеет своей целью обсуждение парадигм оценки политического дискурса в г л обальных масс-медиа. Иными словами, ставится вопрос: какую оптику представляют современные дискурсивные исследования, современная политология для исследователя масс-медийного дискурса?
Материалом для данной статьи послужили актуальные материалы 2014 года газеты «Известия», Би-би-си, Первого канала ОРТ, НТВ, «Ди Вельт», «Новой газеты» и др. Целью настоящей работы является выявление языковых и риторических особенностей исследуемого дискурса. При этом используется дискурсивная методология. Предметом данного исследования выступили языковые особенности дискурса.
При изучении курса зарубежной журналистики не составляет никакого труда – благодаря интернетизации и конвергенции, развитию и повсеместному распространению спутниковых каналов доставки контента – смотреть передачи Би-би-си, Евроньюз и Блумберг-Юроп. Изменились и реалии работы журналиста: интернет-СМИ преодолели некогда прочный железный занавес, стали поистине трансграничны. Сегодняшний студент владеет новой латынью глобальных медиа – английским языком. К его услугам онлайновые мультимедийные интернет-СМИ и традиционные СМИ в Интернете. Простейшего взаимодействия с сайтами достаточно, чтобы найти примеры гипертекстовости, мультимедийности, интерактивности и трансгра-ничности как родовых признаков новых СМИ. Без труда ориентируется новый потребитель и в мультимедийном контенте. Прочтение блогов на сайтах традиционно печатных некогда СМИ заставляет нас понять фигуру просьюмера. Контент, генерируемый пользователями (UGC), повсеместно модерируется на сайтах онлайновых СМИ. Понятны и принципы работы конвергентной редакции – постоянный мони- торинг лент новостных агентств 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Не затрудняется студент и с пониманием медиаметрических измерений на сайтах СМИ, социологией интернет-СМИ.
Для теоретического осмысления явлений конвергентных СМИ, привлечения теорий информационного общества можно рекомендовать современные работы [4]. Здесь для изучающего зарубежные СМИ интересны наблюдения над общественным ТВ (Би-би-си) и рассмотрение Евроньюз как противовеса англоязычным СМИ, с характерным для последних стилем без интерпретации, новостями без журналистов в студии, принципами формирования новостного канала европейской точки зрения.
Новые реалии – осмысление дигитализации и конвергенции СМИ – и новые практики не вызывают затруднения у детей компьютерного века. Сведение всех каналов трансляции контента к одному экрану компьютера понятно и без долгих объяснений.
Изменения технологии стремительны – вот почему безнадежно устарели главы о технологиях СМИ, например, в учебнике С.А. Михайлова [5]. Там, например, говорится о вероятности возможности получать контент СМИ на экран смартфона, заходить в Интернет со смартфона и т.д. Вполне обыденные ныне электронные книги подаются как последнее чудо техники. Нет достаточного перечня носителей электронных форматов контента и т.д., не обсуждается массовая коммуникация в социальных сетях и ее правовой статус. Последний феномен привносит новое в понимание взаимодействия СМИ и общественного сознания: так, книгу А. Подши-бякина [6] характеризуют любопытные главы о том, как ЖЖ меняет реальность, и о спецрепортаже нон-стоп, осуществляемом просьюмерами в социальной сети.
Однако большинство книг, написанных профессионалами исследования СМИ в соответствующих странах, содержат множество фактической информации о структуре и тенденциях СМИ, но нигде нет ни одного примера тематизма контента масс-медиа и тем более текстов СМИ. В этих трудах практически не рассмотрен дискурс СМИ: проблематика, язык, особенности представления дискурса, теории повестки дня, развития новости. Какие новости представляют СМИ и каким языком они говорят? Как конструируются смыслы? Что в хедлайнах? После прочтения данных монографий это остается загадкой.
В то же время зарубежный учебник «Медиа. Введение» [4] уже после обсуждения самих медиа предлагает нам обсуждение дискурсивного конструирования таких вопросов, как социальный класс, гендер, сексуальность, раса, этничность, молодежь и молодежность, национальность, привилегированность, инвалиды, спорт, парламентская политика и цензура и т.д. Необходимо рассмотрение вопросов социального, экономического, военного, политического, культурного, бытового, научно-популярного дискурсов в СМИ и т.д. Ведь само определение журналистки свидетельствует о профессиональном обсуждении социальных проблем фактографическими методами. Какова повестка дня СМИ, каковы стереотипы представления ситуаций, благодаря чему конструируется та или иная точка зрения, как достигается баланс точек зрения, как СМИ отражают состояние своего потребителя и, наоборот, конструируют его сознание?
Современные исследования политической коммуникации
Современные исследования политической коммуникации демонстрируют несколько подходов. Известна идущая со времен античности традиция исследования политической коммуникации риторикой. Это парадигма, сформировавшаяся в условиях античного полиса, доказавшая свою эффективность в условиях Средних веков и Нового времени, в условиях информационного общества (неориторика), советского общества (например, исследования А.А. Леонтьева, Е.А. Ножина, Л.К. Гра-удиной) и в условиях транзита (В.И. Аннушкин). Показательна в связи с риторикой традиция рассмотрения советского языка и текста с различной его оценкой (П. Серио, А.П. Романенко, Н.А. Купина, М. Вайскопф, В.М. Мокиенко, М.О. Чудакова). Очевидно, последние работы закладывают фундамент всякого рода исследований политической номинации.
Сформировавшееся в начале 90-х годов xx века в русле семантических и концептуальных исследований направление « политическая концептология » представляет собой новое направление исследований. Своей задачей оно видит изучение динамики и семантики основных политических понятий типа свобода, воля, равенство, демократия, лидерство и проч., сравнительное изучение объема этих понятий в рамках разных политических культур [3]. Наиболее показательна в этом смысле классическая и не имеющая аналогов в отечественной политологии работа М.В. Ильина «Слова и смыслы». Сам автор видит истоки своего подхода в теории концептов, разрабатываемой академиком РАН Ю.С. Степановым.
Показателен современный политологический подход к феномену политической коммуникации, демонстрируемый политической коммуникативистикой [7]. К этим работам можно отнести и практические пиар- и джиар- разработки А.Н. Чу-микова и институализирующуюся на наших глазах сферу связей с общественностью.
Существуют журналистские теории, рассматривающие журналистику как прикладную политологию (В.Т. Третьяков), в связи с политологией (« политология журналистки » С.Г. Корконосенко), фигуру журналиста и модели журналистики в постсоветском обществе (И.М. Дзялошинский).
Наиболее институализированным направлением является политическая лингвистика , политоническая метафорология и метафорическое моделирование (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.П. Чудинов; лингвистическая советология, исследуемая Э.В. Будаевым и А.П. Чудиновым). При этом сама идея учета метафорических моделей (типа политика – это бизнес, реформа – это лечение, экономика – это растение ) восходит к работам по когнитивной теории метафор, в частности к известной работе Дж. Лакоффа. Показательно, что ряд исследователей рассматривают метафорические модели как один из вариантов политической аргументации (А.Н. Баранов).
Среди новаторских подходов к исследованию политического дискурса в современной России можно указать на разрабатываемые семинаром «Политический дискурс в России» (Москва, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина), политическую персонологию и психополитику [8]. Разрабатывается методология суждения о личности политика посредством анализа его текстов, в том числе непубличных, в том числе письменных, автопрезентационных. На наш взгляд, это перспективней, нежели изучение президентской риторики (М.В. Гаврилова). Впрочем, президентские спичрайтеры (среди которых есть доктора исторических и политических наук) сами проливают свет на технологию создания этих произведений в книгах, обобщающих их труд. Рядом с этими трудами находятся и исследования американской и западной политической ораторики (исследования инаугурационных речей, предвыборных речей, публичных речей, сайтов, чрезвычайно распространенные в последние годы в силу доступности материалов по системе Интернета).
Семиотические исследования политической сферы (Е.И. Шейгал) проливают свет не только на вербальную, но и на символическую, невербальную коммуникацию политических смыслов. Сюда же относятся традиции исследования креолизованных жанров политической коммуникации – политического плаката, политической карикатуры, политической иллюстрации.
К суждению о мире политического привлечены дискурсивные исследования - в их развитии от З. Харриса, через Т. Ван Дейка и Р. Водак, до Д. Юла, Д. Брауна, Д. Шифрин, Д. Таннен, Н. Фарклау, М. йогнесен и др. Мы можем отметить, что в американской традиции дискурсивный понимается практически как не-ориторический , а дискурс-исследования смыкаются с имеющей богатую традицию и инструментарий, хорошо институализированной риторикой. Показательны в этом направлении отечественные дискурсивные исследования: работы уральской группы «Дискурс Пи» под руководством О.Ф. Русаковой, белгородский интернет-журнал дискурсивных исследований.
К обсуждению при анализе политического дискурса привлекается и концепция языковой личности как выражение вербального опыта политика [2]. В указанной работе привлекает внимание прежде всего исчисление стратегий современного политика: на что нацеливается таковой при публичных выступлениях. Это анализируется на репрезентативном корпусе материала. Каким риторическим задачам подчинена деятельность политика? Указанная работа дает четкие ответы на эти вопросы. Более того, ряд стратегий связывается с макростратегиями – конфликтовать, кооперировать либо самопрезентироваться. Это чрезвычайно интересно. В зависимости от этих макроустановок политик строит все вербальное поведение.
Е.В. Кобец исчисляются элокутивы тропеического и фигурального характера. И тут мы можем предъявить мысли автора тот же упрек, что и всей риторике: нет доказательств связи определенных тропов и фигур и их контаминаций и эффективности коммуникации, нет специфических связей риторических приемов со стратегиями, тактиками речи. Более того, цветистые, орнаментальные речи могут быть старомодными или пустыми. И напротив, эффективные речи могут быть лишены фигур, просты. А уж тем более между речью и личностью политика нет никаких корреляций (история показывает, что можно выступить с речью «Братья и сестры!..», затем загубить миллионы людей и опровергнуть Достоевского – не стать после этого Раскольниковым).
Дискурс арабской весны в глобальных СмИ
Только дешифровка языковых знаков, привязка означаемого к означающему заставит нас говорить о глобалистском и маргинальном дискурсе, о навязывании точки зрения, об отражении социума и социоконструктивистской нормализаторской функции дискурса СМИ. Так, например, дискурс масс-медиа о событиях в Египте представлен в последнее время в глобальных СМИ постоянно. Посмотрим на его стереотипные элементы:
ousted from power (банальная метафора);
ban the activity of muslim Brotherhood (семантика запрета, слово братство в названии организации);
referendum banning the activity of religious political parties (запрет религиозных партий);
crackdown on the movement by military (банальная метафора наступления, эвфемизм военных действий);
dispersed the demo (семантика запрета, насилия);
detained leader (семантика беспорядков);
bitterly divided (семантика раскола);
the group sheds the blood of fellow-Egyptians ( банальная метафора, семантика во фразе «сограждане-египтяне» );
thieves and thugs (оценочность номинации);
raising flashmobs (семантика разгула толпы);
mubarak dictatorship (оценочность режима);
gangs (оценочность номинации);
culture of impunity (оценочная семантика безнаказанности);
western intervention (метафора поддержки, эвфемистическая);
to pressure the interim government (метафора содействия).
В зависимости от точки зрения канала та или иная сторона представляется правой. При этом обе стороны апеллируют к правам человека, к идеалам представительской демократии, защите правопорядка правовыми методами, наделяют противоположную сторону различными пейоративными оценками. В случае эксцессов говорится о «революционных изменениях». Противник представляется оплотом консерватизма, мусульманского фундаментализма или милитаризма.
Протестный дискурс
Обсуждая данную проблематику, следует помнить, что существуют социальный, культурный, политический протест. В протесте выделяются акторы, действия, пространство, причины. Некоторые авторы говорят о субъектах, материальных носителях, акциях, объектах, результатах протеста. Протест представляет собой политическое поведение социального актора как не соответствующее ожиданиям. Протестовать приходится тем, чьи права и свободы не реализуются правовым и юридическим путем. Политический протест – это проявление негативного отношения к политической системе в целом, к отдельным ее элементам, нормам, ценностям. Основной теорией политического протеста является теория депривации.
Играет роль уровень вовлеченности актора в политический процесс. Незначительный протест может проявляться критической оценкой в кулуарах, на кухне. Выделяют репертуар протеста: эмотивный, конативный (санкционированные и несанкционированные действия), когнитивный (вербальный). Выделяются конвенциональные формы протеста (со своими характерными допустимыми формами поведения, например, критика) и неконвенциональные формы протеста. Любое сопротивление может быть ненасильственным, мирным или насильственным, вооруженным. Спектр политических действий протеста простирается от абсентеизма до терроризма. Понимание протестной деятельности актуально для России. Различные политологические и социологические структуры проводят мониторинг протестной активности населения, исследуют механизмы регулирования протеста в РФ.
Так, например, дискурс масс-медиа по вопросу Сирии представлен в последнее время в глобальных СМИ постоянно. Рассмотрим его конституенты:
sectarian war – гражданская война, война социальных или религиозных страт (иносказание);
displaced people – перемещенные лица (стереотипный элемент плюс эвфемизм беженцев);
the threat of military force should remain the option – угроза силы должна оставаться возможностью выбора (семантика слов плюс эвфемия);
thawing relations - потеплевшие отношения (эпитет);
muslim brotherhood - мусульманское братство (номинация); chilling war crime - леденящее душу преступление (эпитет); immeasurable violence - непомерное насилие (эпитет плюс семантика);
unequivocally confirm - безоговорочно подтверждают (семантика убедительности);
beyond doubt - без сомнения (семантика убедительного);
orchestrated the attack - организовал атаку (семантика);
the rebels are defeated - повстанцы отбиты, повержены (номинация противника);
rebels must lay down their arms - повстанцы должны сложить оружие (модальность долженствования);
transparency and full cooperation - ясность и сотрудничество (семантика);
Turmoil - метафорическая номинация (конфликт);
cowardly perpetrators mastermind - трусливые организаторы вынашивают планы (семантика оценочности);
Al-Qaeda linked group - группа, связанная с Аль-Каедой (ярлык, связь с прецедентным именем, вызывающим негативную облигаторную оценочность);
carried out the attack - провел атаку (семантика);
devastating attack - разрушительная атака (оценочный эпитет);
opened fire - открыл огонь (семантика);
scores of dead bodies - десятки трупов ( семантика);
to rid Syria of chemical weapons - избавить от ядерного оружия (перифраза); remarkable progress - значительный прогресс (эпитет оценки);
UN backed mission - миссия, поддерживаемая ООН (связь с прецедентным именем миротворца);
precursor for broader peace - предшественник более стойкого мира (семантика);
radicalize - радикализироваться (семантика оценки действий противника).
Нельзя в связи с вышеуказанным не обратиться к позиции тех исследователей, которые идут к дискурсу от языка .
Дискурсивный анализ актуальных социальных явлений чрезвычайно сложен, а методология такого анализа только разрабатывается. [9; 10] Каковы языковые и риторические феномены, заставляющие нас занимать ту или иную точку зрения? Насколько в критических исследованиях дискурса исследователь абстрагируется от этической позиции?
Среди проблемных вопросов данного этапа научно-исследовательской работы значились: актуальность риторико-герменевтической проблематики; риторика как способность к оценке информации; новые информационные технологии и риторика; риторическая культура чтения прессы; техники оценки публичного выступления в неориторике; паблик рилейшнз, пропаганда, идеология и тексты в системе новых информационных технологий; комментарий в информационно-аналитической работе и техники комментирования; язык как моделирующая среда в социальнополитическом дискурсе; этнические факторы и социально-политический дискурс; языковые феномены политического дискурса; проблема применимости герменевтических техник понимания к текстам идеологического плана - общественно-политическому дискурсу.
Наше внимание привлекают стереотипы, оценочность, политическая (не)корректность в дискурсе политического протеста [1]. Известны представле- ния о политической корректности как когнитивном и языковом механизме с целью скрыть любое неравенство, закамуфлированное за эвфемизмом. Политкорректность проявляется в следующих сферах: пол, религия, цвет кожи, физические недостатки, умственные недостатки, имущественное неравенство и т.д. Политической корректности посвящены недавние диссертационные исследования Ю.Л. Гумановой, А.В. Остроух, М.Ю. Палажченко, В.В. Панина.
При описании политического протеста явственны эвфемизации и стереотипы. Показательна сама номинация события: justice movement, протесты или беспорядки, вооруженные столкновения . Характерна с тигматизация участников беспорядков : банды, мародеры или повстанцы, недовольные, демонстранты, отбросы общества или недопривилегированные слои, отвергнутые, униженные и оскорбленные, бездельники, подстрекатели
Показательны сами названия движений разными сторонами: radical political movement, justice movement, mass protests, civil unrest, riots, occupy the Wall Street, occupy the Parliament.
Очевидно, что описание протеста зависит от политической позиции интерпретатора. Четко выделяются голоса правых и левых , голоса доминирующих и протестующих.
Публичные политики представляют определенные политические и социальные силы и зарабатывают баллы к предстоящим выборам на вербализации своей позиции. Так, нами отмечено, что при обсуждении волнений в Париже в середине нулевых годов была широко представлена точка зрения на истоки кризиса правых (наркотрафик и законы преступных стай), воплощаемая фигурой Н. Саркози (обратим внимание на риторическую фигуру, подчеркивающую всю сентенцию): Devant les nouveaux adhérents du parti, samedi à Paris, le président de l’UmP a donné sa vision des événements. « La première cause du chômage, de la désespérance, de laviolence dans les banlieues, ce n’est pas la crise économique, ce ne sont pas les discriminations, ce n’est pas l’échec de l’école. La première cause du désespoir dans lesquartiers, c’est le trafic de drogue, la loi des bandes, la dictature de la peur et la démission dela Répu-blique», a-t-il affirme.
Отлична была точка зрения его оппонента (демонстрируется «рынок публичной политики»): Et Dominique de Villepin de livrer des evenements une analyse radicalement différente de celle que fera le lendemain Nicolas Sarkozy . Pour le Premier ministre, le malaise des quartiers sensibles est dû à «la crise des valeurs», au chômage, a un «urbanisme inhumain» et au recul des services publics.
При описании волнений в Париже 2005 года голос арабов и мусульман, сколь бы этого ни не хотели видеть правые политологи, все же входит как составная часть в голос протестующих, объединенных скорее требованиями, социальной базой, организацией, мобильной связью, образованием (низким), местом жительства, социальным статусом, резентментом. Так, левые старательно подчеркивают, что к потомкам иммигрантов присоединялись белые бедняки с французских окраин, имеющие, впрочем, как и большинство современных потомков католиков, «остывающую религиозность» ( white working-class post-Christian French ).
Любой социально-политический (идеологический) дискурс чрезвычайно широко использует штампы, клише, речевые стереотипии, эвфемизмы, избитые метафоры и эпитеты, языковые оценочные коннотации, неясность терминов, перенасыщенность (включаемую нами в семантико-синтаксическое явление сверхсатиа-ции), определенные риторические приемы.
Например, семантика номинации участников используется в зависимости от политической позиции средства масс-медиа или комментатора в ряду «вос- ставшие – погромщики». Укажем характерные номинации – часть из них имеет положительные коннотации, часть нейтральна, часть имеет отрицательную характеризацию. Сравним типичные номинации в их семантическом потенциале: sanspapiers, immigrants, rioters, extremists, gangsters, arsonists , attackers, young gangsters, protesters, gangs of youths, present-day brownshirt, blood-crazed goons.
Это лишь отдельные примеры обращения к стереотипам аудитории, применение тактик паблик рилейшнз и создания имиджа.
Выводы
В работе нами показана важность номинации явлений в политическом дискурсе, использование клише и штампов как частного случая стереотипии, использования аксиологической лексики, метафорики, эвфемии, повторов, перифраз, сложности дефинитивности терминов, а также манипуляция фактами, выдача мнения за знания и некоторые другие облигаторные явления политического дискурса.
Список литературы Дискурс глобальных медиа: оптика исследования
- Бушев А.Б. Языковая личность военного переводчика и информационные технологии: риторико-герменевтический подход к мастерству переводчика: монография. Lambert Academic Publishing, 2011. 276 c.
- Кобец Е.В. Языковая личность политика: дис. … канд филол. наук/Е.В. Кобец; Хакасский гос. ун-т имени Н.Ф. Катанова. Абакан, 2012. 250 с.
- Концептуализация политики/Под ред. М.В. Ильина. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. 314 с.
- Медиа. Введение/Под ред. А. Бригза и П. Колби. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 551 с.
- Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. 446 с.
- Подшибякин А. По живому. М.: КоЛибри, 2010. 224.с.
- Политическая коммуникативистика: теория, методология и практика/Под ред. Л.Н. Тимофеевой. М.: ПРОСПЭН, 2012. 327 c.
- Политический дискурс в России 1996-2006: хрестоматия/Сост. В.Н. Базылев. М.: ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 2007. 208 с.
- Почепцов Г.Г. Революция.com. Основы протестной инженерии. М.: Европа, 2005. 530 c.
- Смеющаяся нереволюция: движение протеста и медиа (мифы, язык, символы)/Под ред. А.Г. Качкаевой. М.: Либеральная миссия, 2013. 250 с.