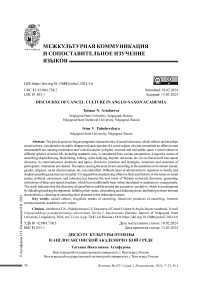Дискурс культуры отмены в англосаксонской академической среде
Автор: Астафурова Татьяна Николаевна, Палашевская Ирина Владимировна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена лингвопрагматическим особенностям дискурса отмены, в котором отражается и развивается «культура отмены», понимаемая как общественное неодобрение и неприятие личности, совершившей оскорбительный и неприемлемый поступок, вызывающий нетерпимость и широкое обсуждение в коммуникационном цифровом и реальном публичном пространстве. Рассматриваются точки зрения на культуру отмены в разных сферах публичного пространства, в том числе академической. Изучаются способы канселинга / исключения (деплатформинг, блэклистинг, троллинг, кибербуллинг, бойкот, остракизм) онлайн и офлайн дискурса отмены, его коммуникативные ситуации и темы, стратегии и практики, цели и результаты взаимодействия участников. Определяются темы, провоцирующие наиболее жесткий канселинг в академической среде со стороны студентов (расовая, гендерная, религиозная, социальная и прочая дискриминация). Выявляются ответные реакции администрации на практику канселинга преподавателей и студентов. Утверждается, что акцентирование внимания на оскорбительных фактах и риторике во имя социальной справедливости, политкорректности и толерантности стало новой нормой дискурса западных университетов, приводящей к ограничению свободы мысли и слова, которые представляют собой ценности, традиционно формируемые в академической среде у молодежи. Исследование показывает, что дискурс отмены разворачивается вокруг обвинительного аскриптива, который сопровождается высмеиванием / осмеянием оппонента, принижением его статуса, его дискредитацией и диффамацией, замалчиванием или отменой его присутствия в информационном пространстве.
Культура отмены, языковые средства канселинга, дискурсивные практики канселинга, интернет-коммуникация, академическая среда, новые ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/149146852
IDR: 149146852 | УДК: 81’42:004.738.5 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.4.6
Текст научной статьи Дискурс культуры отмены в англосаксонской академической среде
DOI:
Обращение к понятию культуры отмены / исключения сегодня особенно актуально в свете сложившихся социокультурных, геополитических и информационно-технологических реалий изменившегося мира.
Цифровые коммуникационные платформы и социальные сети, ставшие неотъемлемой частью жизни миллионов людей, открыли возможность для глобальной социальной коллаборации, стремительного распространения объединяющих идей и их влияния на развитие современного общества. Используя эту возможность, любой обыватель вправе обратиться к широкой аудитории с вопросами социальной справедливости и безопасности, вынести информацию о социально-значимых действиях других субъектов, случаях нарушения правовых и этических норм в публичную сферу для открытого обсуждения.
Изначально эти дискурсивно-оценочные инициативы преследовали благие цели, были направлены на формирование глобального этического «экорегулятора» социума и преодоление недостатков важных процессов общественной жизни. Однако множественные практики массовой этической оценки вреда или угрозы его причинения, исходящей от действий того или иного социального субъекта, породили культуру отмены (cancel culture / call-out culture), выработали систему отрицательных дискурсивных реакций на предосудительные, с точки зрения доминирующей морали, поступки, принимаемые решения, высказываемые суждения в ситуациях социального взаимодействия.
Привлекательность коммуникационных форм, возможность репликации высказываний и их комментирования на социальных медиаплатформах таких как, YouTube, TikTok, Twitter (X) и Instagram *, Facebook ** и др., спо- собствует стремительному вовлечению заинтересованных пользователей в производство дискурсивных практик отмены, объединению множества коммуникативных действий в масштабные кампании соучастного гражданского реагирования на недопустимые поступки в отношении тех или иных социальных групп.
Дискурс отмены характеризуется репрессивной и стигматизирующей направленностью составляющих его речевых действий, семантически соотносимых с наказанием. Ключевым исторически обусловленным смысловым признаком слова cancel является ‘помещение за черту, границу’. История происхождения рассматриваемой языковой единицы связана с латинской лексемой cancelli , диминутивной формой существительного cancer (лат. ‘ограждение из перекрещенных прутьев, решетка’), которое, в свою очередь, возникло в результате фонематических, диссимилятивных преобразований carcer (лат. ‘барьер, ограждение’, но также ‘тюрьма, место заточения’) (CODOEE, p. 70). В ранней адаптации к английскому языку латинизм cancel (лат. cancellare ) воспринимался буквально, в значении ‘cделать решетку, вычеркнуть, провести линии через написанное’ (CODOEE, p. 60). В результате семиотических и семантических экстраполяций на культурные и исторические контексты графический жест вымарывания высказываний и имен стал ассоциироваться с символической смертью, исчезновением из коллективной памяти.
На протяжении истории культура отмены проявляет себя в различных формах и способах социального влияния и отчуждения, отражающих недовольство одних субъектов действиями или позиций других. К одной из наиболее распространенных практик, занимающих особое место в развитии социально-политических систем, историки и правоведы относят остракизм. Согласно исследованиям, превентивная процедура остракизма, характерная для Древних Афин и других эллинских полисов, предполагала голосование демоса с помощью остра-конов (глиняных черепков) при вынесении коллективного решения об опасности для общества тех или иных выдающихся, влиятельных граждан и отправлении их в изгнание на фиксированный срок [Бойкина, 2019]. В качестве примера культуры отмены ученые также на- зывают ритуал Damnatio memoriae (лат. «Проклятие памяти»), применяемый к представителям государственной власти после их смерти, в рамках которого уничтожались упоминания о них в летописях, переплавлялись монеты, с фресок удалялись лица, разбивались статуи, что приводило к публичному забвению этих деятелей [Ильинская, 2024]. Реализацией культуры отмены можно считать и отлучение от церкви. В Средние века ему был подвергнут английский король Генрих VIII, названный римско-католической церковью раскольником, еретиком и мятежником за утверждение ряда антипапских мер, в том числе, развод, признание короля главой протестантской церкви, чтение Евангелия в церквях на родном английском языке, ликвидацию (секуляризацию) монастырских земель и церковной собственности (подробно см.: [Letters and Papers..., 1862]). Генриху VIII было отказано в праве возвращения в лоно римско-католической церкви, пока он смиренно не покорится папе и не признается в своих прошлых ошибках [Dowling, 1999].
В Средние века люди благородного происхождения (gently-born) также могли быть отвергнуты при дворе за несоблюдение надлежащих норм поведения, равно как и монахи могли быть изгнаны из своих капитулов за нарушение обетов, ношение светской одежды и связь с женщинами, но аббата или епископа сместить было практически невозможно [Crouch, 2021]. Насколько трудно было отменить сильных мира сего, настолько легко было изгнать бессильных: прокаженные, нищие, больные и инвалиды в Средние века входили в число социально исключенных, хотя и не по своей вине, кроме прокаженных, изгоняемых из-за страха заразиться.
В настоящее время культура отмены в целом характеризуется тем, что отстаивает социальную справедливость, толерантность и разнообразие, но в результате порождает повышенную бдительность и неослабное внимание к высказываниям, коллективную обиду, ненависть и месть; защита слабых и меньшинств постепенно переходит в репрессию тех, кого прежде относили к сильным и большинству. В современном глобальном социуме, особенно его евроатлантической части, человек все чаще опасается (из-за риска под- вергнуться «идеологическому преследованию» и «отмене») высказывать мнение, отличное от общепринятого, что приводит к заметному сужению дискуссионного и полемического пространства публичного дискурса, идеологическому диктату, господству ангажированного экспертного знания и иллюзии общественного согласия.
В современном варианте культуры отмены наблюдается жесткий подход к персональной и национальной изоляции при помощи информационных технологий, ориентированных на якобы «социальную справедливость» и манипулирование общественным мнением [Симхович, 2022], покушение на свободу слова, право выражения своего мнения в публичном пространстве, право сохранения традиционных ценностей, уникальности социальных институтов и подлинности истории. Культура отмены создает условия, способствующие агрессивным и деструктивным действиям по отношению к тем, кто рассматривается как «враг», рассчитанным, в том числе, на его физическое уничтожение. Так, в XXI в. коллективный Запад «отменяет» победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, неонацисты Украины разрушают памятники Александру Невскому, Суворову, Кутузову, героям Великой Отечественной войны, уничтожают русское население Донбасса и сторонников Русского мира.
Парадоксальными представляются попытки отменить русскую культуру на Западе, так как наследие великих русских писателей, композиторов, художников является значительной частью мировой культуры. С осуждением «культуры отмены» выступил президент Российской Федерации В.В. Путин: «Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ... все, что связано с Россией... При полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит. “Культура отмены” превратилась в “отмену культуры”» (Путин: На западе...). Отмена культуры выражается, прежде всего, в уничтожении духовного наследия этноса, его письменного слова (например, публичные сжигания Талмуда католической церковью в Средние века в Европе, книг антифашистских авторов в нацистской Германии, а также русскоязычных книг в современной Украине), кардинальном иде- ологическом изменении и обеднении литературных, философских, исторических канонов и практик посредством исключения из них определенных точек зрения и высказываний.
Культура отмены отличается отраслевой локализацией, проникая в политику, религию, экономику, спорт, шоу-бизнес, образование и пр. Субъект отмены всегда анонимный, безличный, им может стать любой человек, написавший в социальной сети пост с вирусным контентом (то есть получившим широкое распространение), значительно повышающим показатели вовлеченности: количество лайков, комментариев, репостов. Объектом «отмены» может стать любой человек, обладающий определенным авторитетом в той или иной сфере. Как заметил Ф.К. Зальцман, заслуженный профессор антропологии Университета Макгилла (McGill University) в Монреале, это объясняется тем, что механизмы физического устранения чужой культуры и ее носителей трансформировались (из-за сложности реализации) в символическое удаление нежелательных ценностей и норм из социокультурного пространства и навязывание угодных (Saltzman, 2021). В качестве центральных, широко пропагандируемых ценностей культуры отмены выступают социальная справедливость, политкорректность и толерантность, которые находят наиболее отчетливое проявление в академической среде (см. об этом: (Applebaum, 2021; Roberts, 2020)).
Акцентирование внимания на оскорбительных фактах и риторике во имя социальной справедливости и толерантности стало новой нормой дискурса западных университетов и колледжей. Если философские, политические, культурологические и социальные аспекты «культуры отмены» получили широкое научное освещение [Багдасарян и др., 2023; Былевский, Цацкина, 2022], то лингвистический аспект кан-селинга, сущностные признаки данного явления и составляющие его элементы, играющие ключевую роль в построении и развертывании речевых практик отмены, все еще требует пристального внимания ученых.
Материалы и методы
Как отмечают исследователи, культура отмены – явление отнюдь не новое «и дей- ствия, направленные на исключение нежелательных элементов чужой культуры, неудобных высказываний общественных деятелей или предание забвению определенных личностей или целых культур, всегда были на вооружении господствующих элит. Сегодня механизм культуры отмены успешно действует в качестве особого инструмента разрушения публичных репутаций в современных информационных войнах, и его можно назвать идеологическим» [Ильинская, 2024, с. 213].
В коммуникативной лингвистике под культурой отмены подразумевается привлечение публичных лиц к ответственности за их высказывания и действия, приводящие к значительным финансовым, репутационным, личным и иным потерям [Мелина, 2023, с. 61]. О.Ф. Семенова рассматривает этот феномен как «наступательную, активную коммуникацию, привлекающую внимание аудитории... активизирующую аудиторию, заставляя эмоционально встать на сторону одного из оппонентов, сопереживать событиям, активно включаясь в них» [Semenova, 2023, p. 14].
Зарубежные авторы связывают культуру отмены со стремительным распространением цифровых платформ и сетей [Trigo, 2020], социальным расслоением общества [Bhat, Klein, 2020], его политической поляризацией [Lukianoff, Haidt, 2020]. Кембриджский сетевой словарь определяет культуру отмены как “a way of behaving in a society or group, especially on social media, in which it is common to completely reject and stop supporting someone because they have said or done something that offends you” (COD) (способ поведения в обществе или группе, особенно в социальных сетях, при котором принято полностью отвергать и поддерживать кого-то, потому что он сказал или сделал что-то, что вас оскорбило)1.
Изучение культуры отмены как речекоммуникативного поведения в цифровом, сетевом и реальном публичном пространстве проводилось нами в лингводискурсивной парадигме, позволяющей представить исследуемый феномен как сложный лингвопрагматический объект, который характеризуется специфическими языковыми средствами, коммуникативными ситуациями и темами, дискурсивными практиками и стратегиями, целями и резуль- татами взаимодействия участников в устном и/или письменном форматах.
Таким образом, как сложное коммуникативное явление, дискурс отмены включает, кроме текста, экстралингвистические, социокультурные и коммуникативно-ситуативные факторы, необходимые для понимания порождаемых текстов. Изучение дискурса отмены основано на использовании системного и холистического подходов, то есть на систематизации его составляющих и исследовании любой составляющей через культуру в целом.
Методологически исследование опирается на семантический анализ, интерпретативный и критический дискурс-анализ.
Материалом работы послужили англоязычные тексты за 2020–2023 гг., отобранные способом сплошной выборки из англоязычных научных, экспертно-аналитических электронных изданий и социальных медиа, отражающие различные интерпретации культуры отмены в разных сферах социальной жизни, в том числе в академической среде (Minding the Campus; USA Today; Forbes; The Atlantic; X).
Процедура семантического анализа дискурса отмены включает:
– выявление языковых и дискурсивных маркеров культуры отмены, генерирующей действия неодобрения, исключения из публичного сетевого или реального пространства личностей, совершивших неприемлемые поступки;
– раскрытие речекоммуникативных особенностей дискурса отмены в англоязычной академической среде;
– определение и анализ конститутивных элементов ситуаций дискурса отмены в академической среде, в том числе участников и их интенции, степень агрессии действий и реакций на разных уровнях актуализации культуры отмены.
Результаты и обсуждение
Дискурс культуры отмены выступает в качестве средства и способа ее существования, сохраняя и развивая ее благодаря актуализации соответствующих языковых средств. Базовые лексемы культуры отмены обозначают действия неодобрения, исключения из публичного сетевого или реального простран- ства личностей, совершивших неприемлемые действия или выступивших с высказываниями, которые не одобряются общественностью. В этих лексемах отражается последовательность оскорбительной агрессивной деятельности, включающей четыре уровня канселинга (лексические значения единиц приводятся по (Vocabulary)):
– запрет на размещение информации в сетях, на платформах и составление списка людей, которых следует считать неблагонадежными и исключить из общения ( deplatforming ; blacklisting ): deplatforming is an Internet censorship of an individual or group by preventing them from posting on the platforms to share their information, which typically involves outright or shadow banning (деплатформинг – интернет-цензура, когда человек или группа не могут размещать информацию на платформах, используемых ими для обмена информацией, обычно в виде прямого или теневого запрета); blacklisting is making a list of people that are regarded as untrustworthy and should be excluded or avoided (внесение в черный список неблагонадежных людей, которых следует исключить или избегать);
– троллинг и кибербуллинг участников сетевого и реального общения ( trolling ; cyberbullying ): trolling is when someone deliberately tries to upset others online and posts online, deliberately provoking an emotional argument (троллинг – намеренная попытка расстроить людей в сети, намеренно публикуя информацию, провоцирующую эмоциональный конфликт); cyberbullying is bullying or harassment using electronic means, usually among teenagers and adolescents, due to their increased use of social media (кибербуллинг – травля или преследование с использованием электронных средств, обычно среди подростков в связи с их активным использованием социальных сетей);
– резкую критику, унижение и стремление опозорить статусных публичных персон (shaming; shunning, rejection): shaming is the act or activity of subjecting a person to shame, disgrace, humiliation by public exposure or criticism (посрамление – действие, при котором человек подвергается стыду, позору, унижению, особенно в результате публичного ра- зоблачения или критики); shunning is act of social rejection, or emotional distance (изгнание – публичный отказ или эмоциональное дистанцирование); social rejection occurs when a person or group deliberately avoids association with, and keeps away from an individual or group (социальное отторжение происходит, когда человек или группа сознательно избегают общения с человеком или группой и держатся от них на расстоянии);
– бойкот и остракизм отдельных участников онлайн и офлайн коммуникации ( boycot t ; ostracism ): boycott is nonviolent, voluntary abstention from a person, organization, country as an expression of protest for moral, social, political or environmental reasons (бойкот – прекращение отношений с человеком, организацией, страной в знак протеста по моральным, социальным, политическим или экологическим причинам); ostracism is used for various forms of shunning, as a way of neutralizing someone thought to be a threat to the public, though in many cases popular opinion often informed the expulsion (остракизм используется для различных форм гонения / изгнания, как способ нейтрализации человека, считающегося угрозой для общества).
Ситуации дискурса культуры отмены включают участников, темы, речекоммуникативную деятельность по осуждению, оценочно-дискурсивные практики и стратегии, а также цели и результаты взаимодействия участников.
Участники дискурса: обидчик ( alleged offender ); жертва, пострадавший ( alleged victim ); инициатор отмены / исключения , моральный агент, «воин социальной справедливости» ( social justice warriors , civil rights activist ), берущий на себя право говорить за жертву и движимый стремлением защитить угнетаемые малочисленные социальные группы; сочувствующие, отзывчивые реципиенты ( empathetic , compassionate recipients ), присоединяющиеся к обличительным действиям в порядке подражания, коммуникативного отклика, реализующего моральное требование.
Следует заметить, что в американских и британских академических кругах существует негласный запрет на «обвинение жертвы» (blaming the victim), считается неприемлемым подвергать сомнению искренность эмоциональных переживаний постра- давшего, особенно если его эмоции связаны с групповой идентичностью. Чувства обиды (I’m offended) достаточно для запуска процедуры канселинга.
Декларируемые цели культуры отмены в академической среде – эмоциональное благополучие обучающихся, защита от нанесения психического вреда, превращение университетских кампусов в «безопасные места» ( safe spaces ), где молодые люди ограждаются от идей, слов и действий, которые могут доставить им ту или иную степень эмоционального дискомфорта, вызвать стресс и именуются как нежелательные ( unwelcome speech ).
Тематический охват дискурса отмены раскрывает широкую палитру навязываемых ценностей и смыслов, которые управляют социальным действием и актуализируются в ситуациях их нарушения. Темы характеризуются социальной проблемностью, неприемлемые действия соответственно включают множественные виды дискриминации. В академической среде культура отмены в основном сосредоточена на тех или иных аспектах гендерных, расовых и этнических проблем [Kocurova-Giurgiu, 2021], и нападки студенческой «толпы» на преподавателей по базовым и сопутствующим темам канcелинга становятся все интенсивнее. За период с 2019 по 2023 г. в Североамериканских университетах зафиксирован 301 случай «отмены» сотрудников по различным основаниям 2.
Оценочно-дискурсивные практики канселинга связаны с установлением новых социальных норм и формированием моделей коллективных реакций, социального отклика ( response ) на их нарушения. Актуализация внедряемых культурных представлений обеспечивается с помощью организованного или спонтанного вовлечения отдельных или коллективных субъектов в коммуникативные практики отмены. Культура исключения характеризуется «эмоциональной заряженностью», проявляет себя в аскриптивных речевых актах (вменения в вину, порицания и осуждения), выражающих коллективное возмущение недолжным, неприемлемым поведением.
Дискурс отмены разворачивается вокруг обвинительного аскриптива – оценочного высказывания, в котором субъект оценки относительно системы ценностей и норм приписывает вину за их нарушение определенному лицу, погружая его действия в контекст ответственности.
Практики отмены представляют собой ритуал изобличения лица, привлекаемого к моральной ответственности, исключают возможность альтернативного мнения, состязательности идей, разрушают многовековую культуру академического спора, аргументированной дискуссии. «Отменяемый», как правило, выступает в качестве игнорируемого наблюдателя, «зрителя» публичного действия своего изобличения. Ему отведена роль «злодея», отрицающего реальность уязвимости и страданий других. Он неизбежно подвергается общественному порицанию и вынужден понести наказание. В своем крайнем проявлении культура отмены направлена на полное социальное уничтожение личности, без какого-либо права на апелляцию и возможности публичного извинения.
Широкий общественный охват, интенсивность и повторяемость (воспроизводимость) данной процедуры в академической среде превращают ее в мощный институциональный инструмент контроля социокультурных изменений, закрепления их в массовом сознании.
Ответные реакции (санкции) на действия преподавателя-нарушителя включают:
– изменение или отмену академических курсов, методических материалов, научных мероприятий и публикаций ( forced to revise course syllabus ; event canceled ; article retracted );
– замечание и выговор ( reprimand – verbal and / or written: reprimanded by Board of Trustees ; given official warning );
– временное отстранение от занимаемой должности ( interim suspension : suspended without pay ), включающее запрет на нахождение на территории кампуса ( suspended and ban from campus ), занятие профессиональной деятельностью и публичные выступления ( ban on professional activities , public speeches );
– прекращение трудовых отношений по окончании учебного курса ( termination ) или досрочное расторжение договора с преподавателем ( dismissal );
– принудительный отпуск ( placing on administrative leave ), вынужденный уход на пенсию ( forced retirement ).
Ответные реакции (санкции) на действия студента-нарушителя включают:
– принудительное прохождение курсов по развитию эмпатии и социальной чувствительности ( mandatory sensitivity training at the university’s mental-health center );
– предупреждение ( warning – verbal and / or written);
– академическую пробацию, предполагающую наблюдение и формирование нравственного поведения студента ( academic probation );
– принудительное изменение студенту направления подготовки (специальности) или формы обучения в рамках образовательного учреждения, или его перевод в другое учебное заведение ( disciplinary transfer );
– лишение предоставленных университетом преимуществ ( restriction of contracts );
– отчисление, прекращение оказания студенту образовательных услуг ( expulsion ).
В сетевом пространстве отмена предполагает немедленное приостановление действия учетной записи без возможности возобновления.
Медиа-источники содержат большое количество сообщений о преподавателях, обвиненных в социальной нечувствительности и подвергшихся принудительным мерам воздействия: condemned and pressured to resign – осужден и вынужден уйти в отставку, denied tenure – отстранен от занимаемой должности; removed from teaching duties – не допущен к выполнению своих трудовых обязанностей, banned from campus – лишен права посещать кампус; placed under investigation – находится под следствием, terminated – уволен и т. п. (The College Fix).
Институциональная культура формирует новый модальный образ представителя высшей школы, следование которому стимулируется шкалой наказаний, варьирующихся от устного порицания до полного разрушения профессиональной карьеры и репутации. Так, в докладе на научной конференции (Беркшир, июнь 2023 г.), историк, профессор Южно-Каролинского университета Л. Баннер (Lois Banner), специалист по гендерной проблематике, автор популярных книг
(«American Beauty», 1983; «Women in Modern America: A Brief History», 1974; «Marilyn: The Passion and the Paradox», 2012 и др.) заметила, что ей было бы легче сделать карьеру, будь она чернокожей ( I have had an easier career if I were black ). Фраза вызвала множество отрицательных откликов и комментариев в социальной сети Twitter; ее сочли неприемлемой, расово бестактной / неуважительной ( racially insensitive ), а оргкомитет конференции выступил с официальным заявлением о своем неодобрении неподобающих слов мастера пера и настоятельным требованием воздержания от подобных изречений в будущем.
Судьба У. Моравица (W. Moravits), офицера полиции в отставке, профессора политологии в колледже Св. Филиппа в Сан-Антонио, сложилась иначе. У. Моравиц выстраивал свои занятия в форме дискуссий: «Classroom is a place where all opinions are welcomed and encouraged, but not required» (Faculty Issues) (Аудитория – это место, где приветствуют и поощряют все мнения, но не предполагают обязательного выражения). Однако ряд тем (жестокость полиции, раннее сексуальное образование, ЛГБТК+ ***, растление малолетних, преступления педофилии) вызвала у некоторых студентов отторжение и психологический дискомфорт. Преподаватель был уволен.
В июне 2023 г. К. Цукер (Kenneth Zucker), профессор, главный редактор журнала «Archives of Sexual Behavior», был обвинен в гендерной предвзятости, поскольку разместил на страницах данного научного издания статью С. Диас и М. Бейли «Rapid onset gender dysphoria: parent reports on 1655 Possible Cases», в которой отстаивается мнение, что гендерная дисфория во многих случаях является результатом социального давления, калечащего личность ребенка. Открытое письмо научного сообщества к редакционному совету призывало к отстранению доктора К. Цукера от занимаемой им должности главного редактора и отозванию данной статьи из журнала: «In recent years, Archives of Sexual Behavior has routinely published articles on LGBTQ+ topics that in our view did not adhere to the highest standards of intellectual integrity and publication ethics, raising concerns over editorial bias. As a result, we have lost confidence in the journal’s editor, Dr Kenneth Zucker» (The College Fix) (В последние годы в журнале регулярно публиковались статьи, посвященные проблематике ЛГБТК+, которые, по нашему мнению, не соответствовали самым высоким стандартам интеллектуальной порядочности и публикационной этики, что вызывает обеспокоенность по поводу предвзятости редакционной политики журнала. В результате мы утратили доверие к редактору журнала, доктору Кеннету Цукеру). Настояния были частично удовлетворены, статью сопроводили дисклеймером, то есть письменным отказом от ответственности за возможные последствия поступка.
Очевидно, что практики осуждения недопустимого поведения и последующего устранения из академического пространства создают культуру вербального сдерживания: каждый должен подумать, прежде чем высказываться, чтобы не столкнуться с обвинениями в социальной нечувствительности, агрессии, способствовании созданию враждебной среды. Причем «внесудебный» характер расправы над жертвами, групповой самосуд предполагают отсутствие справедливости для обвиняемых [Holman, 2020, p. 11]. Дж. Терли, адвокат, ученый-правовед, профессор юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона, пишет: «Indeed, in thirty years of teaching, I have never seen this level of intimidation of faculty in terms of what they say on social media or even in their classrooms. The almost universal silence of other faculty to support their colleagues has turned this chilling effect into a perfectly glacial condition for free speech and academic freedom» (Turley, 2020) (За тридцать лет преподавания я еще никогда не видел такого уровня запугивания преподавателей по поводу того, что они говорят в социальных сетях или в своих аудиториях. Почти всеобщее молчание других преподавателей, поддерживающих своих коллег, превратило «охлаждающий эффект» неловкости в совершенно леденящее душу состояние свободы слова и академической свободы).
Т. Симпсон, доцент кафедры философии и государственной политики Оксфордского университета, отмечает: «An online culture allows the views of a minority to exert disproportionate influence on administrators and other academics» (Simpson, 2021) (Онлайн-культура позволяет взглядам меньшинства оказывать непропорционально большое влияние на администрацию и других ученых). «Высшей точкой» в дебатах на эту тему ста-лооткрытое письмо, подписанное 153 общественными деятелями, с аргументами против нетерпимости к противоположным взглядам, моды на публичный позор, унижение и остракизм, а также тенденции размывать сложные политические вопросы слепой моральной уверенностью (Brown, 2020; McWhorter, 2020). Однако некоторые преподаватели считают, что в действительности самые большие угрозы академической свободе и свободе слова исходят не от так называемой культуры отмены, а от попыток министров контролировать темы, языковые средства и дискурсивные стратегии, которые, по их мнению, допустимы в кампусе, полагая, что преподаватели не способны самостоятельно с этим справиться [Grady, 2022]. С данной позиции культура отмены является формой властного контроля и управления академическим сообществом, принадлежность к которому означает приверженность определенным ценностям и взглядам. Демонстративное обличение и исключение из профессиональной страты инакомыслящих выступает жестом идеологической солидаризации с властными структурами и имеет политическое значение.
Заключение
Практики отмены служат идеологическим инструментом власти подавления и принуждения, основанной на практике угроз и наказаний и требующей постоянного контроля за высказываниями с целью удержания субъектов в состоянии подчинения. Дискурс отмены разворачивается из ценностно-идеологической интерпретации и акцентуации тех или иных социально значимых поступков как неприемлемых, оскорбительных, маргинальных и влечет исключение данных действий, а также лиц, их совершивших, из публичной сферы (и цифровой, и реальной). Для культуры отмены характерны растворение сложных социальных воп- росов в моральном контексте ценностной поляризации, нетерпимость к противоположным взглядам, аскриптивность, негативная эмоцио-генность, градуальность оскорбительной агрессивной реакции на действия нарушителя, включающей четыре уровня интенсификации: 1) deplatforming, blacklisting; 2) trolling, cyberbullying; 3) shaming, shunning, rejection; 4) boycott, ostracism; принципиальная доступность данных дискурсивных практик: право на осуждение и отмену предоставлено каждому, кто посчитает это необходимым.
«Культура отмены», сформировавшаяся под лозунгом защиты социальной справедливости и разнообразия, неизбежно влечет подавление разнообразия и любых альтернатив. Его осуществлению способствуют следующие стратегии / способы: аргументированное опровержение действий, применяемое при достаточной уверенности субъекта в своей правоте; проявление неуважения через высмеивание / осмеяние оппонента с целью потери им статуса коммуникативного лидера; дискредитация и диффамация как распространение недостоверных сведений, которые разрушают репутацию и умаляют достоинство представителя альтернативного мнения; игнорирование и отмена нежелательного социального субъекта из информационного пространства, что в последствии лишает его реального бытия. В культуре отмены предпочтение отдается агрессивным деструктивным дискурсивным действиям, ведущим к разрушению позитивного социального образа субъекта (как индивидуального, так и коллективного), утрате доверия к нему со стороны других субъектов, разрушению его репутации и социального статуса.
Многочисленные примеры репутационных потерь и разрушенной карьеры, устойчивой предельно негативной оценки преподавателя, на которую направлена информационная атака, клеймо позора за сказанное, суд толпы, то есть цензура студентов и администрации, свидетельствуют о намеренном ограничении свободы мысли и слова. Однако именно эти ценности традиционно формируются у молодежи в академической среде и лежат в основе развития и самовыражения каждого человека как творческой личности. Именно они имеют исключительное значение для установления истины путем активного обсуждения альтернативных способов решения проблемы, а не одностороннего отражения реальности, дающего зачастую ложное представление об изучаемых явлениях.
Для отечественного академического сообщества важны осознание разрушительных последствий «культуры отмены» и «отмены культуры», захвативших западную университетскую, интеллектуальную жизнь, и непреклонное следование базовым принципам современного образования в России, включающим раскрытие творческого потенциала личности в социально-экономических условиях меняющегося мира и одновременную ориентированность на культуру своей страны, ее смысложизненные ценностные ориентиры, многие века составлявшие основу общественной морали и духовно-нравственного развития человека.
Культура существует в прошлом и настоящем, передает ценностные установки новым поколениям для существования в будущем. При этом понимание и выстраивание собственной культуры происходит через диалог с другими культурами, через восприятие «инаковости». Связь времен, преемственность ценностно-духовного опыта, и диалогичность имеют экзистенциальное значение для любого общества, игнорирование и искоренение этих связей приводят к его распаду и исчезновению.
Список литературы Дискурс культуры отмены в англосаксонской академической среде
- Багдасарян В. Э., Василик В. В., Иерусалимский Ю. Ю., Лантратова Я. В., Мякшев А. П., Хазанов А. М., Якунин В. И., 2023. «Культура отмены»: феномен цивилизационного остракизма: материалы эксперт. круглого стола // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки. № 4. С. 6-35. DOI: 10.18384/2949-51642023-4-6-35
- Бойкина Е. Э., 2019. Остракизм и родственные феномены: обзор зарубежных исследований // Психология и право. Т. 9, № 3. С. 127-140. DOI: 10.17759/psylaw.2019090310
- Былевский П. Г., Цацкина Е. П., 2022. Феноменологический анализ явления «культура отмены» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: Гуманитарные науки. № 2 (857). С. 162-169. DOI: 10.52070/2542-2197_2022_2_857_162
- Ильинская Е. А., 2024. Культура отмены как механизм социального и культурного забвения // Диалоги и конфликты культур в меняющемся мире: XXI Междунар. Лихачев. науч. чтения. СПб.: СПбГУП. С. 212-213.
- Мелина А. Ю., 2023. О возможности влияния на процессы «культуры отмены» при помощи лингвистических средств // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: Гуманитарные науки. № 8 (876). С. 59-65. DOI: 10.52070/2542-2197_2023_8_ 876_59
- Симхович В. А., 2022. Культура отмены как инструмент манипулирования общественным мнением // Новые вызовы и перспективы развития современного социума: материалы I Междунар. науч.-методол. междисциплин. семинара. Минск: БГУ С. 212-219.
- Acevedo D., 2023. Tracking Cancel Culture in Higher Education // The National Association of Scholars. URL: https://www.nas.org/blogs/ article/tracking-cancel-culture-in-higher-education
- Bhat P., Klein O., 2020. Covert Hate Speech: White Nationalists and Dog Whistle Communication on Twitter // Twitter, the Public Sphere, and the Chaos of Online Deliberation. Cham: Palgrave Macmillan. P. 151-172.
- Crouch D., 2021. The Chivalric Turn // A journal of Medieval and Renaissance Studies. Vol. 52. P. 238-240.
- Dowling M., 1999. Fisher ofMen: A Life of John Fisher, 1469-1535. L.: Macmillan Press LTD. P. 159-176.
- Grady J., 2022. General Secretary of National Union of Students. URL: https://www.nus.org.uk/articles/nus-response-to-government-s-proposals-on-free-speech-at-universities
- Holman K. J., 2020. Can You Come Back from Being Cancelled? A Case Study of Podcasting, Cancel Culture, and Comedians During #MeToo. Omaha: University of Nebraska at Omaha. 170 p.
- Kocurova-Giurgiu I., 2021. Cancel Culture as Perceived and Encouraged in Academia. An Exploration of How Mob Attitudes on Social Media Promote Censorship and the End of Open Dialogue. URL: https: //www. researchgate.net/publication/ 354893759_
- Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VII, 1862. L.: Oxford University Press. Vol. 8. P. 287-345. URL: https://archive.org/ details/letterspapersforl llond
- Lukianoff G., Haidt J., 2020. The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas are Setting Up a Generation for Failure. N. Y.: Penguin Publishing Group. URL: https:// www.researchgate.net/publication/335092457_
- Semenova O. F., 2023. Cancel Culture - The Speech Behavior of Modern Society // Review of Business and Economics Studies. N° 11 (1). P. 1318. DOI: 10.26794/2308-944X-2023-11-1-13-18
- Trigo L. A., 2020. Cancel Culture: The Phenomenon, Online Communities and Open Letters // opMeC Research Blog. URL: https://www.researchgate.net/ publication/344512933