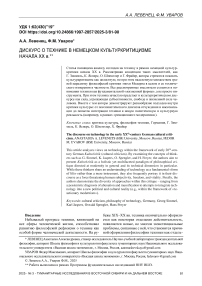Дискурс о технике в немецком культуркритицизме начала XX в.
Автор: Левенец А.А., Уваров Ф.М.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу взглядов на технику в рамках немецкой культуркритики начала XX в. Рассматривая концепции таких мыслителей, как Г. Зиммель, К. Ясперс, О. Шпенглер и Г. Фрайер, авторы стремятся показать культуркритицизм как целостную, но при этом наделенную множеством граней парадигму философской критики эпохи Модерна в целом и ее технического измерения в частности. Все рассмотренные мыслители сходятся в понимании техники как фундаментальной «жизненной формы», а не просто инструмента. При этом техника зачастую предстает в культуркритическом дискурсе как сила, угрожающая субъективности, свободе и жизненной силе человека. Вместе с тем авторы демонстрируют разнообразие подходов внутри критики культуры: от пессимистического диагноза отчуждения и массовизации до попыток интеграции техники в новую политическую и культурную реальность (например, в рамках «реакционного модернизма»).
Критика культуры, философия техники, Германия, Г. Зиммель, К. Ясперс, О. Шпенглер, Х. Фрайер
Короткий адрес: https://sciup.org/170210992
IDR: 170210992 | УДК: 1:62(430)"19" | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-3/81-90
Текст научной статьи Дискурс о технике в немецком культуркритицизме начала XX в.
Небывалый прогресс техники, влияющий на все сферы человеческой жизни, способствовал развитию философской рефлексии о технике как особой форме человеческой деятельности. На ру- беже XIX–XX вв. техника окончательно оформляется как некоторая отдельная действительность, появляются новые, во многом экзистенциальные проблемы, связанные с ней, что становится причиной оформления философии техники как отдель- ной дисциплины1. Предшественниками формирования этой области философского знания принято считать немецких «философствующих инженеров» (Э. Гартиг, И. Бекманн, А. Ридлер и др.), которые в своих трудах рассуждали о понятии техники как таковом, о научном оформлении взглядов на технику и т.д. [9, c. 11–20]. Однако первым мыслителем, поставившим слова «философия» и «техника» в один ряд, стал немецкий философ Эрнст Капп, который в 1877 г. выпустил труд под заглавием «Основные направления философии техники. К истории возникновения культуры с новой точки зрения». В своем исследовании Капп вводит термин «органопроекция» и подчеркивает, что в технике человек в первую очередь встречает самого себя. Концепция органопроекции Каппа призвана показать, что «технический продукт производится и проектируется деятельностью органа, и поэтому его примитивная форма была предназначена и предписана изнутри организма…» [24, p. 57]2. Можно сказать, что философия техники Каппа является попыткой представить собственную теорию возникновения культуры, основанную на теории эволюции. Однако техника вполне способна стать неким отдельным, неподконтрольным человеку миром. Для предотвращения этой проблемы Капп настаивает на параллельном развитии технических наук и человеческого духа [1, c. 11–13].
На первых этапах развития философия техники включала два основные направления: технический оптимизм и технический пессимизм. Технический оптимизм характеризуется идеализацией техники, взглядом на нее как на ключевой фактор решения общественных проблем. Например, Ф. Бон считал, что целью технического прогресса является достижение счастья для всего человечества [1, c. 181–182].
Наиболее известным течением, анализирующим технику с пессимистических позиций, является сформировавшаяся в Германии на рубеже XIX–XX вв.3 критика культуры (Kulturkritik).
Ее представители фиксируют парадокс современной цивилизации: чем стремительнее она развивается, тем больше в ее прогрессе видится упадок [18, p. 7–8]. Оформление культуркритического взгляда на технику происходит как ответ на масштабные экономические, социальные и политические изменения, охватившие страну в эпоху правления Вильгельма II (1888–1918 гг.). Речь идет в первую очередь о научнотехническом и промышленном развитии Германии. Невиданный до этого рост машиностроения, горнодобывающей промышленности, тотальная механизация и рационализация всех областей, включая сельское хозяйство, вывели Германию на второе место в мире по уровню промышленного производства. Демографический всплеск и увеличение числа мигрантов способствовали росту городского населения и, как следствие, численности рабочего класса. Таким образом, историческая ситуация начала XX в. стимулировала обращение философов к вопросам осмысления нового общественного устройства и места в нем индивида4. Эпоха Модерна и характерная для нее культура, буржуазное капиталистическое общество, стремящиеся к обезличиванию человека и все большей массовизации жизни, нарастающая индустриализация, специализация, рационализация человеческих действий активизировали философский поиск причин происходящего [23]. Последовавшие затем поражение в Первой мировой войне, крах Германской империи и учреждение Веймарской республики, а также масштабные экономические кризисы 1920-х и 1931–1932 гг. также способствовали развитию культуркритических тенденций.
Разговор о культуркритике неизбежно начинается с трудности определения данной философской позиции. Исследователь Г. Болленбек определяет критику культуры как своеобразное хранилище «историй потерь и патологических открытий, которые, ссылаясь на лучшие времена, направлены против собственного времени» [21, p. 6].
Другой авторитетный исследователь данного течения Р. Конерсманн и вовсе называет критику культуры «отражением изменившегося мира» [27, p. 4] и предлагает в качестве ее ключевой характеристики емкую формулу: «критика культуры во имя самой культуры» [26, p. 10]. Оба мыслителя согласны, что культуркритика по-своему парадоксальна, ведь ее позиция напрямую зависима от культуры, которую она критикует. Тем не менее, культуркритицизм не является простой «критикой ради критики».
В рамках данного исследования мы придерживаемся определения критики культуры, представленного в монографии А.В. Михайловского: «Культуркритика – это философская позиция, рассматривающая культуру как форму искажения, симуляции, отчуждения, дегенерации и деградации истинных способов бытия» [7, c. 92].
Критика культуры глубоко проникнута экзистенциальными вопросами, она пытается понять, каково место человека в мире господства объективности, находящей свое наиболее яркое выражение в технике. Техника рассматривается представителями культуркритицизма по большей части как дегуманизирующее явление, лишающее человека самости. Как отмечает польский философ Г. Сколимовски, «философия техники возникла как результат критической оценки нашей цивилизации... Наш долг – философов, мыслителей, инженеров и просвещенных граждан – ответить на те проблемы, которые мы, как цивилизация, породили» [10]. Несмотря на то, что культура в целом в рамках этого движения рассматривается с пессимистических позиций, а дискурс о механизации и массовизации, охвативших общество, выражен особенно ярко, техника анализируется последователями критики культуры по-разному.
В настоящем исследовании мы проанализируем культуркритические взгляды на технику таких мыслителей, как Г. Зиммель, К. Ясперс, О. Шпенглер и Г. Фрайер5, с целью раскрыть специфику дискурса о технике в рамках немецкой критики культуры начала XX в., а также выявить варианты решения «вопроса о технике», предлагавшиеся в пределах культуркритической парадигмы.
Современная культура и техника как утрата жизни (Г. Зиммель)
Немецкий философ и социолог Георг Зиммель посвятил многие свои труды анализу ситуации, в которой оказался человек в современную ему эпоху. Являясь сторонником философии жизни, Зиммель сосредоточивает свое внимание на рассмотрении актуальной культуры как ситуации утраты витальных мотивов в деятельности людей. Техника как форма культуры также рассматривается им в качестве причины угасания жизни.
Зиммель утверждает, что культура есть уникальное соединение объективного и субъективного. Он пишет: «Культура возникает тогда, ... когда встречаются два элемента ... субъективная душа и объективное духовное произведение» [4, c. 449]. Полное и подлинное культурное развитие человека не может быть направлено исключительно на духовное или материальное созидание, оно должно соединять два этих проявления в равной мере.
Объективная культура обладает уникальным характером развития, не зависящим от природы и преодолевающим ее. Современный человек обнаруживает себя в ситуации неумолимого развития объективной культуры, за которым не успевает субъективная. Духовное развитие человека далеко от того количества вещей и объектов, которое существует на данный момент. Человек не может охватить объективную часть культуры, из-за чего она начинает захватывать его. Человек не просто не развивается, но оказывается потерянным, лишенным свободы, объективированным. Культура вещей захватывает человеческий мир, не оставляя в нем места для человека. Все это приводит к кризису культуры, тяжело переживаемому человеком. Неутолимая жажда, проявляющаяся в появлении все новых и новых потребностей, приводит к тому, что «личных ценностей ищут в той сфере, в которой их вообще не бывает: то, что успехи в технике прямо оцениваются как успехи в области культуры, что в области духа методы часто рассматриваются как нечто священное и считаются более важными, чем содержания и их результаты …все это свидетельствует о постепенном вытеснении целей средствами...» [3, c. 491]. Зиммель подчеркивает, что при нормальном соотношении объективной и субъективной культуры техника не является одной из форм культуры.
Чтобы преодолеть гнет объективности, полагает Зиммель, человеку необходимо вырасти как личности. Силы для подобного преодоления заложены в самой его природе вместе с жизнью. Именно жизнь способствует культурному развитию, т.к. стремится выразить себя через культурные формы. Но проблема кроется как раз в понятии формы. Жизнь, неспособная облачить себя в некоторую ограниченную форму, противостоит собственным творениям, находясь в постоянном поиске других, более подходящих форм. Однако современная Зиммелю эпоха характеризуется стремлением человека преодолеть понятие формы в принципе. Жизнь начинает стремиться к выражению в виде чистой динамики. Она является наиболее сильным творческим процессом, который стремится к взращиванию силы индивидуальной жизни. Зиммель подчеркивает, что в его время происходит невиданный доселе рост ценности индивидуальности, формируется понимание обще- ства как пространства раскрытия индивида. Однако господство объективной культуры, руководствующейся интеллектом, способствует увяданию творческого порыва жизни [6, c. 89–98].
Зиммель отмечает, что развитию объективной культуры во многом способствовали разделение труда и его специализация. Подобные явления дробят культуру, обеспечивают ее сложность. Во многом за счет них объективные части культуры становятся самостоятельными, поглощая творческую жизнь субъекта. Деньги и интеллект превращаются в наиболее значимые принципы современной культуры. Именно деньги предстают новой тотальной целью, в то время как вещи, каждая из которых на самом деле обладает собственной целью, превращаются в средства. При этом деньги сохраняют и принадлежность к категории средств как обеспечивающий существование общества фактор, из-за чего традиционное разделение на цели и средства устраняется; все, что угодно, может быть как целью, так и средством, в т.ч. и человек [5].
Какова же роль техники в глобальной объективации культуры? Зиммель считает, что именно машинное производство послужило ее основной причиной. Современный мир направлен на поддержание процессов производства и потребления, стремится придать им массовый характер, из-за чего создается огромное количество вещей, которые есть не что иное, как произведения объективной культуры. Массовое производство оторвано от субъективности как потребителей, так и производителей, т.к. товар должен быть удобен и полезен для всех, вне зависимости от индивидуальных потребностей. Помимо этого, Зиммель фиксирует разрыв между объективной и субъективной культурой, который проявляется в технике. Объективная культура находит свое воплощение в орудиях труда, в то время как субъективная – в сознании, душе рабочего. Сейчас орудия труда оказываются куда более развитыми, чем сам рабочий, из-за чего последний поглощается ими [6, c. 101–102].
Технические средства неумолимо развиваются и в ходе своего развития захватывают витальные силы человека, становятся над жизнью. Техника начинает превращаться в самостоятельный мир, неподконтрольный субъекту. Она более не является средством, технический прогресс ставит себе целью именно бесконечное развитие, без внимания к тому, ради чего это развитие необходимо. Человек продолжает поддерживать работу техники, но начинает забывать, ради чего это делается, какова цель того или иного технического средства. Таким образом, техника постепенно устанавливает то- тальное господство над постепенно разрушающейся субъектностью6. Преодолеть же тотальное проникновение в жизнь объективной культуры и, как следствие, техники человек способен за счет обращения к собственным витальным силам. Необходимо осознать, что сама культура должна быть поставлена на службу жизни, как средство ее раскрытия вовне и возвращения к самой себе, что возможно за счет уравновешивания в ней объективных и субъективных сил [6, c. 90–108].
О человеке на пути технического прогресса(К. Ясперс)
Карл Ясперс, немецкий философ и психиатр, склонен рассуждать о современной ему эпохе, положении в ней индивида и техническом прогрессе в духе культуркритицизма. Ясперс размышляет о ситуации современности как о пространстве господства массового общества, где индивид как таковой обесценивается, а личностная жизнь упраздняется в угоду бытия в массе. Ключевым понятием для анализа феномена массового общества у Ясперса становится техника, такое общество описывается с помощью понятий «организация» и «аппарат». Он пишет: «Масса и аппарат связаны друг с другом. Крупный механизм необходим, чтобы обеспечить массам существование. Он должен ориентироваться на свойства массы: в производстве – на рабочую силу массы, в своей продукции – на ценности массы потребителей» [17, c. 313].
Техника определяет жизнь массового общества, настраивает его на линию бесконечного производства, работы и труда, следования плану, смысл которого остается для человека скрытым. Технический прогресс призван оформить жизнь массы, но человек не ощущает ничего, кроме нависшей над ним угрозы, нехватки смысла и самой жизни. Масса существует как некоторая универсальная упорядоченность, проникнутая техникой. В такой структуре разрушается личностный мир человека. Сам он становится машиной, количественной единицей производства. Общество превращается в механизированный организм, человек мыслится в первую очередь как исполнитель функций. Массовое общество – набор обезличенных, автоматизированных частей, которые уже не осознаются как субъекты деятельности.
Ясперс пишет, что такое существование лишает человечество историчности как его фундаментальной характеристики, а человека – его жизненного существования как такового. Человек отныне – не субъект истории, но объект техники. Аппарат контролирует общество, следит, чтобы каждый его участник выполнял положенные ему функции, вследствие чего сама связь человека и жизни оказывается разорванной. Техника превращается в политический инструмент, выгодный технократам. Человек не может помыслить себя в отрыве от техники, из-за чего вынужден подчиняться ей и тем, кто ею владеет [11, c. 118–120].
В проникнутом техникой массовом обществе, состоящем уже не из личностей, но из автоматов, человек ощущает глубочайшее одиночество. Он стремительно бежит от него, стараясь влиться в существующий порядок за счет труда и работы, сохранить свое место в обществе, что, однако, не избавляет его от страхов.
Задача человека в мире технического прогресса состоит в преодолении техники, что возможно за счет осознания современной эпохи как исторически уникальной ситуации. Техника становится своеобразным испытанием для человека, преодолев которое он сможет восстановить утраченное личностное бытие. Ясперс отмечает, что простой пессимизм ни к чему не приведет. Важно осознать, что мы не можем просто отказаться от техники: «С технизацией мира мы вступили на путь, по которому надлежит следовать дальше. Повернуть вспять означало бы затруднить существование до невозможности. Порицание не поможет, необходимо преодоление» [17, c. 402].
Человек должен найти внутренние силы для преодоления техники вместо ее отрицания, осмыслить технику как важную часть исторической ситуации, выстроить дистанцию по отношению к ней, которая позволит посмотреть на феномен техники как таковой. Человеку необходимо оказать сопротивление массовизации и технизации, обратить процесс превращения себя в средство. Для этого, как считает Ясперс, человек должен преодолеть собственную зависимость от техники путем обращения к личным жизненным силам, своему бытию как таковому, которое еще не до конца оформлено как часть мира технического господства [1, c. 187–188].
Техника как тактика жизни (О. Шпенглер)
Освальд Шпенглер, немецкий философ, во многом впитавший интенции философии жизни, представил авторскую концепцию разделения цивилизации и культуры, которая наиболее полно описана в труде «Закат Европы» (1918–1922). Шпенглер пишет о том, что человечество как таковое не имеет конкретного плана и не движется по пути линейного бесконечного прогресса. Вся история есть не что иное, как свод биографий различных культур, каждая из которых – отдельный живой организм. Любое живое творение по определению является конечным. Так и культура переживает стадию создания, оформления и разрушения, что невозможно предотвратить [28, p. 6–8].
Шпенглер определяет цивилизацию как культуру, находящуюся в состоянии упадка. Культура, которая изначально создается как репрезентация различных незаурядных мыслей, становится источником создания идей, которые в итоге и разрушают эту культуру. Одной из таких идей, в частности, является техника. Европейская, «фаустовская» культура, как называет ее Шпенглер, дошла до технического освоения мира, что становится ее последним вздохом [19, p. 147–148]. Шпенглер пишет: «Фаустовский изобретатель и первооткрыватель – нечто уникальное.... У всей нашей культуры – душа первооткрывателя» [15, c. 532]. Стремление к технике изначально заложено в европейской культуре как естественная часть ее жизни. Тем не менее, именно техницизм становится одним из признаков того, что фаустовская культура вступила на путь цивилизации и движется к своему завершению.
В работе «Человек и техника» (1931) Шпенглер анализирует как природу самой техники, так и отношение к ней человека. Мыслитель выступает против двух характерных для его времени взглядов на технику: излишней идеализации, склонной выносить технику за рамки культуры, и рассмотрения техники как средства для достижения полезных целей, конечной точкой которых является установление бесконечного счастья для всех. Шпенглер предлагает нам посмотреть на технику не с точки зрения того, какой она должна быть для человечества, а с точки зрения того, чем она на самом деле является, т.к. историческое развитие техники не зависит от человеческих желаний [16, c. 454–457].
Шпенглер утверждает, что техника характерна для всех живых организмов, а не только для человека. Жизнь организма есть постоянная борьба с природой, другим, самим собой. Организм движется в рамках этой борьбы, осуществляет ее за счет техники как тактики самой жизни. Техника не должна пониматься лишь как инструмент. Техника – это не способ создания вещей, но способ взаимодействия с ними в ходе борьбы. Сама техника еще не предполагает наличия орудия, т.к. под ней Шпенглер понимает скорее деятельность с определенной целью, чем вещественную составляющую [25, p. 25–27].
Тем не менее, техника в современную Шпенглеру эпоху приходит к инженерным методам и созданию машин. Подобные явления начинают мыслиться в качестве прогресса, что Шпенглер решительно отвергает. Он отмечает, что идея прогресса в корне не верна, т.к. не замечает столь важную характеристику любой формы культуры, как конечность. Шпенглер пишет: «Есть что-то комичное в этом марше в бесконечность, к цели, о которой всерьез даже не задумывались … не осмеливались представить, ибо цель является концом» [16, c. 458]. Человеку необходимо оставить попытки предотвратить конец культуры, т.к. он неизбежен.
Представление о технике как тактике жизни во многом повторяет ницшеанскую идею о воле к власти. Техника буквально становится средством и символом борьбы за власть, за счет техники ставятся цели, главной из которых является борьба как таковая и утверждение жизни. С помощью техники человек противостоит самой природе, стремится вырваться из повиновения естественного мира, создав свой собственный, искусственный мир. Человек как вид протестует против собственной видовой природы, хочет выйти за рамки видовых различий. Однако природа также противостоит человеку в форме различных катаклизмов. Борьба с природой, как считает Шпенглер, будет продолжаться вплоть до завершения жизни человечества, она неизбежно будет им проиграна, но человеку ничего не остается, кроме как продолжать ее, героически принимать реальность и сохранять стремление к борьбе как проявление жизни.
Как уже было сказано, фаустовская культура, проникнутая техникой, переживает свой закат. Шпенглер называет признаком этого состояния «предательство техники». Он отмечает, что техника стала настоящим достижением западных цивилизаций, которое давало им огромное преимущество по сравнению с другими. Представители фаустовской культуры изначально одни владели природными ископаемыми и способами их добычи и обработки. Шпенглер пишет: «Вместо того чтобы держать в тайне технические знания … ими стали хвастаться и предлагать всему миру в высших школах...» [16, c. 491]. Западная цивилизация, поделившись с другими культурами техникой, подписала себе приговор, т.к. они начинают использовать технику как средство ее разрушения. Крах неизбежен, и все, что остается человеку, принять его с достоинством. Не следует трусливо отворачиваться, прикрываясь оптимизмом. Нужно с честью пройти оставшийся путь, зная о неизбежном поражении, что и покажет всю силу человека фаустовской культуры [25, p. 27–30].
Народ и техника (Х. Фрайер)
Немецкий философ Ханс Фрайер стал одним из первых академических социологов, который обратился к технике как центральной теме соб- ственных размышлений [8]. Он был учеником Г. Зиммеля, что, несомненно, сказалось на формировании его мысли. Несмотря на влияние критики культуры, Фрайер предлагает своеобразный способ ее преодоления. Можно сказать, что критика культуры Фрайера – это критика способов отношения к культуре и ее понимания, сформированных буржуазной эпохой [12, c. 99–108].
В статье «К философии техники» (1929) Фрайер выступает как против активного технического оптимизма, так и против технического пессимизма. Он считает, что к технике нельзя относиться как к системе средств, которая может по-разному использоваться в зависимости от целей. Фрайер не является сторонником технического прогресса, т.к. он не осмыслен человеком. Техника еще не схвачена как неотъемлемая часть человеческой культуры в ее историческом контексте; цели, которым должна служить техника, еще не отрефлексированы. Фрайер настаивает на большом значении философии истории техники, которая отличается от обычной философии техники тем, что способна поставить вопрос о задачах и значении технологий, осмыслить их как судьбу культуры [13].
Фрайер пишет: «...То, что мы называем техникой, есть измененный дух, желающий овладеть нами. И вот какое серьезнейшее решение нам следует принять: сопротивляться ли этому духу всеми силами или отдаться ему и подвергнуться трансформации под его воздействием» [13, с. 75]. Он отмечает, что появление и развитие техники делает явным наступление новой эпохи человечества, от влияния которой скрыться невозможно. Технику необходимо принять как форму человеческой культуры. Человек должен принять собственные творения, т.к. именно в них он и может узнать себя. Судьба не только европейской культуры, но и всего человечества решается через вопрос о технике, имеющий всемирный характер. Техника изменяет человека и историю.
Фрайер критикует идею Зиммеля о диалектике средства, под которой понимается смена привычной иерархии целей и средств. Техника не является банальной системой средств. Человек, его дух и культура, самостоятельно избрали ее. Человечество стремилось к исследованию, а затем к освоению и порабощению природы, для чего и начало развитие в техническом ключе. Созданию техники предшествует волевое человеческое решение, которым определяется дальнейшее место техники в исторической ситуации. Техника не является ценностнонейтральной, ее цель определена человеком с самого начала, а технический прогресс – не хаотичный процесс, не поддающийся человеческой власти [13].
Фрайер фиксирует проблемное место в современной технике. Несмотря на то, что она является формой человеческой культуры, сегодня она разделена с жизнью народа, на службу которому должна быть поставлена. К такому состоянию техники привело забвение идеи национального государства, эпоха классового общества. Это способствовало разрыву техники и воли народов. Человек утрачивает связь с народом, а потому и связь с техникой, начинает мыслить ее как противоположную культуре форму. Современная техника не осмысляется людьми как основа нынешней культуры. При этом достижение такой техникой своего совершенства без должного осмысления ее человеком приведет культуру к краху под гнетом цивилизации, где средства станут господствовать над людьми [8]. Фрайер отмечает: «...Остается ... подлинно философско-исторический вопрос в отношении техники: или контроль над ее развитием безнадежно утрачен, или остается шанс интегрировать ее в жизненную тотальность европейских народов. Иными словами, возможен ли такой рабочий порядок, такое устройство общества, такая политическая система, которые бы создали живое ядро для системы техники» [13, с. 78].
В работе «Революция справа» (1931) Фрайер проясняет идею жизни народа и отдельного человека внутри народа, а также понимание техники с точки зрения политических народных интенций. Фрайер пишет о том, что «революция слева» более не является актуальным способом преобразования мира. Буржуазное общество понимается как набор различных интересов и голосов, за нескладным гулом которых ничего не слышно. В таком обществе нет единой идеи и государства. Напротив, существует большое количество политических институтов, борющихся за власть. Государство становится нейтральным инструментом, в рамках которого люди решают свои вопросы за счет обращения к экономике и хозяйству. Человек же, тоже становящийся нейтральным, существует не для жизни, а для поддержания экономики. Однако он сопротивляется лишению его человечности, создается напряжение в виде борьбы угнетенных и угнетателей, пролетариата и буржуазии. Рабочий жаждет эмансипации, стремится добиться ее революционным путем. Это и есть «революция слева». Ей не удалось свершиться, т.к. буржуазия включает рабочего в собственный дискурс, наделяет его формальным признанием в качестве человека. Революция подменяется борьбой за права, рабочий не создает новый общественный порядок, но стремится к успешному функционированию в уже существующей ситуации. Таким образом, революция XIX в., «революция слева» сводится на нет [14, c. 27–49].
Однако за ней следует пока еще не свершившаяся революция XX в., «революция справа». Эта революция представляет не отдельный класс лю- дей, но народ как таковой. Народ не обладает отдельным общественным интересом, который можно было бы интегрировать в систему. Он противопоставляет себя ныне существующему порядку, противостоит классовому обществу и нейтрализации всех сфер общественной жизни. Каждый человек в народе – неисчислимое, не замыкающееся в рамках экономики, имеющее ценность само по себе. Народ понимает собственную уникальность по сравнению с иными народами. Если рабочий как тип одинаков в каждой стране, то народ отличен. Народ как субъектная сила возвращает государству субъектность и политичность. Государство теперь связано не с обществом, но с народом и его волей, которая едина, а потому слышима. Революция справа меняет привычный уклад мира, производит переоценку ценностей. Происходит эмансипация человека, он свободен внутри общей воли народа, творящей историю [14, c. 75–99].
Внутри народа формируется новое отношение к технике. Если ранее она понималась как средство угнетения, противоположная человеку сила, то отныне техника становится формой реализации народных целей, способствующей объединению земли и людей. Фрайер пишет: «После того, как народ созрел для технической жизни … преобразился смысл самой техники. Это уже не магическое средство принуждения в руках ее владельцев, но широкий пласт природы, кровеносная система духа и воли, проницающая землю и делающая ее единством человеческого мира» [14, c. 90]. Переход к народу как политической силе, которая интегрировала технику в собственную культуру, возможен исключительно благодаря господству. Через господство народ объединяется с государством, воля первого непосредственно выражается через последнее, а именно – через правителя. Техника становится средством политической власти. Политика всегда предшествует технике, т.к. она опирается на план, разрабатываемый через господство. Техническое освоение природы – не спонтанный процесс, а планируемое государством действие. Техника избирается как средство достижения целей народа, которые ставятся в истинной политике. В национальном государстве техника одновременно и приводится в активное действие, и сдерживается. В этом и состоит подлинное понимание техники как политического средства, обладающего историчностью. Техника находится не над человеком, не вне его. Техника, согласно Фрайеру, – пособница народа, государства, политики, ими же и контролируемая [8].
Заключение
Анализ вышеперечисленных подходов к феномену техники в рамках культуркритицизма убедительно продемонстрировал, что данное течение представляет собой относительно цельную систему взглядов. Техника в ней рассматривается в первую очередь как жизненная форма. Жизнь как категория анализа человеческого бытия, в т.ч. в связи с техникой, присутствует в трудах представителей данного течения в различных формах. Говорится здесь и о связи техники с культурой. При этом техника понимается как непосредственная часть культуры, захватывающая человека, но оставляющая пространство для интерпретации этого захвата. Классические культуркритицисты (Г. Зиммель, К. Ясперс) склонны считать, что в современном им мире человек так или иначе оказывается поглощен техникой. Однако сторонники «реакционного модернизма» (О. Шпенглер, Г. Фрайер) подчеркивают, что при слиянии человека с техникой последняя обращается на службу людям, помогает достичь поставленных человечеством целей.
Ключевыми при анализе техники с точки зрения критики культуры являются вопросы о связи техники и свободы, а также о возможном преодолении техники. Критика культуры задается вопросом о том, остается ли место для сохранения личной человеческой свободы в мире господства техники. Г. Зиммель и К. Ясперс полагают, что из-за поглощения техникой человек теряет себя и свою свободу, но способен преодолеть технический гнет за счет обращения к самому себе, к собственной жизни. Представители же «реакционного модернизма» склонны считать, что при правильном отношении к технике человек, напротив, получает возможность обрести свободу.
Таким образом, культуркритицизм представляет собой уникальный подход к осмыслению статуса техники и ее влияния на человеческую жизнь, соединяющий в себе разнообразные варианты ответа на «вопрос о технике». Сегодня, когда прогресс техники набирает все новые обороты, вопросы о том, что есть техника, как именно она влияет на человека и соотносится с ним, сохраняют актуальность. В этой связи критика культуры продолжает оставаться интересной оптикой для исследования сущности техники, в т.ч. и потому, что подчеркивает важность человека в разговоре о технике.