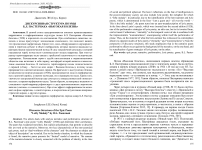Дискурсивная структура поэмы Б.Л. Пастернака "Высокая болезнь"
Автор: Ли Джонг Хн
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
В данной статье предпринимаются попытки проанализировать нарративные и перформативные структуры поэмы Б.Л. Пастернака «Высокая болезнь» (1928) и определить их соотношения. При ослабленных сюжетных цепочках в поэме присутствует эпизодизация излагаемого, что позволяет назвать это произведение нарративным. Кроме того, здесь обнаруживаются двумирность героя и герой как субъект и объект изображения, которые являются важными характеристиками неканонической поэмы. В силу пограничной ситуации, в которой оказывается герой, поэма носит «лиминальную» модель нарратива. При этом характер героя-нарратора тесно связан с проблемой идентичности в исторических переворотах. Размышления героя о судьбе интеллигенции в пореволюционном обществе еще включают в себя лирику, метафорой которой является словосочетание «высокая болезнь». В частности, герой-нарратор поэмы отождествляется с лирикой («Гощу. - Гостит во всех мирах / Высокая болезнь»), поэтому поэма превращается в автометаописание лирики. Во фрагменте о выступлении Ленина, вставленном во вторую редакцию (1928), просматривается одна из перформативных стратегий лирики, а именно одическая, но в перевернутом виде. Кроме того, «вечность» как временно́й вектор оды сочетается с импрессионистской «мимолетностью», сохраняя перформатив хвалы. Таким образом, на материале виденного и слышанного герой-нарратор рефлексирует о двух противоположных лирических началах («вечное» и «мимолетное»). При этом эффект перформативности возникает на фоне нарратива, с одной стороны, и посредством актуализации жанровых стратегий лирики, с другой стороны.
Поэма, нарратив, перформатив, лирика, жанр, б.л. пастернак
Короткий адрес: https://sciup.org/149127429
IDR: 149127429
Текст научной статьи Дискурсивная структура поэмы Б.Л. Пастернака "Высокая болезнь"
Поэма «Высокая болезнь», являющаяся первым опытом обращения Б.Л. Пастернака к революционной теме в эпическом жанре, была опубликована в первом номере журнала «ЛЕФ» за 1924 г. В том же году Ю. Тынянов в своей статье «Промежуток» высказался о поэме: «Его “Высокая болезнь” дает эпос, вне сюжета, как медленное раскачивание, медленное нарастание темы - и осознание ее к концу. <...> Эпос еще не вытанцевался...» [Тынянов 1977, 181]. Таким образом, попытка Пастернака написать «троянский эпос» пореволюционного времени была воспринята как неудачная.
Через четыре года в журнале «Новый мир» (1928, №11) были опубликованы «Две вставки в поэму “Высокая болезнь”» вместе с «Припиской к поэме “Город”» и стихотворением «Зимняя ночь» под общим названием «Три стихотворения». Эти вставки в поэму содержат описания быта военного коммунизма и фрагменты выступления Ленина на IX съезде Советов. Примечательно, что в отличие от первой редакции поэмы вторая получила положительные оценки от ряда критиков, в частности, в связи с образом Ленина [Сергеева-Клятис 2015, 12]. К примеру, на первом съезде Союза писателей 1934 г. Н.С. Тихонов хвалил последние строфы, посвященные речи Ленина, как «пока лучшие строки о нем, беглую, как пробег шаровой молнии, зарисовку слепящего мгновения» [Тихонов 1934, 505].
В 1931 г. главный редактор журнала «Новый мир» В.П. Полонский, обобщая творческий путь Пастернака двадцатых годов, указывает на стремление поэта к преодолению лиризма «личных чувств и переживаний»: «Насколько диктовка времени категорична и обязательна, можно видеть хотя бы по тому, что такой тонкий и личный лирик, как Борис Пастернак, <...> и тот преодолевает свой органический, индивидуалистический лиризм, обращается к поэтическому революционно-общественному материалу и создает вещи такого большого значения, как “Девятьсот пя-

тый год” и “Лейтенант Шмидт”» [Полонский 1931, 129]. Мысль Полонского, как отмечает А.Ю. Сергеева-Клятис, стала «главной в критических высказываниях о Пастернаке» [Сергеева-Клятис 2015, 9] как о старосветском лирике, несмотря на публикации его революционных эпосов. Однако нельзя упускать из виду, что редактор «Нового мира», требуя от советских поэтов «лирику революции <...> проникнутую общественными, классовыми мотивами» [Полонский 1931, 129], приводит в качестве примера эпические произведения Пастернака.
Здесь возникает вопрос: действительно ли во второй редакции поэмы, изобилующей «революционно-общественными материалами», был преодолен лиризм «страдающего лишь интересами своего изолированного “Я”» [Полонский 1931, 129]? Для разрешения этого вопроса в данной статье будут проанализированы дискурсивные структуры (нарратив и перформатив) поэмы. Такой подход раскрывает доминанту в эстетическом завершении произведения. Здесь речь идет о том, какой тип дискурса определяет художественное целое поэмы, которое не сводится только к революционно-историческим мотивам.
Для начала обратимся к характеристике жанра «поэма». Скорее всего, принято считать поэму «стихотворным жанром (здесь и далее курсив Н.Д. Тамарченко. - Дж.Л.), одной из средних форм эпики» [Тамарченко 2008 а, 180]. Иными словами, поэма является конгломерацией лирического и эпического, при этом отличающейся от эпопеи, лирики и романа. В частности, в романтическую эпоху усиливаются межродовые особенности поэмы, так что С.Н. Бройтман называет лиро-эпическую, «романтическую», «байроническую» поэму «неканонической», которая отличается от эпической поэмы, т.е. эпопеи [Бройтман 2001, 29]. Далее в XX в. появляются два основных типа неканонической поэмы: 1) лирическая поэма, в которой «в пределе может отсутствовать эпический сюжет, а объективированный герой трансформируется в лирическое “я”»; 2) лирический эпос, в котором «совершается выход в большое (историческое и метаисторическое) время и происходит грандиозное укрупнение и эпизация масштаба самого субъекта и предмета изображения» [Бройтман 2001, 30].
В неканонической поэме обнаруживаются такие временные, пространственные и сюжетные характеристики, как двумирность героя, незавершенное настоящее и одномоментная встреча героя с новым миром [см. Бройтман 2001, 32-35]. Развивая эти характеристики неканонической поэмы, Н.Д. Тамарченко выявляет ее структурные особенности: 1) доминирующая роль субъекта; 2) преобладание временного противопоставления действующих сил и реальностей; 3) двумирность героя и преодоление границ его кругозора; 4) акцентирование близости автора и героя; 5) взаимо-освещение и сбалансированное ценностное соотношение противоположных миров [см. Магомедова 2018, 12-13].
В этих исчерпывающих характеристиках поэмы намечаются два уровня определения жанра. Во-первых, поэма носит синкретический характер, который может выразиться словами О.М. Фрейденберг «петь - говорить
(singen - sagen)» [Фрейденберг 1978, 208]. На втором уровне различным образом реализуется конгломерация лирического и эпического в силу пространственно-временных структур, характера героя, сюжетных схем и т.д. По этой причине при изучении неканонической поэмы следует «говорить не об отказе от эпического, а о варьировании меры эпического и лирического начал, отходе от родовой чистоты и неосинкретических тенденциях (курсив С.Н. Бройтмана. - Дж.Л.)» [Бройтман 2001, 31].
С точки зрения вышеизложенных характеристик неканонической поэмы рассмотрим поэму Пастернака «Высокая болезнь». Скорее всего, в этом произведении обнаруживается нарративность, присущая эпическому жанру. Поэма состоит из следующих эпизодов: 1) революция и крушение Российской империи; 2) принижение лирики в пореволюционной ситуации; 3) Гражданская война и бешенство сыпного тифа; 4) разрушение и обеднение быта; 5) судьба интеллигента в советском обществе; 6) опыт присутствия поэта на Девятом съезде Советов; 7) резолюция об отделении японского рабочего класса от остальных жертв землетрясения; 8) побег императора Николая II и его отречение от престола; 9) выступление Ленина; 10) размышление о его роле в истории.
Однако, как отмечает Ю. Тынянов, перечисленные эпизоды «вне сюжета» [Тынянов 1977, 181], если мы имеем в виду сюжет, который отождествляется представителями формальной школы с повествованием событий [Тамарченко 2008 Ь, 258]. Восприятию сплоченных эпизодов по сквозному сюжету препятствуют два вида отступлений нарратора. Во-первых, размышления нарратора о себе, например, «Мы были музыкой во льду, / Я говорю про всю среду»; «Но я видал Девятый съезд»; «Проснись, поэт, и суй свой пропуск. / Здесь не в обычае зевать» [Пастернак 2003-2005, I, 253, 256, 258]. Во-вторых, подробное изображение деталей пореволюционного быта («Хотя, как прежде, потолок, / Служа опорой новой клети, / Тащил второй этаж на третий / И пятый на шестой волок» [Пастернак 2003-2005, I, 254]), которое напоминает такое же исчерпывающее описание рубца на ноге Одиссея из гомеровской эпопеи. Как указывает Э. Ауэрбах, «описание, придающее вещам законченность и наглядность, <...> свободное течение речи, действие, полностью происходящее на переднем плане» [Ауэрбах 1976, 44] составляют суть древнегреческой эпопеи. В частности, в поэме «Высокая болезнь» «память» эпопейного жанра просматривается уже в первой строфе: «Мелькает движущийся ребус, / Идет осада, идут дни, <...>/ Рождается троянский эпос» [Пастернак 2003-2005, I, 252]. Таким образом, в поэме преобладает не сюжетная линия, а, скорее всего, гомеровский тип эпопейного высказывания.
При ослабленных сюжетных цепочках в поэме, тем не менее, обнаруживается наррация. Если под «наррацией» понимается «эпизодизация излагаемого (курсив В.И. Тюпы. - Дж.Л.)» и «повествовательный эпизод создается <...> разрывом во времени, переносом в пространстве, сменой круга действующих лиц» [Тюпа 2016, 21], то в выше перечисленных эпизодах она присутствует. С этой точки зрения эпизоды в поэме обусловлены
следующим образом: 1) разрыв во времени (временные дистанция между Революцией и Гражданской войной и т.д.); 2) перенос в пространстве (от станции «Дно», где был Царь перед отречением, к Девятому съезду Советов); 3) смена круга действующих лиц (от обедневшего героя к восторженной аудитории на съезде).
Не менее интересно, что каждый эпизод пронизан кризисом идентичности и двумирностью героя. Он стоит на границе между дореволюционным интеллигентным миром и пореволюционным миром. Примечательно, что герой-нарратор называет себя гостем, не принадлежащим ни одному из двух миров: «Тупое слово - враг. / Гощу. - Гостит во всех мирах / Высокая болезнь. / Всю жизнь я быть хотел как все, / Но век в своей красе / Сильнее моего нытья / И хочет быть как я» [Пастернак 2003-2005,1, 256]. Здесь кризис идентичности героя происходит во временной зоне, что характерно для архитектонической структуры поэмы вообще.
В такой пограничной ситуации, в какой оказывается герой, возможны два последующих события: гибель героя или сбалансированное ценностное соотношение противоположных миров. Используя нарратологическую терминологию, последнее можно назвать «лиминальной» моделью развертывания событийной цепи [Тюпа 2016, 66], где происходит символическая смерть в качестве кульминационного звена. Однако в поэме Пастернака не ясно, происходит ли символическая смерть героя и приобщение к новому миру. Можно лишь сказать, что герой, находясь в настоящем, которое противостоит дореволюционному прошлому, постоянно испытывает внутренний конфликт двух миров.
В пастернаковской поэме герой, относящийся к новому миру амбивалентно, является одновременно и типичным для поэмы нарратором. Н.Д. Тамарченко отмечает, что «в новой поэме герой всегда - не только субъект изображения, но и его объект (выделено автором. - Дж.Л.)» [Магомедова 2018, 14]. Иными словами, герой является нарратором, изображающим одновременно и себя, и другие вещи. Можно сказать, что в герое-нарраторе неканонической поэмы совмещаются два разных субъекта: во-первых, по формуле М.М. Бахтина, «свидетель и судья», в сознании которого осмысливается происходящее; во-вторых, лирическое «я», которое осуществляет «вместо субъект-объектных отношений между автором и героем <...> отношения субъект-субъектные» [Бройтман 2003, 436].
Нарратор в «Высокой болезни» изображает опустошенный быт и обстановку после Революции, к примеру: «Сосущий клекот лихолетья, / Тот, жженный на огне газеты, / Смрад лавра и китайских сой» [Пастернак 2003-2005,1, 254]. По комментарию А. Сергеевой-Клятис и О. Лекманова, изображения в этих строках фотографически точны: «С лавровым листом травянистую соевую пищу варят, чтобы придать ей хоть какой-то вкус» [Сергеева-Клятис, Лекманов 2015, 54]. В поэме Пастернака имеется множество таких изображений быта, которые не столько нарративны, сколько итеративны.
Кроме того, фокализируются главные события, в которых очевидна роль нарратора как «свидетеля и судьи». В качестве примера можно привести строки «Но я видал Девятый съезд / Советов. В сумерки сырые <...>/ И помню, в самый день торжеств» [Пастернак 2003-2005,1, 256]. Союзом «но» подчеркивается событийность Девятого съезда Советов, который является «значимым уклонением от нормы» [Лотман 1973, 403], то есть от повседневного быта.
Еще интереснее следующий момент, когда нарратор передает обсуждаемые вопросы на заседании съезда: «Я трезво шел по трезвым рельсам, / Глядел кругом, и всё окрест / Смотрело полным погорельцем, / Отказываясь наотрез / Когда-нибудь подняться с рельс» [Пастернак 2003-2005, I, 256-257]. Здесь нарратор уподобляется «поезду или трамваю, идущему по рельсам; он оглядывает пространство вокруг себя, словно из окна вагона, и видит Москву, изуродованную разрухой, как пожаром 1812 г.» [Сергеева-Клятис, Лекманов 2015, 98]. Нарратор выступает свидетелем важнейшего политического события в Советской России не с обыкновенного ракурса, то есть извне, а изнутри. Такое направление взгляда субъекта характерно для лирического «я» Пастернака. Ракурс изнутри движущегося поезда обнаруживается и в строках из стихотворения «Сестра моя - жизнь и сегодня в разливе...»: «С матрацев глядят, не моя ли платформа, / И солнце, садясь, соболезнует мне. <...> / Под шторку несет обгорающей ночью / И рушится степь со ступенек к звезде» [Пастернак 2003-2005,1, 117].
Взгляд нарратора изнутри масштабного события связан с тем, что ге-рой-нарратор становится объектом наррации. Здесь идет речь о проблеме идентичности в исторических переворотах. Мы можем условно назвать это «автометаописанием». По мысли А. Сергеевой-Клятис и О. Лекмано-ва, в первой строке «Мелькает движущийся ребус» проглядывается указание на акт повествования, так как действительно в поэме слово «ребус» «местами <...> напоминает “заумь” соратников Пастернака по футуризму» [Сергеева-Клятис, Лекманов 2015, 36]. Кроме метатекстуального описания заслуживает внимания повторяющееся по ходу поэмы самоопределение героя-нарратора, к примеру: «Мы были музыкой во льду. / Я говорю про всю среду, / С которой я имел в виду / Сойти со сцены, и сойду» [Пастернак 2003-2005, I, 255-256]; «Мы были музыкою чашек, / Ушедших кушать чай во тьму / Глухих лесов, косых замашек / И тайн, не льстящих никому» [Пастернак 2003-2005, I, 256]. В частности, выражение «кушать чай» подчеркивает родственность героя-нарратора с дореволюционным миром [Сергеева-Клятис, Лекманов 2015, 88], так что автометаописание происходит и на уровне стилизации.
Не менее любопытно, что в строках «Гощу. - Гостит во всех мирах / Высокая болезнь» [Пастернак 2003-2005, I, 256] обнаруживается стык лирического «я» и «свидетеля». Посредством глагола «гостить» герой-нарратор как гость в пореволюционном обществе отождествляется с лирикой, метафорой которой является словосочетание «высокая болезнь» [Пастернак, Пастернак, 2003, 517]. Если в глаголе первого лица выступают субъект-субъектные отношения, то в глаголе третьего лица лирическое
«я», разделяющее общую судьбу с жанром лирики, подвергается объективизации. Иными словами, герой-нарратор как речевой субъект наблюдает себя через призму лирики, в результате чего целое произведение выступает автопрезентацией героя-нарратора. Такие неразделяемые отношения поэта с лирикой проглядываются в письме Пастернака С.Д. Спасскому от 29 сентября 1930 г: «Лирика сейчас редкостнейшая редкость и она сидит в Вас, сидит и болеет, потому что не болеть сейчас не может» [Пастернак 2003-2005, VIII, 451].
Выше перечисленные автометаописания носят характер перформативного высказывания. В.И. Тюпа противопоставляет нарратив перформативу следующим образом: «Коммуникативные действия такого рода (перформативы. - Дж.Л.) - в противоположность нарративным репрезентациям - являются речевыми автопрезентациями, поскольку субъект перформативного слова не свидетель событийного действия и не рассказчик о нем, а сам действователь» [Тюпа 2013, 114]. Если высказывание строится как репрезентация других вещей или событий, то оно остается нарративом. Однако в случаях автометаописаний у Пастернака субъект речи изображает себя, одновременно приводя изменения в своей речи. В строках «Гощу. - Гостит во всех мирах / Высокая болезнь» посредством сдвига грамматического лица глагола герой-нарратор поэмы предстал перед нами в качестве лирики, поэтому вся поэма превращается в металирическое произведение, для прочтения которого требуется иной подход.
В соответствии с метатекстуальным переключением, вставленный во вторую редакцию фрагмент о выступлении Ленина придает произведению особого рода художественное завершение, как очевидно в первой строке фрагмента: «Чем мне закончить мой отрывок?» [Пастернак 2003-2005, I, 259]. Далее герой-нарратор вспоминает о манере речи Ленина, но вскоре он превращается в лирическое «я», целью которого является хвала вождю. Итак, значимость этого фрагмента заключается, в частности, в том, что он позволяет указать на принадлежность поэмы к лирическому жанру.
Важно отметить, что в завершающих поэму двух строфах обнаруживается обыгрывание лирических жанров. В этом фрагменте, где герой-нарратор потрясен речью фигуры исторического масштаба, просматривается одна из перформативных стратегий лирики, а именно одическая, но в перевернутом виде. И.З. Серман справедливо усматривает в этом фрагменте «прочную опору на одическую классику XVIII века» [Серман 2015, 268], обращая внимание на такие общие места оды, как «шаровая молния» у Державина. Исследователь догадывается, почему Пастернак «в своих поэмах, написанных после “Высокой болезни”, <...> опирался <...> на поэтику прозаических жанров взамен “вытанцевавшегося” эпоса» [Серман 2015, 271]. Потому что «лирическому переживанию “годов лихолетья” оказалась созвучной “лирика” в старинном, идущем от XVIII века ее значении» [Серман 2015, 270-271], то есть «торжественная или похвальная ода».
Действительно во фрагменте о Ленине видится «вертикально-надвре- менная архитектоника вечного верха (курсив В.И. Тюпы. -ДжЛД» [Тюпа 2013, 126], характерная для оды, но она видоизменяется в некоторых моментах. Во-первых, вертикальный вектор здесь получает комическую окраску, позволяющую уподобить образ Ленина грибу Например, «все встали (здесь и далее выделено мной. - Дж.Л.) с мест, глазами втуне / Обшаривая крайний стол, / Как вдруг он вырос на трибуне / И вырос раньше, чем вошел» [Пастернак 2003-2005, I, 259]. Таким образом, как отмечает Л. Флейшман, «ленинский портрет у Пастернака шел вразрез <.. .> со всей традицией богатой уже тогда гимнологической литературы о вожде» [Флейшман 2006, 650].
Не менее интересно, что на фоне одической стратегии на передний план выходит «мимолетное»: «Мы помним / И памятники павшим чтим. / Но я о мимолетном. Что в нем / В тот миг связалось с ним одним?» [Пастернак 2003-2005, I, 259-260]. Важно понимать, что «вечное» и «мимолетное» не противоречат друг другу, но особым образом сочетаются в контексте поэтики Пастернака, о чем свидетельствует раннее стихотворение поэта «Гроза, моментальная навек». Своего рода «сочетание несочетаемого» проецируется на образ Ленина. Если в первой части фрагмента в образе вождя подчеркивается вертикальность, то во второй имеются образы, связанные с мимолетностью или неожиданностью: «выпад на рапире»; «Дышал полетом голой сути, / Прорвавшей глупый слой лузги» [Пастернак 2003-2005,1, 260]. Вождь изображается в импрессионистском духе, в силу чего важным является не столько содержание речи, сколько моментальное впечатление от него: «Слова могли быть о мазуте, / Но корпуса его изгиб / Дышал полетом голой сути, / Прорвавшей глупый слой лузги» [Пастернак 2003-2005,1, 260]. Импрессионистские зарисовки Ленина еще сочетаются с его историческим значением: «Когда он обращался к фактам, / То знал, что, полоща им рот / Его голосовым экстрактом, / Сквозь них история орет» [Пастернак 2003-2005, I, 260]. Итак, одический предмет реализуется не свойственным этому жанру способом, при этом сохраняется перформатив хвалы.
Таким образом, во фрагменте о Ленине обнаруживаются видоизменения оды. При этом герой поэмы является и нарратором-свидетелем, и лирическим «я». На материале виденного и слышанного он рефлексирует о согласии двух противоположных лирических начал: «вечное» и «мимолетное». Этому способствует свойственный поэме герой-нарратор, который является не только субъектом изображения, но и его объектом.
Однако упрощением было бы называть поэму Пастернака лиро-эпической, так как такое определение всего лишь констатирует конгломерацию лирического и эпического. Для выявления особенностей поэмы «Высокая болезнь» необходимо обратиться к тому, что здесь доминантой художественного целого выступает ценностное отношение лирика к историческим событиям. Если так, вопреки замечанию В.П. Полонского о том, что у Пастернака преодолевается лиризм, в его поэме мы наблюдаем определенную дискурсивную структуру, в которой преобладает перформативное

высказывание. Следует отметить, что здесь нарратив служит поводом для перформативного отношения к эпохальным событиям. При этом эффект перформативности возникает на фоне нарратива, с одной стороны, и посредством актуализации жанровых стратегий лирики - с другой стороны, что очевидно в последней части поэмы при обращении к фигуре Ленина.
Список литературы Дискурсивная структура поэмы Б.Л. Пастернака "Высокая болезнь"
- Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 1976.
- Бройтман С.Н. Неканоническая поэма в свете исторической поэтики // Поэтика русской литературы: К 70-летию профессора Юрия Владимировича Манна: Сборник статей / отв. ред. Н.Д. Тамарченко и др. М., 2001. С. 29-38.
- Бройтман С.Н. Лирика в историческом освещении // Теория литературы: в 4 т. Т. 3. Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении) / отв. ред. Л.И. Сазонова. М., 2003. С. 421-466.
- Лотман М.Ю. Структура художественного текста. М., 1973.
- Магомедова Д.М. Жанровая модель поэмы в работах Н.Д. Тамарченко // Память жанра как феномен единства и непрерывности литературного развития. Сборник научных трудов / ред.-сост. М.Н. Дарвин, О.В. Федунина. М., 2018. С. 10-17.
- Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. М., 2003-2005.
- Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. Комментарии // Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы 1912-1931. М., 2003. С. 421-564.
- Полонский В.П. Концы и начала: заметки о реконструктивном периоде советской литературы // Новый мир. 1931. № 1. С. 119-134.
- Сергеева-Клятис А.Ю. Рождение эпоса // Сергеева-Клятис А., Лекманов О. «Высокая болезнь» Бориса Пастернака: две редакции поэмы, комментарий. СПб., 2015. С. 6-15.
- Сергеева-Клятис А., Лекманов О. «Высокая болезнь» Бориса Пастернака: две редакции поэмы, комментарий. СПб., 2015.
- Серман И.З. «Высокая болезнь» и проблема эпоса в 1920-е годы // Серман И.З. Свободные размышления: Воспоминания, статьи. М., 2015. C. 254-272.
- (a) Тамарченко Н.Д. Поэма // Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий / под гл. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 180-182.
- (b) Тамарченко Н.Д. Сюжет // Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий / под гл. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 258.
- Тихонов Н.С. Доклад Н.С. Тихонова о ленинградских поэтах // Первый всесоюзный съезд Советских писателей. Стенографический отчет / ред. М.И. Самойлова. М., 1934. С. 504-512.
- Тынянов Ю.Н. Промежуток // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 168-195.
- Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М., 2013
- Тюпа В.И. Введение в сравнительную нарратологию. М., 2016.
- Флейшман Л. Пастернак и Ленин // Флейшман Л. От Пушкина к Пастернаку. М., 2006. С. 636-667.
- Фрейденберг О.М. Происхождение наррации // Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 206-229.