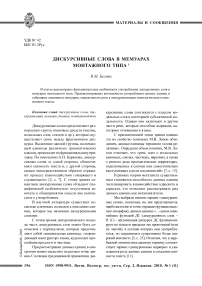Дискурсивные слова в мемуарах монтажного типа
Автор: Белова В.М.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 1 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены функциональные особенности употребления дискурсивных слов в мемуарах монтажного типа. Проанализированы возможности употребления данных единиц в субжанрах дневника и мемуаров, определена их роль в дискурсивизации монологического пись- менного текста.
Дискурсивные слова, дискурсивизация, мемуары, дневник, монтажный тип
Короткий адрес: https://sciup.org/14969444
IDR: 14969444 | УДК: 8142
Текст обзорной статьи Дискурсивные слова в мемуарах монтажного типа
Дискурсивные слова представляют разнородную группу языковых средств (частиц, модальных слов, союзов и др.), которые осуществляют связь между фрагментами дискурса. Выделение данной группы, включающей единицы различных грамматических классов, происходит по функциональному признаку. По замечанию А.Н. Баранова, дискурсивные слова «с одной стороны, обеспечивают связность текста и, с другой стороны, самым непосредственным образом отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего» [2, с. 7]. С точки зрения семантики дискурсивные слова обладают специфической особенностью: отсутствием денотата в общепринятом смысле вне контекстного употребления.
В научной литературе существует несколько ключевых подходов к описанию единиц, которые мы называем дискурсивными словами.
С точки зрения диахронического подхода часть дискурсивных слов может быть соотнесена с партикулами, которые представляют собой минимальные единицы, «порождающий конструктор» языка, куда входят простейшие предлоги и частицы.
При рассмотрении данных единиц в синхронии можно выделить несколько точек зрения. С позиции традиционной грамматики дис- курсивные слова соотносятся с классом модальных слов и категорией субъективной модальности. Однако они включают и другие части речи, которые способны выражать категорию отношения в языке.
С прагматической точки зрения именно это их свойство позволяет М.В. Ляпон объединить данные единицы термином «слова-ре-лятивы». Определяя объем понятия, М.В. Ляпон отмечает, что «речь идет о модальных единицах, союзах, частицах, наречиях, а также о разного рода прагматических корректорах, подключаемых к союзам или самостоятельно выступающих в роли соединителей» [7, с. 13].
В рамках теории метатекста существенным становится способность данных единиц эксплицировать взаимодействие адресанта и адресата, что позволяет рассматривать ряд данных единиц как метапоказатели.
Мы выбрали именно термин «дискурсивные слова», поскольку он, как представляется, наиболее полно и точно отражает функциональную специфику данных единиц: «…одна из важнейших функций ДС (дискурсивных слов. – В. Б. ) – организация дискурса. ДС функционируют не только в пределах тех пропозиций (или их частей), в составе которых они употребляются, но затрагивают существенно более широкий контекст» [5, с. 25]. Отметим, что в зарубежной лингвистике данному термину соответствует термин «дискурсивные маркеры» и указывается роль данных единиц в создании связности текста [11].
Изучение данных единиц, как правило, проводится на базе разговорной речи или художественных текстов. В статье специфика функционирования дискурсивных слов рассматривается на материале текстов, принадлежащих к жанру мемуаров: «Бегущая строка памяти» А.С. Демидовой и «Театр моей памяти» В.Б. Смехова. Выбранные тексты организованы по монтажному типу, поскольку представляют собой объединение нескольких жанров, «построенных по разным моделям, но подчиненных одной текстовой интенции» [8, с. 43]. В данном случае объединяются субжанры автобиографического семейства: письма, дневник и собственно мемуары. Не останавливаясь на всех субжанровых включениях, подробнее рассмотрим особенности функционирования дискурсивных слов в двух ключевых субжанрах – дневнике и мемуарах, определив зависимость дискурсивных единиц от конститутивных признаков жанра.
В собственно мемуарах дискурсивные слова выполняют несколько функций.
-
1. Дискурсивные слова эксплицируют конститутивные жанровые признаки мемуаров. Во-первых, они могут передавать авторские оценки, отражая яркую субъективность мемуаров. Автор мемуаров рефлексирует по поводу несовершенной работы памяти, подчеркивая это при помощи соответствующих дискурсивных слов. Так, одно из контекстных значений лексемы кажется – «плохо помню, могу ошибаться»: Николай Губенко объявил о сборе труппы на замечания по спектаклю. Кажется , это было после второго представления [9, с. 159]. Автор не полагается на память и не уверен, что сбор труппы был именно после второго представления. Кажется позволяет отразить процесс припоминания и попытку объективировать сообщаемое.
-
2. Дисконтинуальное повествование, свойственное мемуарному тексту, актуализирует роль дискурсивных слов в его интерпретации, в экспликации композиционно-смысловой организации. Дискурсивные слова, направляющие интерпретацию читателя, составляют отдельную группу, куда входят следующие лексемы: итак, словом, в общем, прежде всего и др. Все они подытоживают и упорядочивают сказанное, как, например, лексема словом у В. Смехова: Рядом ходили, сидели и беседовали Завадский, Нейгауз, Шостакович, Юткевич, писатели, ученые – словом , я попал в новую среду [там же, с. 96]. У А. Демидовой в этой функции выступает слово в общем : И я стала себя хранить (актеры – хитрые люди): то брала больничный, то делала вид, что куда-то уезжаю и т. д. В общем , «филонила» [4, с. 300]. Дискурсивные слова этой группы могут выделять значимый фрагмент текста, акцентируя на нем внимание читателя: Хороший актер прежде всего отличается гибкостью психического аппарата [там же, с. 245]. На эту особенность дискурсивных единиц обращают внимание зарубежные исследователи, считая, что дискурсивные маркеры – «естественные языковые средства, чья первичная функция – управлять процессом интерпретации, экспликации отношений связности между отрезка-
- ми дискурса и/или аспектами коммуникативной ситуации» [10, с. 132].
-
3. Еще одна функция дискурсивных слов – диалогизация текста. Дискурсивные слова употребляются в риторических вопросах: Может быть , и мы, актеры, работали, наконец, в полную силу, были точны и с лету хватали замечания режиссера? [9, с. 410]. Дискурсивное слово значит – «следовательно, стало быть, выходит» [8, с. 237] – закономерно используется в конструкциях с прямой речью при воспроизведении диалогов героев. В этих случаях главная роль таких единиц – имитация процесса живой речи: Я спросила: « Значит , я брала энергию у зрителя? » Они говорят : « Это взаимообмен» [4, с. 380]. В подобных контекстах значит в тексте А. Демидовой употребляется в 19,04 % случаев, у В. Смехова – в 21,87 %. Употребление лексемы значит близко к употреблению слова-паразита в разговорной речи.
Во-вторых, дискурсивные слова способны отражать сложную временную организацию мемуарного текста, которая проявляется в таких его свойствах, как ретроспективность, дисконтинуум, временные деформации и как следствие – ассоциативно-хронологический способ повествования: Некрасов дружил с Жанной, и Жанна этого щенка взяла себе. Так возникла Фенечка. Кстати , через много-много лет Фенечка спасла
Жанне жизнь. Однажды, когда она поздно вечером гуляла с собакой, Жанну сбила машина [4, с. 53]. Лексема кстати в данном примере нарушает хронологию авторского повествования, присоединяя по ассоциативному принципу еще одно проспективное воспоминание.
В-третьих, дискурсивные слова вводят новые микротемы и осуществляют связь между фрагментами текста. Часто подобную роль выполняют лексемы с противительной семантикой: однако , тем не менее , которые зачастую употребляются в инициальной позиции (более 50 % всех употреблений): Одну заповедь старательно повторял львовский тренер: лошадь – существо деликатное, если почует на себе пьяного – понесет. Мы тренера не расстраивали и кивали. Однако так получалось, что все мушкетеры бывали в седле обязательно навеселе [9, с. 354].
Дневниковый субжанр, который составляет в мемуарах А. Демидовой около 5 % всего текста, а у В. Смехова – 9 %, отличается рядом особенностей в использовании дискурсивных слов. В отрывках из дневников, включенных в тексты, преобладает информативная составляющая, то есть на первый план выходит именно фиксация событий, а не рефлексивное осмысление собственного «я».
Оба автора используют два основных способа интеграции фрагментов дневника. При первом из них дневник и мемуары соотносятся как комментируемое сообщение и комментарий. В качестве комментария, как правило, выступают мемуары, а в качестве комментируемого сообщения – отрывок из дневника. Возможность такого построения заложена в самой специфике дневника, который зачастую используется как фактологический источник для написания мемуаров. В этом случае дневник представляет безоценочную информацию, а комментарий, восстанавливая «первоначальную коммуникативную ситуацию непосредственного общения автора с читателем» [1, с. 264], предоставляет возможности для употребления дискурсивных слов.
При втором способе включения субжанра дневника в мемуарное повествование значительные по объему вставки из дневника представляют самостоятельные фрагменты текста, да- тированные записи за несколько дней, не получающие комментария в собственно мемуарах. Однако и при таком способе включения дневника дискурсивных единиц в нем меньше, чем в мемуарах. Это объясняется характером адресата дневника: дневник ориентирован на автокоммуникацию; дискурсивные слова, в свою очередь, нацелены на читателя, помогая ему интерпретировать текст. Адресат и адресант дневника совпадают, поскольку дневник – это текст для себя, и, следовательно, он не нуждается в дополнительных пояснениях.
Кроме того, дневник накладывает качественные ограничения на использование отдельных дискурсивных слов. Например, в нем практически отсутствуют дискурсивные слова, выполняющие в мемуарах связь проспективных и ретроспективных фрагментов, такие, как кстати , к слову и др. В то же время стабильно сохраняются дискурсивные слова, связанные с реализацией оценки достоверности/ недостоверности и композиционно-смысловой организации текста: Какая-то женщина делала пассы над его головой – он лежал. Видимо , у него болела голова [4, с. 309].
Подведем некоторые итоги. Дискурсивные слова – единицы, принципиально нуждающиеся во «внешнем» читателе, что подтверждается количественными различиями в употреблении данных единиц в субжанрах дневника и мемуаров. Дневник, ориентированный на автокоммуникацию, не нуждается в обилии дискурсивных средств.
В субжанре мемуаров дискурсивные слова используются в трех ключевых функциях. Во-первых, эксплицируют разнообразные конститутивные признаки жанра. Во-вторых, участвуют в диалогизации текста, создавая эффект разговорной речи. В-третьих, актуализируют взаимодействие с читателем. Роль дискурсивных слов сводится к приданию высказыванию-результату характеристик высказывания-процесса (по терминологии Э. Бенвениста [3]). Высказывание-процесс подразумевает реальную коммуникацию, дискретные и неповторимые акты речи – «я здесь и сейчас». В высказывании-результате дейктическая рамка «я здесь и сейчас» условна. В мемуарном тексте дискурсивные слова придают высказыванию-результату признаки процесса, осуществляя дис-курсивизацию (англ. «discursivisation» – букваль- но «перевод в дискурс») письменного монологического текста. Дискурсивизация, которую М.Я. Дымарский называет «попыткой вернуть нарратив от текста – к дискурсу» [6, с. 280], происходит при помощи ряда средств, и дискурсивные слова являются лишь одним из них.
Список литературы Дискурсивные слова в мемуарах монтажного типа
- Арнольд, И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность/И. В. Арнольд. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. -444 с.
- Баранов, А. Н. Путеводитель по дискурсив-ным словам русского языка/А. Н. Баранов, В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина. -М.: Помовский и партнеры, 1993. -208 с.
- Бенвенист, Э. Общая лингвистика/Э. Бен-венист. -М.: Эдиториал УРСС, 2002. -448 с.
- Демидова, А. С. Бегущая строка памяти/А. С. Демидова. -М.: АСТ, 2000. -510 с.
- Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания/под ред. К. Киселевой и Д. Пайара. -М.: Метатекст, 1998. -446 с.
- Дымарский, М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX-XX вв.)/М. Я. Дымарский. -М.: Эдиториал УРСС, 2001. -328 с.
- Ляпон, М. В. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии внутренних отношений/М. В. Ляпон. -М.: Наука, 1986. -199 с.
- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. -М.: Азъ, 1992. -960 с.
- Смехов, В. Б. Театр моей памяти/В. Б. Сме-хов. -М.: Вагриус, 2000. -448 с.
- Трошина, Н. Н. Лингвокультурологические проблемы теории текста: обзор по материалам публикации Уллы Фикс/Н. Н. Трошина//Реферативный журнал РАН ИНИОН. -2001. -№ 1. -С. 39-47.
- Risselada, R. Introduction: Discourse markers and coherence relations/R. Risselada, W. Spooren//Journal of Pragmatics. -1998. -№ 30. -Р. 131-133.