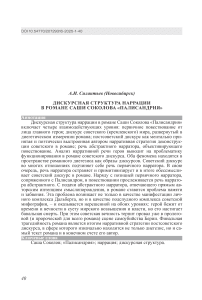Дискурсная структура наррации в романе Саши Соколова «Палисандрия»
Автор: Силантьев А.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Дискурсная структура наррации в романе Саши Соколова «Палисандрия» включает четыре взаимодействующих уровня: первичное повествование от лица главного героя; дискурс советского (кремлевского) мира, развернутый в диегетическом измерении романа; постсоветский дискурс как ментально принятая и поэтически выстроенная автором нарративная стратегия деконструкции советского в романе; речь абстрактного нарратора, объективирующего повествование. Анализ нарративной речи героя выводит на проблематику функционирования в романе советского дискурса. Оба феномена находятся в пространстве романного диегезиса как образы дискурсов. Советский дискурс во многих отношениях подчиняет себе речь первичного нарратора. В свою очередь, речь нарратора остраняет и примитивизирует и в итоге обессмысливает советский дискурс в романе. Наряду с позицией первичного нарратора, сопряженного с Палисандром, в повествовании прослеживается речь нарратора абстрактного. С подачи абстрактного нарратора, отвечающего прямым авторским интенциям смыслопорождения, в романе ставится проблема памяти и забвения. Эта проблема возникает не только в качестве манифестации личного комплекса Дальберга, но и в качестве подспудного комплекса советской мифографии, - и оказывается нерешенной на обоих уровнях: герой бежит от времени и вечности в суету мирского возвышения и власти, но его настигает банальная смерть. При этом советская вечность терпит провал уже в прологовой (и пророческой для всего романа) сцене самоубийства Берии. Финальная трагедийность романа является итогом нарративной стратегии постсоветского дискурса, в сфере которого изначально находится не только диегезис, но и самый текст романа и в конечном счете его автор
Саша соколов, «палисандрия», наррация, дискурсная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/149147794
IDR: 149147794 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-40
Текст научной статьи Дискурсная структура наррации в романе Саши Соколова «Палисандрия»
Дискурсная структура наррации в романе Саши Соколова «Палисандрия» включает четыре взаимодействующих уровня: первичное повествование от лица главного героя; дискурс советского (кремлевского) мира, развернутый в диегетическом измерении романа; постсоветский дискурс как ментально принятая и поэтически выстроенная автором нарративная стратегия деконструкции советского в романе; речь абстрактного нарратора, объективирующего повествование. Анализ нарративной речи героя выводит на проблематику функционирования в романе советского дискурса. Оба феномена находятся в пространстве романного диегезиса как образы дискурсов. Советский дискурс во многих отношениях подчиняет себе речь первичного нарратора. В свою очередь, речь нарратора остраняет и примитивизирует и в итоге обессмысливает советский дискурс в романе. Наряду с позицией первичного нарратора, сопряженного с Палисандром, в повествовании прослеживается речь наррато-ра абстрактного. С подачи абстрактного нарратора, отвечающего прямым авторским интенциям смыслопорождения, в романе ставится проблема памяти и забвения. Эта проблема возникает не только в качестве манифестации личного комплекса Дальберга, но и в качестве подспудного комплекса советской мифографии, – и оказывается нерешенной на обоих уровнях: герой бежит от времени и вечности в суету мирского возвышения и власти, но его настигает банальная смерть. При этом советская вечность терпит провал уже в пролого-вой (и пророческой для всего романа) сцене самоубийства Берии. Финальная трагедийность романа является итогом нарративной стратегии постсоветского дискурса, в сфере которого изначально находится не только диегезис, но и самый текст романа и в конечном счете его автор.
ючевые слова
Саша Соколов; «Палисандрия»; наррация; дискурсная структура.
A.I. Silantev (Novosibirsk)
DISCOURSE STRUCTURE OF NARRATION IN SASHA SOKOLOV’S NOVEL “PALISANDRIA”
bstract
A
The discourse structure of narration in Sasha Sokolov’s novel “Palisandria” includes four interacting levels: the primary narration on behalf of the protagonist, the discourse of the Soviet (Kremlin) world, deployed in the diegetic dimension of the novel, the post-Soviet discourse as a narrative strategy of deconstructing the Soviet in the novel, mentally accepted and poetically constructed by the author; the speech of an abstract narrator objectifying the narration. The analysis of the protagonist’s narrative speech leads to the problematic of functioning of the Soviet discourse in the novel. Both phenomena are located in the space of the novel’s diegesis as images of discourses. The Soviet discourse subordinates the speech of the primary narrator. In turn, the narrator’s speech defamiliarizes and primitivizes and ultimately makes meaningless the Soviet discourse in the novel. Along with the position of the primary narrator, associated with Palisandr, the speech of the abstract narrator can be traced in the narrative. With the submission of the abstract narrator, responding to the direct authorial intentions of meaning-experience, the problem of memory and oblivion is posed in the novel. This problem arises not only as a manifestation of Dalberg’s personal complex, but also as a latent complex of Soviet mythography, and it turns out to be unresolved on both levels: the hero flees from time and eternity into the vanity of elevation and power, but he is overtaken by a banal death. At the same time, Soviet eternity suffers a failure already in the prologue (and prophetic for the entire novel) scene of Beria’s suicide. The final tragic nature of the novel is the result of the narrative strategy of the post-Soviet discourse, in the sphere of which not only the diegesis, but also the text of the novel itself and, ultimately, its author are initially located.
ey words
Sasha Sokolov; “Palisandria”; narration; discourse structure.
Наррация в «Палисандрии» имеет сложную дискурсную структуру и включает следующие взаимодействующие уровни: собственно речь главного героя, выступающего в роли мемуариста, – нарратора от первого лица, субъективирующего повествование; дискурс советского, точнее кремлевского, мира, развернутый в диегетическом измерении романа и в формате нарративной фока-лизации героя-мемуариста; постсоветский дискурс как идеологически принятая и поэтически выстроенная автором нарративная стратегия деконструкции советского в романе; речь абстрактного нарратора, объективирующего повествование.
В аспекте анализа дискурсной структуры наррации романа мы, вслед за К.А. Ребриковой [Ребрикова 2017], делаем специальный акцент на моменте речи в противоположность языку. Дискурсы романа проявляются в тексте прежде всего в форме и в самом бытии речи, которая может быть ассоциирована с автором, с абстрактным нарратором, с конкретным (первичным) нарратором, которая обременена социокультурными и стилистическими фактурами и жанрами, а также коммуникативными интенциями, связанными с семио-эстетическими стратегиями произведения. Речь в таком предельно широком предметном и функциональном охвате результирует в художественном языке литературного произведения.
Палисандр в своих записках, выполненных в квази-мемуарном жанре, рассказывает о себе и своих похождениях от первого лица и в рамках прямой и наивной точки зрения. Многослойная ирония, которой насыщен роман, как правило, сопряжена с уровнями авторской позиции и мета-позиции постсоветского дискурса.
Наивная позиция Палисандра как рассказчика открывает широкие возможности для авторских внешних ракурсов в изображении героя, связанных в первую очередь с моментами его оценки, как эстетической, так и этической. Так, при предложении Палисандра Брикабракову следить за любовными похождениями Ш. (Шагане) Брикабраков картинно отвергает предложенный ему пакет с деньгами, а Палисандр не менее картинно бросает деньги в камин, и с позиции нарратора описывает эту сцену так: «обнявшись, мы потрясенно – так по последним инструкциям экскурсанты обязаны лицезреть разгорающийся над Эмском рассвет – смотрели, как пламя дошатывает купюры больших достоинств, и клялись в вечной дружбе. При этом я знал, а Оле ни на йоту не сомневался, что отвергнутые им деньги – фальшивы» [Соколов 2023, 399]. Нарциссизм Палисандра не позволяет ему критично отнестись к самому себе, но сквозь призму авторской оценки читатель вполне может оценить степень беспринципности героя и его визави (о нарциссизме героя см. в работе: [Жолковский 1994, 226–228]).
С позицией наивной фокализации нарратора связано и нанизывание деталей в описаниях романных сцен и ситуаций, в своей неразборчивости граничащее с шизофренической речью. Это приводит к расфокусированию наррации как таковой, о чем герою говорит его мифический рецензент В. Аксенов: «В Вашей прозе нет ничего конкретного. В ней все размыто и запредельно. Она похожа на цепь волшебных клубящихся облаков, и уследить, где кончается то и начинается сё, особенно в эротических сценах, почти немыслимо» [Соколов 2023, 535].
Характеристики нарративной речи Палисандра-мемуариста выводят на проблематику функционирования в романе советского дискурса, зафиксированного нами в качестве второго уровня дискурсной структуры наррации в романе. Оба феномена, будучи исходными и полноценными творениями автора, целиком остаются в пространстве романного диегезиса как образы дискурсов. При этом советский дискурс обнимает и во многих отношениях подчиняет себе речь первичного нарратора. В свою очередь, речь нарратора в существенной мере остраняет и примитивизирует и в итоге обессмысливает советский дискурс, прежде всего своей невоздержанностью и чрезмерностью. В результате в романе возникает своеобразный концептуально-стилевой синтез нарративной речи героя и советского дискурса: это автоматизированный стиль, обилие клише, вербальная и эмотивная избыточность (которые О. Матич связывает с барочной поэтикой [Матич 2017, 310]), высокая степень бессодержательности, обилие плеоназмов, наконец, прямое пустословие и декларируемая графомания, – но вместе с тем предельная символичность и идеологичность. Даже столь характерный для героя романа нарциссизм не является самодостаточным, но характерно отвечает нарциссизму советского дискурса (вспомним идеологические слоганы ушедшей эпохи: «Наше, советское – лучше!» и т.п.).
Нарциссизм и тотальная графомания приводят героя к языковому безудер-жью, своего рода языковому раблезианству (о раблезианстве Палисандра в общем плане см. в работе: [Савельзон 2008]). Как нарратор, Палисандр выстраивает свою стилевую позицию в отталкивании от нулевой точки отсутствия стиля и специально искривляет свою нарративную оптику. Соответственно, графомания Палисандра порождает, с одной стороны, изощренное витийство, с другой – косноязычие, нередко приводящее к прямому распаду языка нарратора. При этом оба речевых вектора и полюса графомании Палисандра проникнуты прямым лексическим и косвенным символическим воздействием советского дискурса и его архаичных предшественников из жанрово-стилевого репертуара русской церковной и придворной панегирической словесности, повсеместно присутствующих в дискурсной стихии романа и в то же время девальвированных постсоветской нарративной стратегией, деконструирующей советское в романе посредством тотальной авторской иронии.
Обратим внимание на важную оговорку в витийственной речи героя-нар-ратора: «Явившись на свет в семье потомственных руконаложников, а говоря без ужимок – самоубийц, я годам к десятидвенадцати впадаю в сплошное сиротство, нарушаемое лишь визитами опекунов, чьим вниманием дорожу все менее и забот которых все более убегаю» [Соколов 2023, 294] (курсив наш – А.С. ). «Говоря без ужимок» – эта оговорка важна в плане столкновений и конфликтов, внутренних противоречий не только в сюжете, но и в самой сложно построенной нарративной речи романа. Моральный конфликт, который несет в своей душе герой, проникает существенно и принципиально глубже, в стилистический и – более широко – в дискурсивный образ нарратора. Обратное говорить с ужимками – это тотальное риторическое кредо нарратора. Мы встречаемся здесь, по существу вопроса, с витийством в духе ущербных персонажей романов Достоевского вроде графомана Фомы Опискина. Текст «Палисандрии» насыщен возвышенным говорением – но от лица, не наделенного общественным и личностным статусом и стилистической санкцией говорить возвышенно, а значит, от лица подлого, в первичном смысле этого слова, подлого – в смысле подложного, а также ложного. И, что совершенно логично, – внука «виднейшего сибирского прелюбодея», родившегося в «семье потомственных руконаложников» и в юности совращенного, чтобы впоследствии распространить свой генерализованный грех. Великий грешник, по «Палисандрии», – это великоречивый грешник, проходящий через все стадии морального (развратник), физического (гермафродит) и языкового (повествование в среднем роде) падения и уродства в финальной части романа.
Велеречивое витийство, фальшивое, источенное наследственным и продолженным грехом изнутри, перебивается редкими порывами и попытками героя говорить «без ужимок» и нередко сбивается в моральную сферу покаянного дискурса, о чем пишет Е.М. Тюленева: «В полифонии дискурсов, формирующей текст “Палисандрии” Саши Соколова и репрезентирующей полиморфного нарратора – Палисандра Дальберга, одним из дискурсов-голосов оказывается покаяние» [Тюленева 2022, 49].
Нарочито уродливая речь нарратора «Палисандрии» приводит его к дискурсивной позиции юродивого . Так, в беседе с Андроповым Палисандр играючи, но в то же время и всерьез переходит в дискурсный регистр шутейных прибауток: «Нянчилинянчили, холилихолили – ну и пристрастили, лукавицы, сироту. Шить ли, вязать ли, подштопать ли что – все умею» и т.д. [Соколов 2023, 477]. Крайне показательна реакция собеседника: «А чего это вы притчами изъясняетесь? – заметил Андропов. – Что ли, в юроды записались?» [Соколов 2023, 477].
Именно «в юроды» Палисандр и записался по жизни. Его язык, его ви́де-ние – это язык и зрение юродивого. В этом своеобразном прессе наложенного на себя рече-стилевого и, глубже, языкового уродства заключается один из ключей к пониманию смысла Палисандра как субъекта дискурса и как эстетической фигуры – он юродивый, потому что он уродец.
Однако не следует сводить феномен уродства / юродства Палисандра и его речи только к аспектам его сюжетной персонализации. Витийственное косноязычие героя, если смотреть на этот феномен сквозь ироническую призму автора, следует воспринимать как уродующую пародию на возвышенный стиль советского дискурса.
Проблема графомании Палисандра в поэтике и риторике романа носит глобальный характер. Это не просто стилистическая и психологическая черта героя, а дискурсный облик и образ романа в целом, и поэтому она есть творение автора, а не просто некоторое самодостаточное свойство его героя. Это своего рода оболочка, внутри которой возможно все – фантазмы, гротеск, сюрреализм и какие угодно иные средства деконструкции советского. Именно поэтому следующая эманация графомании первичного нарратора с прямой подачи автора выходит уже за грани стиля – но не языка в его символических аспектах – и разрастается в тексте романа пышным цветком порнографического сюжета. Об этом свидетельствует сам герой: «…соболезнуя нездоровому интересу читающей публики к интригующим и фривольным названиям, мы вынесли на обложку одно из них: “Инцест кремлевского графомана”» [Соколов 2023, 569]. Как пишет К.А. Ребри-кова, «трансгрессия смыслов становится в “Палисандрии” не просто ведущим, а организующим принципом, к которому Соколов присоединяет низовое / телесное / порождающее начало» [Ребрикова 2019, 182]. По существу, в «Палисан-дрии» в системе символических смыслов романа графомания героя и его порнография выступают взаимосвязанными началами похоти как таковой и вместе сливаются в едином порыве порнографомании и стилесмешения , чему автор отвечает своей мета-стратегией построения текста как смешения дискурсов.
Графомания Палисандра неожиданно и в то же время закономерно сочетается с одним из ключевых принципов авторского формирования самой стихии прозы романа – принципом орнаментализма. В этом сочетании нет противоречия, поскольку Палисандр – это литературный герой, но лишь в малой (необходимой, но не достаточной) степени антропоморфный. Это персонаж гротескный, сюрреалистичный и в итоге парадоксальный. И по-своему трагичный, поскольку на протяжении всей своей романной жизни и судьбы пытается обрести целостность, не данную ему и поэтому несуществующую:
…однажды наступит час, когда все многократно воспроизведенные дежавю со всеми их вариациями сольются за глубиной перспективы в единое ужебыло . И я не смогу себе дать отчета, в каком из бытий моих я бегу вот сейчас, вот сию минуту, и что такое сия минута, и к чему здесь эти бегонии, и при чем тут – а если при чем, то кто – кто этот некто, обозначаемый, с Вашего позволения, буквой я » [Соколов 2023, 544] (курсив автора «Палисандрии»).
Обратной стороной экзистенциальной нецелостности героя становится его нечеловеческая всеядность не только в любовных похождениях, но и в пространстве дискурсов и языка как такового. Палисандр раблезиански неразборчив в своем языке, его личный дискурс показательно разбросан, анормален и временами отвратителен, но это бесстыдство не только человека, а самого языка. И в этой черте героя как речевого субъекта сосредоточен ниспосланный автором мощный заряд постсоветской языковой критики развенчания и разрушения советского языка в его сталинской ампирной помпезности и чрезмерной нормированности и правильности. Можно сказать, что письмом Палисандра вещает разрушительная стихия самого языка, восставшего против советского языкового порядка, причем дирижером этого действа является, конечно, автор.
Столкновение и смешение иронического от автора и серьезного (вплоть до пафосно-героического) от первичного нарратора приводит к стилистическому макаронизму и бриколажу текста романа. Это в целом отвечает мета-иронической нарративной стратегии постсоветского дискурса, как он явлен в романе в аспекте тотальной авторской позиции.
Общим вопросам стилистики интертекстуального бриколажа «Пали-сандрии» Саши Соколова посвящена развернутая работа А.К. Жолковского «Стилистические корни “Палисандрии”» [Zholkovsky 1987; см. авторский перевод статьи в электронном источнике]. Макаронизмы пронизывают текст романа не только на уровне его лексики. Прямая и наивная, с элементами шизофренического дискурса, наррация Палисандра приводит к высшей степени субъективации и мифологизации диегетического мира романа, в итоге также обретающего беспорядочный, макаронический характер. Мы видим неестественное сцепление и рядоположение несоположимых деталей, насилие над здравосмысленным порядком всего и вся. Референциальный мир в романе оказывается принципиально перемешанным, парадигмы нелепо растянуты в синтагмы, катастрофически теряющие первоначальные, предзаданные советские смыслы и пресуппозиции. Как пишет Ю.В. Шатин, «в художественном языке Саши Соколова парадигма никогда не достигает устойчивости, но всякий раз демонстрирует способ своего разрушения синтагмой» [Шатин 2013, 202]. Это происходит в романе как тотальном высказывании помимо главного героя, помимо нарратора, помимо, в конце концов, его автора. Перед нами само обессмысливающее, деконструирующее начало постсоветского дискурса, каким он явлен и существует в идеальном и вневременном пространстве языковых и ментальных возможностей мира смыслов и коммуникаций. В этом заключается нарративная стратегия постсоветского дискурса в романе, к характеристике которого мы переходим.
Собственно, пост советский (или вне советский – но не анти советский!) дискурс применительно к роману мы можем определить как идеологически (ментально) принятую и поэтически выстроенную автором стратегию нарративной деконструкции советского в романе.
Само советское при этом в полной мере высвечивается в произведении именно в рамках нарративной стратегии постсоветского дискурса. Как пишет А.К. Жолковский, «…доминанту “Палисандрии” можно определить как смену советской идеологической непримиримости всеприемлющим постмодерным эстетизмом» [Zholkovsky 1987]. На фоне пародийных, саркастических, гротескных, сюрреалистических и других деконструирующих эффектов читатель может реконструировать исходные денотатативные и референциальные очертания советского мира, стоящего за непосредственным действием в романе.
Нарративная стратегия постсоветского дискурса в романе смещается от иронии и пародии к гротеску и сарказму. Так, история о создании кремлевского публичного дома в монастыре является ошеломительным гротеском в отношении советского. Следует, однако, уточнить, что все советское в романе является таковым по своей внутренней сути, по духу, но в референциальном плане это, конечно, советское вымышленное, или квази-советское. При этом в измерении романного вымысла советская предметность чревата эстетическим отношением к ней, она вымышлена автором именно для того, чтобы стать объектом гротеска. «В абсурдную игру с историческими фактами вовлекаются не только реально существовавшие люди, но и вещи, которые, попадая в историческое пространство, порождают новые истории» [Шатин 2003, 75] (см. также: [Белова 2021, 66–67]).
Еще более радикальным инструментом постсоветского дискурса в аспекте нарративной деконструкции выступает анекдотизация диегетического мира романа, влекущая за собой явление субъективации истории и трансформации ее в эго-историю Палисандра, в том значении термина, который используется в монографии [История в эго-документах… 2014]. Анекдотизация советского в романе означает его перевод в категорию частного обращения, частной жизни героя. Подчеркнем при этом, что анекдотизация не совпадает с позицией первичного нарратора – он вполне наивен в нарративной передаче и характеристиках диегетического мира.
Анекдотизации сопутствует еще один мощный инструмент деконструкции советского – его абсурдизация. Как пишет Ю.В. Шатин, сравнивая семиотические структуры «Палисандрии» и сталинского «Краткого курса ВКП(б), «“Палисандрия” Саши Соколова как по своей художественной структуре, так и по коммуникативной функции – своеобразный reductio ad absurdum, доведенная до логического предела (или точнее беспредела) нарративных, хронотопи-ческих интенций “Краткого курса”» [Шатин 2003, 74] (о проблеме деконструкции советской истории в «Палисандрии» в аспекте жанра постмодернистского псевдоисторического романа см. также работу: [Ащеулова 2015]). В итоге дие-гетический мир романа оказывается насыщен иной мифологической реальностью – вполне реальной для нарратора в рамках его наивной фокализации, но ирреальной и абсурдной для читателя.
Не следует, однако, считать, что главный герой и нарратор «Палисандрии» в ауре своего наивного нарциссизма и безудержной похоти порнографомании лишен способности моральных переживаний. Но моральная проблема Палисандра лежит не в плоскости Бога и совести (что выступает жесткой авторской оценкой не только героя, но и всего мира советского), а в плоскости истории (в первую очередь эгоистически личной) и ее отражения в наррации сквозь призму времени и памяти. Проблема памяти и забвения – это не только манифестация личного комплекса Дальберга, она включена в концептуальную сферу постсоветского дискурса. Это манифестация подспудного комплекса всей советской не столько историографии, сколько мифографии. Советская мифоисто-рия замышлялась и монументально создавалась на века и навсегда – но сквозь помпезность сталинского ампира, сквозь велеречивые дифирамбы соцреализма сквозил страх забвения, страх смерти и конца советской вечности. Самое прологовое самоубийство Берии свидетельствует о провале проекта советской вечности. Парадоксально, но и показательно, что денщик Одеялов величает Палисандра «Вашей Вечностью» [Соколов 2023, 318], при том, что герой боится вечности: «Беспардонная, продувная, прожорливая бестия Вечности уж алкала себе новой жертвы, и соль хрустела под обувью, как на зубах» [Соколов 2023, 311]. Как пишет А.К. Жолковский, «роковой силой, меняющей все знаки нарциссизма на противоположные, является тема времени, систематически пародируемая в романе о Его Вечности Палисандре» [Жолковский 1994, 228].
Помимо персонифицированного первичного нарратора, сопряженного с Палисандром, в повествовании романа прослеживается речь нарратора аб- страктного, в противоположность Палисандру объективирующего повествование. Характерный образчик такой речи находим уже в Прологе, в развернутом описании города Эмска, открывшегося с кремлевской башни взору Берии [Соколов 2023, 289]. Фокализация данного описания предельно широка и принципиально не укладывается в рамки и объем точки зрения героя. Это случай прямого вторжения в текст точки зрения и самой речи абстрактного нарратора, сопряженной с орнаментальной манерой письма, заданной авторской поэтикой.
«Ход событий заметно ускорился. Эпоха летела на перекладных» [Соколов 2023, 420], – замечает нарратор в завершающей части романа, и в этом скупом сообщении совмещаются персональная речевая позиция Палисандра, сопряженная с инстанцией первичного нарратора, и позиция абстрактного нарратора, за которой стоит рефлексия автора. Романная история (story) вбирает в себя кремлевскую историю (history). Совмещение нарративных позиций обременяется, с одной стороны, рефлексией героя, с другой стороны, иронией, происходящей, очевидно, от автора:
…когда, сминая бегонии луга, бегу я, взволнованно помолодевший, ему [кабриолету Мажорет – А.С .] навстречу, со мною случается ужебыло – очередной его приступ. Писатель использует здесь прием аппликации. Он берет картину моего моментального озарения и накладывает ее на перспективу пространств и времен [Соколов 2023, 541] (курсив автора «Палисандрии»).
Таким образом, с подачи абстрактного нарратора, отвечающего прямым авторским интенциям смыслопорождения, в романе – в пределах ментального кругозора его героя – ставится проблема памяти и забвения. Эта проблема возникает не только в качестве манифестации личного комплекса Дальберга, но и в качестве подспудного комплекса всей советской мифографии, – и оказывается нерешенной на обоих уровнях: герой бежит от времени и вечности в суету мирского возвышения и власти, но его настигает банальная смерть. При этом советская вечность терпит провал уже в прологовой (и пророческой для всего романа) сцене реального и вместе с тем глубоко символического самоубийства Берии. Финальная трагедийность романа является итогом нарративной стратегии постсоветского дискурса, в сфере которого изначально находится не только диегезис, но и самый текст романа и в конечном счете его автор.