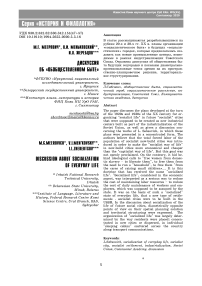Дискуссия об «обобществленном быте»
Автор: М.Г. Меерович, В.И. Меньковский, И.Л. Жеребцов
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Статья в выпуске: 5 (45), 2020 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/149129528
IDR: 149129528
Текст статьи Дискуссия об «обобществленном быте»
Светлой памяти Марка Мееровича
В статье, над которой авторы начали работать в 2018 г. и завершение которой надолго задержалось из-за скоропостижной смерти ее основного автора, замечательного ученого М.Г.Мееровича, рассматриваются разрабатывавшиеся на рубеже 20-х и 30-х гг. ХХ в. планы организации «социалистического быта» в будущих «социалистических» городах, которые предполагалось создавать как новые промышленные центры, возводимые в рамках индустриализации Советского Союза, а также дискуссия относительно работ Л.Сабсовича, в которых в концентрированном виде излагались эти планы. Авторы считают, что тотальная принудительная трудообязанность населения социалистических городов-новостроек вводилась для того, чтобы сделать «социалистический быт» в городах-новостройках более экономным, более дешевым, чем «быт капиталистический». Но эта цель не провозглашалась открыто. Наоборот, она пряталась за идеологическими призывами «освободить женщину от домашнего рабства – раскрепостить ее», освободить от необходимости вести «домашнее хозяйство», освободить «от забот по воспитанию маленьких детей»… Именно эта доктрина и получила наименование «обобществленный быт». «Обобществленный быт», рассматриваемый в экономической плоскости, трактовался как серьезный способ уменьшения расходов на содержание трудовых ресурсов – удешевить расходы на повседневное содержание рабочих и служащих, которые, предполагалось, возьмет на себя государство. Именно на основе подобного «обобществленного» государством повседневного быта, должны были строиться поселения нового типа в СССР – соцгорода. В дискуссии об обобществлении быта будущих соцгородов были высказаны диаметрально противоположные точки зрения на их пространственно-планировочное решение, территориальное структурирование. Организация «обобществленного быта» во многом определялась способом размещения жителей: концентрировано в новых городах или рассредоточено в индивидуальных «кабинах для сна», разбросанных по территории страны вдоль транспортных коммуникаций.
7 ноября 1928 г. в «Торгово-промышленной газете» появилась статья Леонида Сабсовича «Через 2530 лет после Октября» [1]. В ней он как сотрудник Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) обосновывал позицию этого государственного супер-ор-гана, руководившего развитием всех отраслей производства, энергетики и транспорта, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным производством. Начиная с декабря 1927 г. ВСНХ под руководством В.В. Куйбышева, в противостоянии с вариантом Госплана, разрабатывал свой собственный очередной план первой пятилетки.
Основной целью этого плана было приоритетное развитие тяжелой промышленности. Реали- зуя позицию Сталина по ускоренному формированию военно-промышленного комплекса, ВСНХ намечал наиболее высокие темпы для черной, цветной металлургии, машиностроения, химической и строительной отраслей. В плане ВСНХ показатели роста тяжелой промышленности были непропорционально завышенные в сравнении с темпами развития других отраслей: легкой, мелкой местной, кустарной, ремесленной.
Госплан не соглашался с ВСНХ, доказывая, что его план, перетягивая ресурсы страны в пользу тяжелой промышленности, ущемляет и сдерживает развитие других отраслей производства и это с неизбежностью приведет к дефициту продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, материалов для гражданского строительства, предметов повседневного пользования и проч. [1]. Несмотря на все возражения специалистов, политиков и отдельных представителей руководства страной, ноябрьский (1928 г.) Пленум ЦК ВКП(б) предписал увеличить показатели первого пятилетнего плана. Не согласный с этим Госплан для поддержки своей позиции в разработке сбалансированного пятилетнего плана созвал V съезд президиумов Госпланов, который проходил с 7 по 14 марта 1929 г. В целом съезд высоко оценил работу Госплана, признав его вариант научно и экономически обоснованным.
Книга Л. Сабсовича под названием «Советский Союз через 15 лет», рисовавшая радужные перспективы воплощения плана ВСНХ, была опубликована в марте 1929 г. Скорее всего, ее издание было специально приурочено к съезду президиумов Госпланов, как «визуализация» аргументов в пользу позиции ВСНХ.
29 апреля 1929 г. состоялась XVI партконференция, которая под названием «Пятилетний народнохозяйственный план на период 1928/29–1932/33 гг.» утвердила сталинский план «ускоренной» индустриализации, названный «оптимальным» [1]. А в августе 1929 г., после доклада В. Куйбышева на Президиуме ВСНХ СССР, план был еще раз пересмотрен в сторону повышения.
Публицистическая деятельность Л. Сабсови-ча всецело предопределялась его причастностью к ВСНХ и была напрямую связана с борьбой И. Сталина за интенсификацию планов пятилетки. В частности, книга «Советский Союз через 15 лет» опубликована в самый разгар борьбы между сталинской группой в Политбюро и «правой оппозицией», т. е. группой Рыкова и, безусловно, усиливала позицию В. Куйбышева, а тем самым И. Сталина и стоявшей за ним группы членов Политбюро.
В частности, именно этим можно объяснить то, что почти сразу в том же 1929 г., вслед за первым изданием книги, последовали еще два, причем все более увеличивавшимся тиражом: 13 тыс., а затем и 30 тыс. экземпляров. В том же 1929 г. вышла книга Л. Сабсовича «Города будущего и организация социалистического быта», которая являлась докладом, сделанным Л. Сабсовичем 11 июля 1929 г. на заседании индустриально-технической и социально-культурной секции ВАРНИТСО (Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству) [2]. В 1930 г. появляются еще две книги – «Советский Союз через 10 лет» и «Социалистические города», в которых автор рисует фантастическую картину будущего процветания Советского Союза при условии выполнения сталинских планов ускоренной индустриализации.
Л. Сабсович не был архитектором, он был экономистом, и как экономист проектировал такие процессы формирования поселений, которые обеспечивали минимизацию расходов по возведению и эксплуатации, давали бы как можно б́ольшую экономию затрат на размещение и обеспечение трудовых ресурсов всем необходимым. Он предлагал принять оптимальную численность населения таких городов-новостроек в количестве 50 тыс. чел., выводя эти цифры из мощностей промышленных предприятий, запланированных к строительству в первой пятилетке. Забегая вперед, следует заметить, что постоянное увеличение плановых показателей развития тяжелой промышленности, закладываемых в программу ускоряемой индустриализации, вызывало изменение расчетных предложений Л. Сабсовича, поскольку приводило к росту мощностей градообразующих предприятий, т.е. тех, для обслуживания которых трудовыми ресурсами и возводились поселения-новостройки. Как следствие, это приводило к стремительному стихийному росту потребности возводимых фабрик и заводов в количестве рабочей силы, повсеместно превращая рабочие поселки, первоначально запроектированные на 10–15 тыс. чел., и сабсовичевские «оптимальные» соцгорода, рассчитанные максимум на 50 тыс. чел., в бескрайние поля барачной застройки, вмещавшей 100–200–300 и более тысяч человек.
В условиях жесточайшего жилищного кризиса в стране, при котором обеспеченность населения жилищем оценивалась в 4–6 кв.м на человека, Л. Сабсович обещал увеличение роста жилого фонда в 20 раз за 15 лет. В качестве основного средства снижения затрат на повседневное существование рабочих и членов их семей он предлагал вводить повсеместное трудоиспользование всех работоспособных членов семьи – подростков, женщин. Поскольку «использование женщин наравне с мужчиной в качестве полного работника в общественно-обязательном труде» [3], включение их в обязательное трудоиспользование в качестве фабрично-заводских рабочих позволяло в два раза сократить нормативную численность жителей поселка. Например, если по расчету промышленному предприятию требовалось 5 тыс. рабочих-мужчин и соответственно нужно было построить 5 тыс. квартир для размещения их семей; то в том в случае, когда женщины включались в труд наравне с мужчинами, для заполнения рабочих мест на заводе требовалось 2500 рабочих мужчин, потому что остальными 2500 работниками становились их жены. Получалось, что для той же общей расчетной численности рабочих нужно было возводить в два раза меньше квартир. Как следствие, подобное решение позволяло в общегосударственном масштабе почти вдвое сократить средства, направляемые на жилищное строительство.
Эти расчеты не были мечтательной фантазией сотрудника ВСНХ. Они явились прямым следствием серии решений руководства СССР о всеобщем трудоиспользовании населения. Так, 15 июня 1929 г. вышло постановление ЦК ВКП (б) «Об очередных задачах партии по работе среди работниц и крестьянок», которое предписывало в общегосударственном масштабе обязательное включение женского труда в реализацию программы индустриализации. Причем в тех отраслях, в которых ранее женский труд не использовался: «При проведении плана применения женской рабочей силы ЦК предлагает исходить из: а) Увеличения применения женского труда в тяжелой индустрии, особенно в механических цехах и машиностроении и в тех отраслях промышленности, где женский труд применяется недостаточно, но где он себя вполне оправдывает (деревообделочная, кожевенная и т. д.); <…> в) Максимального заполнения женским трудом швейной, бумажной, пищевкусовой, текстильной, химической промышленности; г) Максимального расширения применения женского труда в торговом и советском аппаратах и на транспорте (кондуктора, вожатые, шоферы и т. д.); д) Расширения применения постоянного труда с.-х. работниц и батрачек в совхозах и плантациях …»[4]. Тотальное вовлечение женской части трудоспособного населения в реализацию программы индустриализации выдвигало задачу освободить ее от необходимости растить и воспитывать детей. Отсюда романтичные повествования Сабсовича о том счастливом времяпрепровождении, которое дети обретут в круглосуточных детских комбинатах – «домах ребенка».
Тотальная принудительная трудообязанность населения соцгородов-новостроек вводилась для того, чтобы сделать «социалистический быт» в городах-новостройках более экономным, более дешевым, чем «быт капиталистический». Но эта цель не провозглашалась открыто. Наоборот, она пряталась за идеологическими призывами «освободить женщину от домашнего рабства – раскрепостить ее», освободить от необходимости вести «домашнее хозяйство», освободить «от забот по воспитанию маленьких детей»… Именно эта доктрина и получила наименование «обобществленный быт».
Уничтожение индивидуального домашнего хозяйства, «освобождение» женщины от воспитания детей, отказ от домашнего питания и прочие концептуальные предложения влекли за собой требование замены всех традиционных функций нормального жилья новыми формами «общественного обслуживания потребностей трудящихся». Этот процесс маскировочно прикрывался идеологической пропагандой «нового образа жизни», призванного заменить старый – «мелкобуржуазный». Все функции городского образа жизни население должно было получать по месту работы или в городе: личная гигиена (душ и бани на производстве); приготовление пищи (приготовление пищи в государственных «фабриках-кухнях»); питание (получение еды в общественных городских столовых или столовых при предприятиях и советских учреждениях); культурные мероприятия (коллективные походы в театр, на выставки и демонстрации), клубные формы досуга, спорт, обрядность (спортивные соревнования среди заводских бригад, коллективное чтение газет и прослушивание радио, замена церковного венчания на комсомольские свадьбы, дореволюционных крестин – на советские «звездины» и «октябрины» и т.п.); воспитание детей до трудоспособного возраста (в специальных детских учреждениях) и проч. [3].
«Обобществленный быт», рассматриваемый в экономической плоскости, трактовался как серьезный способ уменьшения расходов на содержание трудовых ресурсов – удешевить расходы на повседневное содержание рабочих и служащих, которые, предполагалось, возьмет на себя государство. Именно на основе подобного «обобществленного» государством повседневного быта, должны были, по мнению Л. Сабсовича, строиться поселения нового типа в СССР - соцгорода: «В социалистических поселениях … полное обобществление питания почти совершенно уничтожит индивидуальное распределение пищевых товаров, которые в нынешней торговле занимают весьма важное место. Обобществление жилищ изымет из индивидуального распределения почти все предметы, относящиеся к группе мебельных товаров. Весьма вероятно, что в эту группу попадет и постельное белье, которое, как и мебель, будет являться принадлежностью комнат, предоставляемых трудящимся для жилья (как это делается в нынешних гостиницах или санаториях). Изъяты будут из индивидуального распределения и все посудные товары, которые будут являться принадлежностью общественных столовых. То же самое относится и к многочисленным предметам обихода, как-то: ведра, топоры, утюги, гвозди, лампы, дрова, керосин и т. п... Благодаря такому обобществлению быта, на долю индивидуального распределения останется сравнительно небольшое количество изделий промышленности, преимущественно готовая одежда, белье, обувь, мелкие предметы индивидуального обихода (галантерея и пр.), такие предметы, как фотографические аппараты, деликатесы и пр… государственный распределительный аппарат будет иметь целью обслуживание главным образом обобществленного удовлетворения потребностей населения социалистических поселений (снабжение всем необходимым жилых домов, фабрик, кухонь, столовых, библиотек и т .д.)» [3, с. 42–44].
«Обобществленный быт» в такой трактовке означал заведомый отказ от строительства квартирного жилья и замену его коммунальным, т. е. общежитиями, где ведение домашнего хозяйства и традиционная семейная жизнь становились невозможными [2].
Государственное изъятие функций повседневности, присущее капитализму (торговля, ремесленничество, предпринимательство в сфере услуг и сервисов, частный транспорт и проч.), и тотальная замена их государственным распределением тех «благ», которые руководство страной считало нужным предоставлять населению (с полным запретом производить все недостающее са- мостоятельно), составляли основу идеи «обобществленного быта».
«Обобществленный быт» был одной из мер экономии средств, затрачиваемых на содержание контингентов принудительного труда, сформированных из заключенных и вольной части трудовых ресурсов, используемых на стройках пятилетки, что позволяло перераспределять планируемые затраты, делая дополнительные вложения в промышленное строительство. Тексты, подобные книгам Л. Сабсовича, рисовавшие картины светлого будущего, были остро востребованы властью в качестве средства пропаганды как на внутреннем идеологическом пространстве, так и во внешнем. Именно поэтому в 1930 г. книга «Социалистические города» была переведена и издана в Париже на французском языке.
Публичные выступления, а также статьи и книги Л. Сабсовича, обосновывавшие необходимость перекоса программы индустриализации в сторону приоритетного развития тяжелой промышленности (военно-промышленного комплекса) и, соответственно, доказывавшие целесообразность принятия ускоренного плана ее реализации, именовавшегося «оптимальным», которую разрабатывал и продвигал к утверждению ВСНХ, вызвали ответную реакцию госплановских разработчиков, отстаивавших иной, сбалансированный план, именовавшийся «отправным».
Собственно Госплан и инициировал проведение рабочего совещания по обсуждению содержания книг, статей и выступлений Л. Сабсовича, прошедшее 26 октября 1929 г., которое можно считать началом широкомасштабной дискуссии о соц-расселении [5]. К этому обсуждению незамедлительно подключилась Коммунистическая академия ЦК ВКП (б) – прародительница современной Российской академии наук. В это время (и далее, вплоть до 1936 г.) Коммунистическая академия являлась главным государственным научным учебным органом по общественным и естественным наукам. Основана она была Декретом ВЦИК РСФСР от 25 июня 1918 г. под названием «Социалистическая академия общественных наук»; в апреле 1924 г. переименована в «Коммунистическую академию»; а со 2 февраля 1936 г. «в целях объединения в одном государственном научном центре ведущих деятелей науки», институты и сотрудники Комакадемии будут введены в состав Академии наук СССР [6].
По инициативе руководства Комакадемии 31 октября 1929 г. в ее помещениях прошло заседание, посвященное докладу М. Охитовича – главного оппонента Л. Сабсовича (доклад был сделан Охи-товичем здесь же – в Кооперативной секции Комака-демии 1 октября – за месяц до заседания 31 октября [7]). М. Охитович сотрудничал с Объединением современных архитекторов (ОСА) и поэтому свою «антисабсовичевскую» позицию зафиксировал, прежде всего, на страницах журнала «Современная архитектура», издававшегося ОСА, в статье «К проблеме города» [8]. Следующее заседание, посвященное дискуссии о соцрасселении, проходило также в стенах Комакадемии через несколько дней - 6 ноября 1929 г. [9]. А следующие два были проведены в Госплане СССР (26 и 29 ноября 1929 г.) [5], а затем еще два снова в Комакадемии (20 и 21 мая 1930 г.) [10].
Дискуссия не исчерпывалась только публичными обсуждениями - в ходе ее делались и отдельные тематические доклады. Так, например, 22 февраля 1930 г. в помещении Комакадемии выступал с докладом о коллективизации быта один из активных участников дискуссии Ю. Ларин. Позднее содержание доклада было изложено им в статье «Коллективизация быта в существующих городах» [11]. В дискуссии участвовали многие известные государственные и общественные деятели, ученые и архитекторы. Одно лишь заседание в мае 1930 г. в Комакадемии собрало более чем тысячную аудиторию [11, с. 109].
В специальной архитектуроведческой литературе «дискуссия о социалистическом расселении» обычно трактуется как спор между «урбанистами» и «дезурбанистами». Такая трактовка дает понятную градостроительную формулу, способствующую систематизации позиций участников дискуссии, но не позволяет вскрыть существо проблемы, лежащей в основании, длившихся почти год, бурных обсуждений концепции соцгорода и стратегии соцрасселения. Во всяком случае, суть проблемы социалистических городов, как ее понимали и ставили основные участники дискуссии, не исчерпывалась вопросом о плотности или композиции структуры расселения, хотя за Л. Сабсовичем прочно закрепилось определение «урбаниста», а М. Охитовичем - «дезурбаниста» [12].
Основным утверждением, которое в ходе дискуссии не оспаривал практически никто, было то, что «новые поселения» должны быть совершенно иного вида, нежели существующие [3, с.22]; что они призваны заменить старые города, которые должны быть уничтожены [13] и воплотить новые формы организации производства, быта, общественного обслуживания, отдыха, досуга, воспитания детей, профессионально-технической подготовки подрастающего поколения и проч. в особых формах: «обобществленного жилья», «обобществленного питания», «обобществленного воспитания» и т.п.
Для участников дискуссии было очевидным, что старые города, несоизмеримо сложнее реформировать под новые формы жизни, нежели изначально возводить города-новостройки в соответствии с новыми концептуальными постулатами. Поэтому в ходе дискуссии основное внимание обращалось на принципы проектирования новых поселений. В отношении же старых практически всеми участниками дискуссии однозначно фиксировалось, что они должны быть реконструированы «…под углом зрения возможного их переустройства на социалистических началах» и разукрупнены, т.е. часть промышленности и часть населения из них должны быть перемещены на новые места [14]. Эта позиция полностью соответствовала установкам Госплана, зафиксированным в программном документе: «Перспективы развертывания народного хозяйства на 1926/27-1930/31 гг.»: «Стихийное притяжение к се- бе крупных городских центров неизбежно будет вести к дальнейшему скоплению населения в немногих, наиболее перегруженных и перенаселенных городах-левиафанах. Плановый подход требует от нас решительного противодействия этой стихии. Мы должны планировать не дальнейший гипертрофический рост немногих центров, а децентрализацию и возможно равномерное распределение новых промышленных поселений по всей стране» [15]. Как следствие, участники дискуссии безоговорочно разделяли призыв к тому, что « … социалистическая реконструкция существующих городов СССР (Москва, Ленинград, Харьков и т.д.) … должна заключаться в систематическом, но экономически безболезненном выводе из городов по мере истечения амортизационных сроков промышленных предприятий, научных институтов, вузов, лабораторий, которые не связаны сырьевой базой или рынком потребления с этими городами. С другой, должно быть прекращено всякое жилищное строительство внутри этих городов и всячески должно проводиться обзеленение всех свободных и освобождающихся частей их. И наконец, уменьшившаяся в связи с этим потребность в новом жилище должна быть удовлетворена вне городской черты ... » [16].
Кстати, тезис о равномерности соцрасселе-ния и «равномерности распределения социалистического жилища» разделяли как урбанисты, так и дезурбанисты [8]. О неразрывной связи новой системы расселения с равномерным размещением новых производств говорили и многие другие участники дискуссии - А.Зеленко, Г. Пузис, Ц. Рысс, П. Кожаный, Н. Милютин и др. [13]. В частности, Н. Милютин, открывший своим докладом заключительный (20–21 мая 1930 г.) диспут о планировке социалистических городов, прямо заявлял о том, что новое жилищное строительство это, прежде всего, «следствие» промышленного строительства и осуществляться оно будет в полном соответствии с планом индустриализации [17].
Вопрос равномерного распределения населения по территории страны имел, условно говоря, свои ограничения. Так, например, практически все участники разделяли тезис о том, что возводимая промышленность и обслуживающее ее население должны быть равномерно распределены по территории страны. А вот предложение о равномерном размещении на территории страны индивидуального жилища и об автономном, а не коллективном проживании людей в нем, встречал резкую критику, так как противоречил основополагающим принципам марксистской теории, рассматривавшей концентрированное сосредоточение пролетариата, как базовый принцип организационно-управленческой стратегии партии.
В полном соответствии с принципами промышленного районирования, разработанными Госпланом и безоговорочно принятыми ВСНХ, как незыблемое основание для пространственной стратегии размещения новых производств, Л. Сабсович рассматривал размещение новых промышленных предприятий как не зависящее от существовавших транспортных путей. Он трактовал формирование новой транспортной сети как производную от размещения новых производств, предлагая формировать ее как максимально плотную, создающую связность промышленных предприятий друг с другом и с аграрными зонами в любых местах. Кстати, с этими предложениями соглашались и многие оппоненты Л. Сабсовича, считавшие наличие развитой транспортной сети обязательным условием формирования любого, в том числе и линейного расселения [18].
Ни урбанисты, ни дезурбанисты не видели никакой альтернативы политике соцрасселения, осуществлявшейся властью. Ни те, ни другие не возражали против скорейшего возведения добывающих сырье и перерабатывающих предприятий, тепловых и электрических станций, ускоренного строительства железных и автомобильных дорог и т. п. Никто из них не сомневался в необходимости возведения около новых фабрик и заводов соцго-родов и соцпоселков, концентрирующих необходимые этим фабрикам и заводам трудовые ресурсы. Никто не оспаривал планы массового вовлечения в производительный труд женщин и подростков. А в некоторых основополагающих принципах, например, в вопросе о равномерности соцрасселения и «равномерности социалистического жилища», о необходимости «селитебного обслуживания» программы индустриализации, концептуальные предложения урбанистов и дезурбанистов совпадали полностью [19].
Следует заметить, что сами участники дискуссии отдавали себе отчет в том, что позиции урбанистов и дезурбанистов различались по вопросам, которые не являлись принципиальными для социалистической расселенческо-градостроитель-ной доктрины. Они указывали на то, что «совершенно неверно пытаться противопоставить урбанистов и дезурбанистов ...»[20]. Об этом, в частности, говорил Н. Милютин на последнем диспуте в Ком-академии 20-21 мая 1930 г.: «...проблемы урбанизма или дезурбанизма не существует, как и не стоит проблемы строительства так называемых зеленых городов и городов-садов» [21].
То, что объединяло позиции урбанистов и дезурбанистов при всех расхождениях их профессиональных взглядов и творческих позиций, оказывалось несоизмеримо более глубоким и значимым в отношении государственной расселенческой политики, нежели моменты разногласий, которые, безусловно, были, но относились к второстепенным аспектам урбанистического обеспечения индустриализации, а не к основополагающим постулатам социально-политического, административно-управленческого, социально-пространственного реформирования страны, начавшего реализовываться со стартом первой пятилетки.
Так, в подготовленной в конце 1929 - начале 1930 г. редакционной статье журнала «Современная архитектура» члены редколлегии - урбанисты открыто характеризовали совпадение своей позиции с позицией других членов редколлегии, их оппонентов - дезурбанистов. Урбанисты особо под- черкивали тот факт, что они, как и дезурбанисты, «разделяют общие предпосылки теории социалистического расселения»: «Для нас, как и для дезурбанистов, не подлежит сомнению: 1) что способ общественного производства определяет формы общественного расселения и что, следовательно, новому социалистическому производству должно соответствовать в итоге новое социалистическое расселение; 2) что осуществление социализма означает уничтожение ʺкретинизма деревенской жизни" (К. Маркс) и "утонченностей" специфически городской, "столичной", "асфальтовой культуры", культуры скученных, лишенных природы людей, означает уничтожение противоположности между "городом" и "деревней"; 3) что осуществление социализма означает более или менее равномерное распределение высокой культуры по всей территории страны и что, следовательно, в процессе социалистического строительства желательно планомерно проводить постепенную децентрализацию элементов, сосредоточенных в "мировых городах" -децентрализацию промышленности, высшей школы, административно-управленческого и хозяйственного аппарата и т. д., подымая культуру "деревни" до уровня ʺстолицыʺ; 4) что осуществление социализма ведет к максимальному развитию и творческому росту каждой отдельной личности в коллективе и, следовательно, проектируя жилище, необходимо предусмотреть в них необходимый максимум пространственных возможностей для личного культурного досуга, остающегося после общественной жизни, для развернутых личных способностей и удовлетворения личных потребностей ...» [22].
При этом урбанисты, конечно же, оговаривали принципиальное отличие своих представлений от предложений дезурбанистов: «Мы выступаем против конкретных проектов дезурбанистов, предлагающих как систему расселения, рассеяние индивидуальных домиков … Мы выступаем против перепрыгивания через реальные условия …. Мы выступаем против сквозящего в проектах дезурбанистов фетишизирования природы ... » [22]. Но, при всех отличиях, как мы видим, убеждения урбанистов и дезурбанистов совпадали в главном - в согласии с провозглашенными властью, основополагающими принципами осуществления социалистического расселения [23]. После закрытия дискуссии и официального осуждения (в постановлении «О работе по перестройке быта», принятом 16 мая, опубликованном 29 мая 1930 г.), именно это содержание осталось неизменным и определявшим дальнейшее развитие советской архитектурно-градостроительной теории и практики. В последующие годы именно это содержание составило суть воплощения советской доктрины расселения и государственной градостроительной и жилищной политики.
При этом власть, принимая за основу рассе-ленческой и архитектурно-градостроительной политики то общее, что объединяло урбанистов и дезурбанистов, делала это вовсе не из желания справедливо разрешить их спор или найти устраивавший все стороны компромисс. Это было ей в высшей степени безразлично. Какое бы решение не было принято властью, она была уверена, что обязательно найдется способ принудить всех исполнять это решение вне зависимости от характера личных или групповых профессиональных воззрений. Предложения и урбанистов, и дезурбанистов были отвергнуты высшим партийным распоряжением. Прежде всего, потому ,что, несмотря на совпадение профессиональной терминологии, используемой архитекторами, с принятой в тот период политической риторикой, употребляемой представителями партийно-государственных органов, смыслы, вкладывавшиеся в одни и те же слова: «децентрализация», «равномерное распределение населения», «культурное обслуживание», «новые формы быта», «связь с промышленностью» и т. п., с одной стороны, разработчиками плана индустриализации, а с другой, проектировщиками-градостроителями, абсолютно не совпадали.
Идея равномерного распределения населения по территории страны, доведенная до своего логического градостроительного воплощения в виде системы равномерно рассредоточенных стационарных индивидуальных жилищ или мобильных домов, свободно перемещаемых их владельцами по территории страны, была революционной по отношению ко всей предшествовавшей градостроительной теории и практике, но она не отвечала положениям марксистско-ленинской доктрины об «организующей и направляющей роли пролетариата», концентрируемого в пролетарских центрах. Поэтому в ходе дискуссии предельно четко и однозначно было сформулировано требование: «Всякие разговоры о "дезурбанизации", воспроизводящие настроение буржуазии, боящейся скопления пролетариата, толстовская ненависть к большим городам, должны быть откинуты» [24].
Власть, провозглашая принципы равномерного распределения объектов индустрии по территории страны и создавая «законы» формирования поселений при них, не отрицала возможности концентрации пролетариата вокруг промышленных предприятий. Напротив, она стремилась к этому, так как подобная концентрация являлась условием осуществления диктатуры пролетариата, основой административного членения территории страны, при котором новые населенные пункты (социалистические города) становились «пролетарскими центрами», распространявшими свое влияние на непролетарское (сельскохозяйственное) население прилегающих местностей.
Градостроительная «дезурбанизация» и политическое «равномерное распределение населения по территории страны» по смыслу, вкладываемому в эти слова архитекторами и политиками, оказывались далеко не одним и тем же. Реализуя требование равномерного размещения промышленности по территории страны, власть не могла и не желала отказываться от концентрации производительных сил, наоборот, она стремилась к объединению пролетарских масс в «административнополитические ядра» - «опорные пункты диктатуры пролетариата» [24], так как не способна была опираться на разобщенные пролетарские элементы, не умела руководить рассредоточенными человеческими массами. Поэтому постулаты дезурбанистов о «рассеянии населения» однозначно и жестко трактовались партийным руководством страной, как призывы «к распылению организованных пролетарских кадров, обессиливающих их в настоящий момент в борьбе с мелкобуржуазным окружением» [25].
Власть считала стратегически правильным перемещение промышленности в осваиваемые сырьевые регионы - тем самым она сводила к минимуму транспортные издержки на перевозку сырья, колонизировала территории, формировала рассредоточенную, более неуязвимую для противника структуру предприятий военно-промышленного комплекса, отрывала от земли и «опролетаривала» значительные массы крестьянства.
В сравнении с этой стратегией, неверными оказывались и предложения архитекторов-урбанистов, которые в качестве главных центров индустриального развития страны рассматривали существовавшие города, так как в них функции государственного управления в структуре централизованной власти были уже сформированы. Неверными оказывались и предложения архитекторов-дезурбанистов об отказе от городов вообще и переходе к совершенно иному - рассредоточенному способу расселения.
В итоге получалось, что логически выстроенные и последовательно сформированные советскими архитекторами-теоретиками градостроительные идеи как урбанизации, так и дезурбанизации, а также концептуальные предложения в отношении существовавших и будущих городов, публично высказанные ими в дискуссии о соцрасселении, одинаково не отвечали уже полностью сформировавшейся к этому времени административно-управленческой, промышленно-индустриальной и рассе-ленческой стратегиям власти. Тезисы о разукрупнении городов, о концентрации населения понимались теоретиками-градостроителями с одной стороны, и партийно-государственными органами, с другой, совершенно по-разному. Подобное рассогласование концептуальных предложений, теоретических моделей, проектных подходов, предлагавшихся участниками дискуссии, с той политической направленностью общегосударственных планов и программ, которые формировались в Оргбюро и Политбюро ЦК ВКП(б), СНК, Президиуме ВЦИК, Госплане, СТО, ЭКОСО, наркоматах, было недопустимым. Прежде всего, с точки зрения механизма функционирования единой централизованной машины тоталитарного управления государством, издававшей свои приказы и плановые задания для немедленного и безоговорочного их исполнения, а не для обсуждения.
Именно поэтому власть, в конечном счете, категорически запретила дальнейшее развитие в рамках советской градостроительной теории как позиций «урбанизма», так и «дезурбанизма», какими бы целостными, логически завершенными и последовательно выстроенными с точки зрения, собственно, градостроительства они не являлись. Но при этом сама предельно парадоксальным как это может показаться на первый взгляд образом, призывала одновременно и к дезурбанизации (равномерному распределению промышленности), и к урбанизации (концентрации пролетариата в новых поселениях).
Почти за год до публичной дискуссии о соц-расселении, фактически, все основные положения концепции соцрасселения были не только интеллектуально проработаны, но и законодательно зафиксированы. Там, «наверху», все уже было давно решено: сверстаны списки объектов ВПК; распределен бюджет на индустриальное строительство, определена потребность в трудовых ресурсах, намечены планы ее доставки на новостройки; под эту численность выделены финансовые и материальные средства, предназначенные для возведения временного примитивного жилища для основной части населения и капитального (деревянного и каменного) - для руководства; сформулированы нормативные представления о распланировке соц-поселения; проектно разработана типология жилья и т.п. И вдруг выяснилось, что где-то там «внизу», в широких массах архитекторов, экономистов, транспортников, планировщиков, эконом-географов, партийных деятелей среднего звена, в рядах профсоюзной общественности, рабочих и служащих; причем, с активным участием официальной прессы -государственных газет и даже партийных журналов, через книги и брошюры, издаваемые государственными издательствами, по всей стране распространяется совершенно иная «картина ближайшего будущего». Картина, формирующая неверные ожидания населения, опасные в будущем совершенно непредсказуемой негативной реакцией на несбыв-шиеся мечты.
Публичная дискуссия о соцрасселении, таким образом, оказалась не просто сильно запоздавшей и поэтому бесполезной, но и резко деструктивной в отношении к уже принятым партийно-государственным решениям и именно поэтому крайне вредной для реализации той политики, которая в этот период уже последовательно и неуклонно практически осуществлялась властью. Вредной, прежде всего тем, что отвлекала архитекторов и планировщиков от решения конкретных, текущих проектных задач, поставленных перед ними с началом индустриализации. Власти было нужно, чтобы архитекторы не спорили о том, какую стратегию градостроительного развития страны следует избрать, а безоговорочно воплощали ту, которую предписывала осуществлять власть. Диспутировать было уже не о чем. Нужно было воплощать в чертежах и сметах спускаемые свыше постановления, инструкции, приказы и распоряжения. Именно поэтому высшее руководство страной решительно остановило дискуссию.
Следует заметить, что к началу 1930-х гг., наряду с позициями урбанистов и дезурбанистов, оказалась законодательно запрещенной и идея города-сада. Госплан разработал проект базовых положений о строительстве новых городов, в которых предписывал в качестве основного типа застройки применять исключительно многоквартирное, много- этажное жилище: «при планировании строительства городов … избегать … рассыпного характера стройки в виде мелких домов, разбросанных на большой территории», «строить жилые здания в 3– 4 этажа (не больше пяти) на несколько сотен жителей» [26].
Участники дискуссии об обобществлении быта и соцрасселении, прежде всего, стремились дать ответы на вопросы о том, каким должен быть «социалистический город» в пространственно-планировочном отношении: как он должен быть территориально структурирован; на какие составные части расчленен; по какому принципу должны соотноситься друг с другом различные его планировочные элементы; какую «пространственно-композиционную» роль по отношению к селитьбе призвана играть промышленность, т.е. как соцгород должен планироваться, рассчитываться, проектироваться и т. д.
Позицию некоторых участников дискуссии о соцрасселении предопределяло то жесткое размежевание социалистического и капиталистического городов, которое было проделано классиками марксизма. В частности, резкой критике подвергался мелкобуржуазный индивидуалистический быт - индивидуальные квартиры - «апология индивидуали-стически-семейного быта», «долой коттеджи» [26, с.14]. В соответствии с партийно-мобилизационной стратегией соцгород трактовался как центр, не только «формирующий коллективное производство», но и «организующий коллективную жизнь», являющийся «организационно-территориальным выражением мощного расцвета новой общественной формации» [26, с.11].
При этом в дискуссии была представлена и противоположная точка зрения - «даешь коттеджи». Она основывалась на том, что строительство малоэтажного жилища, во-первых, являлось более экономичным в противоположность существовавшим мифам о его дороговизне и якобы дешевизне многоэтажного строительства [13, с.343].
Во-вторых, возведение малоэтажного жилища позволяло «проскочить» переходный период к тому состоянию стройиндустрии, которое позволит возводить дома будущего: «Правильно ли строить города и дома, рассчитанные на многие десятки лет, если знать, что очень скоро современное строительство … будет обречено на уничтожение динамитом» [13, с.343].
В-третьих, обеспечивало повышенную обороноспособность (по причине рассредоточенности и легкой разборки завалов): «...мелкоэтажное строительство и децентричное расселение имеют огромнейшую обороноспособность и нам в ожидании грядущих боев с капитализмом этого не следует забывать» [13, с.343].
В-четвертых, позволяло широко вводить стандартизацию, унификацию и обеспечивать быстроту и легкость сборки: «Необходимо решительно перейти на производство передвижных, сборных, стандартных одно- и двухэтажных массового производства жилищ.,.»[13, с.342]. Оно, хотя и не способствовало «обобществлению», но «в наших пока тяжелых условиях» позволяло избежать отвращения к идее коллективного проживания - «практика же говорит о том…, что большие дома с множеством жильцов не улучшают общественные настроения живущих» [13, с.343].
Идея города-сада (тесно связанная с индивидуальным жилищем), несмотря на то, что к этому времени она была уже всесторонне раскритикована с марксистско-ленинских позиций, также оказалась до конца не забытой и некоторые участники дискуссии пытались вернуть ее в теоретическую действительность будущего расселения: «… реакционная идея города-сада реакционна лишь в капиталистических условиях и соответственно преобразованная, может оказаться полезной для дела революции» [13, с.343].
Концептуальные представления о соцгороде основывались на идее «искусственно-технической» организации процессов функционирования поселений. «Труд», «быт», «отдых» в них должны были быть организуемы целенаправленно, на основе научных знаний и расчетов так, чтобы сформировать новые типы межличностных отношений и исключить любые неконтролируемые процессы жизнедеятельности [13, с.343].
В дискуссии о соцрасселении столкнулись две точки зрения на то, как следует размещать новое население: концентрировано в новых городах или рассредоточено в индивидуальных «кабинах для сна», разбросанных по территории страны вдоль транспортных коммуникаций. При этом вопросы: откуда возьмется это «новое» население, для чего его нужно перемещать по территории страны, почему оно обязательно должно хотеть перемещаться туда, куда ему прикажут и как поступать с теми, кто никуда переселяться не желает, никем из представителей этих точек зрения не обсуждались. Предложения урбанистов и дезурбанистов не касались основополагающих принципов государственной политики расселения, не критиковали и никак не оспаривали ее. Они лишь обосновывали те или иные предложения о конкретной направленности ее урбанистического (архитектурного и градостроительного) воплощения.
Реализуя план индустриализации, партийногосударственное руководство страной приняло решение создавать новые населенные пункты - соц-города - таким образом, чтобы они были изначально в значительно большей степени, нежели старые, приспособлены к задачам социального управления: а) содержали точно рассчитанное, искусственно пополняемое количество населения; б) включали предписываемые свыше типы жилищ; в) основывались на конкретных планировочных структурах; г) включали конкретный список объектов обслуживания; д) удерживали фиксированный социально-профессиональный состав населения и проч.
Существовавшие города к выполнению этих задач были абсолютно не приспособлены. Именно поэтому советская власть, в полном соответствии с призывами участников дискуссии (но вовсе не потому, что прислушивалась к их рекомендациям), отказывалась опираться на существовавшие поселения в достижении своих планов и готова была разукрупнять старые города, рассредоточивать и даже разрушать, передавая их функции городам-новостройкам. Только неспособность справиться с существовавшим дефицитом жилья не позволяла осуществить эту цель практически. Поэтому в рамках стратегии пространственного освоения территории страны, в ходе реализации плана индустриализации и осуществления обеспечивавшей его рас-селенческой программы, советская власть отводила существовавшим крупным городам временную роль своеобразных «перевалочных пунктов», предназначение которых состояло в том, чтобы принимать «раскрестьяненное крестьянство», опролета-ривать его, включая в трудо-бытовые коллективы существующих промышленных предприятий, а затем в организованном виде направлять в города-новостройки - в создаваемые центры хозяйственного развития индустриально осваиваемых территорий.