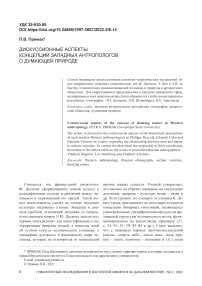Дискуссионные аспекты концепций западных антропологов о думающей природе
Автор: Примак Петр Викторович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Дискуссионные вопросы антропологии и этнографии
Статья в выпуске: 2 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена дискуссионным аспектам теоретических построений таких современных западных антропологов, как Ф. Дескола, Э. Кон и Э.В. де Кастру, относительно взаимоотношений человека и природы в архаических обществах. Для корректировки представления о научном приоритете сформулированных ими выводов автор статьи обращается к работам выдающихся российских этнографов - В.Г. Богораза, Л.Я. Штернберга, В.К. Арсеньева.
Западная антропология, российская этнография, архаические общества, думающая природа
Короткий адрес: https://sciup.org/170195092
IDR: 170195092 | УДК: 39:930.85 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-2/6-14
Текст научной статьи Дискуссионные аспекты концепций западных антропологов о думающей природе
Считается, что французский антрополог Ф. Дескола сформулировал новый подход к классификации сходств и различий между человеком и окружающей его средой. Такой вывод исследователь сделал на основе изучения культуры индейских племен Эквадора и анализа проблем отношений человека со сверхъестественным миром [18]. Дескола использует термин «натурализм» для идентификации и интерпретации природы вещей, в качестве идей об особом статусе человеческого сознания, о специфике духовного и физического мира человека, которые не отличаются от показателей прочих живых существ. Ученый утверждает, что именно он обратил внимание на следующие дуализмы: природа – культура, вещи – люди и др. Хотя странно это слышать от ученика К. Ле-ви-Строса, признанного во всем мире создателя концепции бинарных оппозиций, являющихся универсальным, специфическим продуктом физической структуры человеческого мозга, функционирующего по аналоговому принципу [25, с. 34–35, 55, 59, 83–84 и др.]. Строс выяснил, что с помощью парных противопоставлений (жизнь – смерть, небо – земля, день – ночь, правое – левое, мужчина – женщина и т.п.) люди архаических обществ старались упорядочить, понять и описать окружающий мир. Бинарные оппозиции формируют основные понятия культуры. Ученым хорошо известна история появления и эволюции концепции о сущности и структуре бинарных оппозиций, в основе которой лежали теоретические разработки в сфере структурной лингвистики Ф. де Соссюра [31], фонетической дуалистической концепции структуры языка Р. Якобсона [32, с. 36–37; 38]. К. Леви-Строс в рамках структурной антропологии выдвинул и обосновал идею о том, что модели лингвистики аналогичны базовым дискурсам в этнологии, которые коренятся в бессознательном, в мифе, в менталитете.
Большое значение для развития концепции бинарных оппозиций имеют труды В.Г. Богораза [11, с. 196–212; 12; 13; 14; 15, с. 60–80; 29; 41, р. 577–683], А.М. Золотарева [19] о дуализме в мифологии. Мифологическое мышление на основе символов противопоставления помогает человеку не только в постижении мира, но и в упорядочивании своего общества.
Следующий дискуссионный аспект в размышлениях Ф. Десколы связан с его тезисом об изменении взгляда на единство человеческой и звериной природы: «Современный человек смотрит свысока на наивные воззрения древних, считавших, что природу можно судить по ее собственным законам» [18, с. 7]. Однако такой взгляд характерен лишь для индустриального общества. Коренные народы и в настоящее время, то есть в первой четверти XXI в., продолжают сохранять гармонию с природой, считают отдельных представителей животного мира предками людей, культрегерами.
Самый главный методологический посыл Десколы, который он и называет новым взглядом в антропологии и даже открытием, заключается в том, что он призывает пересмотреть соотношение природы и общества, взглянув на мир людей и мир природы как на единое целое. По его мнению, проводимое учеными разделение мира на две группы явлений, на живое и неживое, абсолютно несостоятельно [18, с. 8].
Американский ученый Эдуардо Кон в своей работе «Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека», написанной на основе обобщения собственных полевых материалов, собранных среди племен бассейна Амазонки, сделал попытку доказать, что антропоцентричный подход современных западных социальных и культурных антропологов устарел и его нужно менять: пора признать нечеловеческие живые существа активными семиотическими агентами [23]. Э. Кон, без ссылок на предшественников, в том числе и российских ученых, в качестве новации выдвигает тезиз о том, что нечеловеческие существа не только воздействуют на человека, но и интерпретируют его. В качестве теоретического обооснования своего предположения Кон выбрал концепцию Чарлза Пирса, по которой знаки не просто описывают мир, но являются его важной частью [29, с. 65]. При этом Кон сослался на мнение о взглядах Пирса в варианте Терренса Дикона [26, с. 199]. По мнению Кона, между людьми и природой нет непреодолимой границы, но чтобы не стать для ягуара добычей, нужно быть с ним равным, необходимо показать зверю наличие силы. Открытием для Кона стало то, что зверь может видеть человека в разных ракурсах: как добычу, как равного и как угрозу; ягуар интерпретирует разные образы человека. Человеческое сообщество объединяет с животными, растениями, другими формами живого мира именно наличие представления об окружающем пространстве, которое формирует сущность всех живых существ [23, с. 27–28, 34].
Разрабатывая свою «новую» антропологию, в которой отсутствует радикальное разделение между людьми и другими живыми существами, Кон использует понятие семиозиса как системы создания и интерпретации символов, знаков – системы, не только пронизывающей живой мир, но и объединяющей всех живых существ в сеть сложных отношений [23, с. 38]. В контексте семиозиса происходит процесс означивания, преобразования информации из реального мира в знаковую форму. Семиозис охватывает всю сферу человеческого опыта, он может превратить в знак самого человека, создав при этом нечто совершенно новое [22, с. 26]. По мнению американского философа Чарльза Мориса, одного из основателей семиотики, семиозис – это знаковый процесс или знаковое поведение [27, с. 119]. Семиозис также определяется как процесс порождения и функционирования абстрактных знаков и материальных объектов, используемых для обозначения данных знаков. В качестве знаков могут выступать абстракции и реальные предметы, явления, свойства, отношения, действия. Знаки создаются и используются в процессе приобретения, хранения, переработки и передачи информации. Однако знак может стать таковым только в особом процессе или знаковой ситуации – семиозисе. Другими словами, семиозис – это процесс, в котором нечто функционирует в качестве знака. Американский философ Чарлз Сандерс Пирс, рассматривая знак как объект, репрезентирующий или замещающий нечто другое в человеческой деятельности, разработал схему «объект – знак – интерпретанта». Ин-терпретанта, по Пирсу, означает способ употребления знака человеком или действие, которое знак оказывает на человека. Кроме этой триады необходим интерпретатор, человек или субъект, который производит и интерпретирует знаки в сообществе интерпретаторов по определенным правилам. При этом специфика деятельности сообщества состоит в непрерывно продолжающемся семиозисе, процессе передачи знаков от одного интерпретатора к другому. Объект или окружающая сообщество реальность всегда наполнены совокупностью знаковых опо-средований. Несмотря на умозрительность и философичность концепции Пирса, в ней хорошо показано, что нечто определенно будет воспринято, если будут удовлетворены некоторые условия восприятия, а символ сможет оказать влияние не только на мысль, но и на поведение человека и сообщества как интерпретаторов этого символа [29, с. 152–154; 37, с. 116]. Пространственные объекты, любые обозримые явления природы, вовлекаемые в человеческую деятельность, обязательно наделяются культурными смыслами и значениями. Составляющие их хронотопические отношения могут служить не только символами отвлеченных идей, знаками сакральных объектов, но и индексами событий, сигналами к действиям, моделями других пространственных кодов и преобразований [33, с. 140]. В контексте семиозиса можно привести в пример воссоздание традиционных знаковых форм, выполняющих охранительную, защитную, маркирующую функции в отношении хозяйственной территории современных нивхов как своего единого мира [9, с. 231]. Отдельные промысловые участки считаются нивхами священной землей предков, которые не только жили здесь в прежнее время, создавали семьи и растили детей, учили их традиционным промыслам, но и сегодня контролируют эту территорию своими могилами. Помогают им в этом охранители стойбищ, изготовленные в виде деревянной антропоморфной культовой скульптуры и установленные на границах сакральной территории. Общий ментальный настрой спла- чивает родовые общины, помогает им следить за порядком, экологией, не позволяет нарушать разрешенные объемы добычи биологических ресурсов.
Бразильский антрополог Эдуарду Вивейруш де Кастру на Западе считается не просто пионером в сфере постструктуралистской методологии, а настоящим отцом эпистемиологической революции не только в антропологии, но и во всех социальных науках [28, с. 278–282]. Книга Де Кастру «Каннибальские метафизики: рубежи постструктурной антропологии», написанная на основе осмысления культуры индейцев Южной Америки и других этносов, произвела настоящий фурор в западном научном мире [21]. Кастру предлагает антропологический синтез взглядов западных ученых и туземцев, подчеркивая отсутствие четкой границы между ними. В качестве инструментария он использует принцип множественности переплетающихся точек зрения. Однако под нагромождением красивых фраз (перспективизм, мультинатурализм, эквивокация) читатель быстро усматривает знакомую концепцию эмного и этного подходов, введенную в исследовательское поле антропологии еще в середине XX в. Кеннетом Пайком. На основе исследования смыслоразличительных звуков в языке phonemic и phonetic Пайк пришел к поразительному выводу, что эта логическая структура вполне применима и к культуре emic и etic [42] . Внешний наблюдатель на основе этного подхода описывает факты культуры с помощью научных классификаций. Носитель же конкретной культуры ощущает ее сущность и функции интуитивно (эмный подход). Пайк признавал правомерность обоих подходов, которые могут быть вполне совместимы [4, с. 8]. Кастру же использует эти два принципа на примере анализа ритуального каннибализма, что в западной науке стало новым эпистемологическим и онтологическим топосом социальных наук [30, с. 172–180].
Для корректировки представления о научных приоритетах Десколы, Кона, де Кастру в изучении вышеназванных сфер духовной культуры архаических обществ нужно обратиться к работам выдающихся российских исследователей, этнографов и фольклористов, специалистов по культуре коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – В.Г. Богораза, Л.Я. Штернберга, В.К. Арсеньева.
Отечественный исследователь материальной и духовной культуры коренных народов Север- ной Азии В.Г. Богораз провел несколько лет в местах их проживания сначала как ссыльный народоволец, впоследствии как участник научных экспедиций, этнограф, лингвист, историк религии, писатель и публицист, общественный деятель. С 1918 г. он был сотрудником МАЭ, с 1921 г. – профессором этнографии Ленинградского института истории, философии и лингвистики. Богораз по праву считается одним из основателей советской этнографической школы, Института народов Севера в 1929 г., основателем и первым директором в 1932–1936 гг. Музея истории религии АН СССР в Ленинграде. Собранный и осмысленный им этнографический материал лег в основу ряда его фундаментальных трудов [11, с. 196–212; 12; 14, с. 269–318; 15, с. 60–80; 16, с. 263–270; 17; 20; 39; 40, р. 277–536]. Именно Богораз создал концепцию эволюционного развития первоначальных форм мировоззрения человека, взглядов на окружающий реальный и сверхъествественный мир, на влияние этих миров на жизнь человека и человеческого общества [11, с. 197; 15, с. 61– 66; 17, с. 1–8 и др.]. Архаические верования, по мнению Богораза, проходят пять стадий развития мировоззрения, которые выглядят следующим образом. Первая стадия включает в себя наделение окружающих человека предметов и объектов природы живой субстанцией. Камни, деревья, горы и все остальные объекты, независимо от их размера и формы, – живые. Признаками жизни являются движение и издаваемые звуки (скрип веток, шелест листвы и т.п.). На второй стадии человек сравнивает объекты природы и предметы с самим собой, со своим телом или его частями. Третья стадия подразумевает, что предметы могут превращаться в человека, люди – в зверей и наоборот. Для четвертой стадии уже характерно появление свер-хестественных понятий – о душах, находящихся в предметах и объектах, могущих покидать их по своему желанию, и о человеческой душе. Пятая стадия содержит представления о многочисленных духах, живущих в своих пространствах, о загробном мире, о превращении души человека в духа, о культе предков.
Л.Я. Штернберг, как и В.Г. Богораз, был народовольцем, почти десять лет провел в ссылке на Сахалине, где и стал этнографом, изучал историю и культуру нивхов, айнов, тунгусо-маньчжурских народов. Впоследствии он на основе собственных материалов написал ряд великолепных этнографических, лингви- стических трудов и энциклопедических статей. Работал в МАЭ, читал курсы лекций по этнографии в ЛГУ, был одним из основателей географического факультета ЛГУ, Ленинградского рабочего факультета северных народов, ныне Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена; с 1920 г. – председателем Сибирского отдела Комиссии по изучению племенного состава населения СССР. Вместе с Богоразом стоял у истоков советской школы этнографии, воспитал плеяду знаменитых российских этнографов, внес значительный вклад в исследование различных аспектов архаических верований. Л.Я. Штернберг не только разработал собственную концепцию развития архаического мировоззрения, эволюции и соотношения первоначальных форм верований, культов и ритуалов, но и противопоставил ее знаменитой анимистической концепции Э.Б. Тайлора, выдвинув на первое место представления не о душе, а о духах природы. По мнению Штернберга, последовательность развития архаических верований следующая: аниматизм (оживотворение) и антропоморфизм (очеловечение), затем одухотворение и, наконец, анимизм или открытие души [35, с. XII]. Человек архаического общества открыл для себя духов природы совершенно независимо от идеи души, которая требовала гораздо более глубокого умственного анализа.
Еще в конце XIX в. Штернберг на основе кропотливого изучения традиционного мировоззрения тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов осветил этнокультурные особенности менталитета, мировоззрения, космогонии, анимизма, тотемизма, шаманства коренных народов Амура и Сахалина. За несколько десятилетей до Де-сколы и Кона Штернберг показал, что для аборигенов «не существует мертвой, неразумной природы; напротив, вся природа одарена жизнью и разумом». Весь окружающим мир разумен и подобен человеку, а все видимое – не более чем форма, содержанием которой являются люди и духи [34, с. 49]. Промысловые звери не только интерпретируют поведение человека, но даже смеются над охотником и его попытками завлечь зверей в ловушки и силки [35, с. 4].
В.К. Арсеньев, знаменитый отечественный этнограф, путешественник, писатель, приехал на Дальний Восток в 1900 г. и в течение тридцати лет руководил экспедициями по изучению территории российского Дальнего Востока, проводил археологические, этнографические, естественнонаучные исследования. В своих трудах «Дерсу Узала» (1923), «В дебрях Уссурийского края» (1926), «Сквозь тайгу» (1949), в многочисленных научных статьях и очерках он осветил многие стороны архаического мировоззрения коренных народов региона, в том числе и «открытия», которые позже озвучили Кон и Дескола. В частности, Арсеньев еще в начале XX в. зафиксировал аниматические и антропоморфные верования удэгейцев, орочей, нанайцев и других аборигенов, согласно которым весь окружающий человека мир представлялся живым или подобным человеку [2, с. 217; 3, с. 159–160 и др.; 5, с. 129–157; 7, с. 23–31; 8, с. 30–42;]. В мировоззрении этих народов не было понятий о сверхъестественных существах: все объекты природы были живыми, понятными в своих функциях, следящими за порядком в космосе и на земле [1, с. 210–211].
Упоминавшиеся выше теоретические разработки американских и французских ученых о способности растительного и животного мира мыслить, интерпретировать поведение человека, хорошо иллюстрируются конкретными примерами из современной жизни коренных народов Нижнего Амура и Сахалина [10, с. 104–114]. Анализ морского зверобойного промысла сахалинских нивхов, в частности – добычи нерпы, показывает, что образ этого животного многоликий: нерпа помогает рыбакам ловить рыбу, загоняя ее в сети и невода, но она же и ворует потом эту рыбу из ловушек, нередко повреждая их. Нерпа постоянно следит за человек, за его промысловой деятельностью, но непременно старается получить для себя выгоду и тратить как можно меньше энергии на собственный промысел рыбы. Некоторые информанты считают, что нерпа очень умный зверь, который использует людей, их оборудование (лодки, ловушки, сети, неводы) и технологии для ловли рыбы для себя. Другими словами, с точки зрения нерп, они не воруют рыбу у человека, а забирают свою долю, честно заработанную в процессе совместного с человеком промысла [9, с. 231].
Таким образом, новации антропологического метода Филиппа Десколы, Эдуардо Кона, Эдуарду Вивейруша де Кастру в области решения проблемы адаптации разнообразных живых существ, которые не только приспосабливаются к жизни в мире, но и меняют его, создавая связи между собой и окружающей средой, их гипотезы о мыслящей природе и попытки заменить антропологию культуры на антропологию природы давно известны отечественным ученым
XX в. [9, с. 222–223; 18, с. 9, 12]. Отдельного рассмотрения требуют причины такого отношения европейских ученых к предшественникам, пусть и из другой страны, принадлежащим к другим научным направлениям и идеологическим течениям, но решавшим аналогичные проблемы на десятилетия раньше [6, с. 5]. Приходится с сожалением констатировать, что современные российские ученые по-прежнему находятся в фарватере концепций западных ученых. Причин тому много: это и историческое отставание в организации высших учебных заведений, и пренебрежение к теоретическим построениям российских исследователей, сохраняющееся еще со времен М.В. Ломоносова, и русофобия. С другой стороны, хоть и не сразу, а через несколько лет, но труды западных ученых переводятся на русский язык, запад же наших трудов не знает и не читает. Для разработки выбранных тем западные исследователи культуры Амазонии активно использовали тезисы французского философа Бруно Латура о том, что акторно-сетевая теория (АСТ) может служить в качестве метода развертывания деятельности актора по выстраиванию своего социального мира. По мнению Латура, главным вкладом этой теории в социальную науку стала возможность постепенного продвижения АСТ к сравнительной антропологии, возможность трансформации социальных проблем, территории, региона, реальности в ситуативную циркуляцию, в которую органически входят природа и пространство [24, с. 201–206, 208–209, 210, 211]. Известно, что акторно-сетевая теория задумывалась как механизм устранения антропоцентричной теории социального конструктивизма. Сети включают в себя «не только людей, но и материальные объекты и нечеловеческие живые существа» [36, с. 8]. Однако эти концепции не работают на этнографическом материале коренных народов Сибири, Севера, Дальнего Востока России. В сознании коренных народов северных регионов, в отличие от сознания европейских авторов, никогда не существовало непреодолимых границ между людьми и животными, реальными и мифическими, существовал механизм превращения людей в животных и обратно [9, с. 222–223]. Культ животных необходим обществу коренных народов для сохранения традиций, для освящения хозяйственной деятельности, важного соотношения сакральных компонентов в жизнеобеспечивающих технологиях [7, с. 23–31].
Приведенный выше краткий обзор теоретических взглядов отечественных этнографов XX в. показывает, что многие эпистемологические вопросы в рамках антропологии были ими не только поставлены, но и решены. Собранные современными отечественными этнографами материалы об особенностях культуры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока показывают, что многие аспекты архаических верований не только сохраняются в головах людей, но и служат для укрепления социальных связей в системе трансмиссии культурных ценностей новым поколениям.
Список литературы Дискуссионные аспекты концепций западных антропологов о думающей природе
- Арсеньев В.К. Сквозь тайгу. М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1949.
- Арсеньев В.К. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 1. Владивосток: Примиздат. 1947.
- Арсеньев В.К. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 2. Владивосток: Примиздат. 1947.
- Березкин Ю.Е. Рождение звездного неба: представления о ночных светилах в исторической динамике. СПб.: МАЭ РАН, 2017.
- Березницкий С.В. Верования и обряды уль-та (по материалам международной этнолингвистической экспедиции на о. Сахалин в июле-августе 1990 г.) // Ethnic Minorities in Sakhalin. Yokohama: Yokohama National University, 1993. С. 129-157.
- Березницкий С.В. До Клакхона - междисциплинарный принцип работы Тунгусской экспедиции 1927-1928 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 473. С. 5-11.
- Березницкий С.В. Путем взаимовлияния. Промысловые культы амурских народов и их этнокультурные контакты // Россия и АТР. 1998. № 4. С. 23-31.
- Березницкий С.В. Система верований, обрядов и культов негидальцев // Вопросы археологии, истории и этнологии Дальнего Востока: сборник статей научной конференции «Дальневосточная историческая наука на пороге XXI века: новые имена» (Владивосток, 25-27 марта 1997 г.). Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 1997. С.30-42.
- Березницкий С.В. Тонкая настройка своего мира // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2022. Т. 15. № 2. С. 220-233.
- Березницкий С.В. Традиция сыроядения в культуре питания коренных народов Амуро-Сахалинского региона // Кунсткамера. 2021. № 3. С. 104-114.
- Богораз В.Г. Дуалистические мифы / Предисловие М. Шахнович // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 196-212.
- Богораз В.Г. К психологии шаманства у народов Северо-Восточной Азии // Этнографическое обозрение. 1910. Кн. 84-85. № 1-2. С. 1-36.
- Богораз В.Г. Материалы по изучению чукотского языка и фольклора, собранные в Колымском округе. Ч. 1. Образцы народной словесности чукоч. СПб.: Императорская Академия Наук, 1900.
- Богораз В.Г. Образцы материалов по изучению чукотского языка и фольклора, собранных в Колымском округе В.Г. Богоразом // Известия Императорской Российской Академии Наук. 1899. Т. 10. № 3. С. 269-318.
- Богораз В.Г. Религиозные идеи первобытного человека (По материалам, собранным среди племен северо-восточной Азии, главным образом среди чукоч) // Землеведение. 1908. Т. 15. Кн. 1. С. 60-80.
- Богораз В.Г. Сказка о Чесоточном шамане // Живая старина. 1899. Вып. 2. С. 263-270.
- Богораз В.Г. Чукчи. Ч. 2. Религия. Л.: Изд-во Главсевморпути, 1939.
- Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964.
- Из Архива. Избранные труды В.Г. Бого-раза по шаманству 1934-1936 гг. СПб.: СПбГУ, 2019.
- Кастру Э.В. Каннибальские метафизики: рубежи постструктурной антропологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
- Кирющенко В.В. Знак и символ // Пирс Ч.С. Принципы философии: в 2-х т. Т. 1. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 5-26.
- Кон Э. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018.
- Латур Б. АСТ: вопрос об отзыве // Логос. 2017. № 1. С. 201-216.
- Леви-Строс К. Мифологики: в 4-х т. Т. 1. Сырое и приготовленное. М.; СПб.: Университетская книга, 1999.
- Логинов Е.В. Действительно ли леса мыслят? // Сибирские исторические исследования. 2019. № 2. С. 198-202.
- Морис Ч.У. Из книги «Значение и означивание». Знаки и действия // Семиотика: антология. М.: Радуга, 1983. С. 118-132.
- Наумов Н.Г. Философские основания антропологической концепции Эдуарду Вивейруша де Кастру // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2021. Т. 21. Вып. 3. С. 278-282.
- Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000.
- Руденко Н. Рец. на кн.: Эдуарду Вивей-руш де Кастру. Каннибальские метафизики: рубежи постструктурной антропологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 199 с. // Антропологический форум. 2019. № 41. С. 172-180.
- Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
- Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М.: Аспект-Пресс, 2000.
- Чертов Л.Ф. Особенности пространственного семиозиса // Метафизические исследования. Вып. 11. Язык. СПб.: Алетейя, 1999. C.140-155.
- Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Хабаровск: Дальгиз, 1933.
- Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. Исследования, статьи, лекции. Л.: Институт народов Севера, 1936.
- Юрчак А. Предисловие // Кон Э. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С. 6-16.
- Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика: антология. М.: Радуга, 1983. С.102-117.
- Якобсон Р.О. Избранные работы. М.: Прогресс, 1965.
- Bogoras, W., 1910. Chukchee mythology. Leiden; New York: Brill; Stechert & Co.
- Bogoras, W., 1907. The Chukchee religion. In: The Jessup North Pacific Expedition: Memoir of the American Museum of Natural History. Vol. 11. Leiden; New York: Brill; Stechert & Co, pp.277-536.
- Bogoras, W., 1902. The folklore of Northeastern Asia, as compared with that of Northwestern America. American Anthropologist, Vol. 4, no. 4, pp. 577-683.
- Pike, K., 1967. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. The Hague: Mouton.