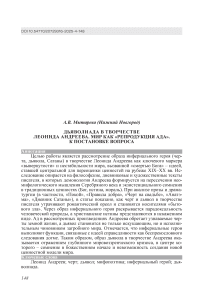Дьяволиада в творчестве Леонида Андреева. Мир как «репродукция ада». К постановке вопроса
Автор: А.В. Мытарева
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Целью работы является рассмотрение образа инфернального героя (черта, дьявола, Сатаны) в творчестве Леонида Андреева как ключевого маркера «вывернутости» и нестабильности мира, вызванной «смертью Бога» – идеей, ставшей центральной для переоценки ценностей на рубеже XIX–XX вв. Исследование опирается на философские, дневниковые и художественные тексты писателя, в которых демонология Андреева формируется на пересечении неомифологического мышления Серебряного века и экзистенциального сомнения в традиционных ценностях (Бог, истина, мораль). При анализе прозы и драматургии (в частности, «Покой», «Правила добра», «Черт на свадьбе», «Анатэма», «Дневник Сатаны»), в статье показано, как черт и дьявол в творчестве писателя утрачивают романтический ореол и становятся носителями «бытового зла». Через образ инфернального героя раскрывается парадоксальность человеческой природы, а христианские истины представляются в искаженном виде. Ад в рассмотренных произведениях Андреева обретает узнаваемые черты земной жизни, а дьявол становится не только искушающим, но и исполнительным чиновником загробного мира. Отмечается, что инфернальные герои выполняют функции, связанные с идеей справедливости как беспрекословного следования догме. Таким образом, образ дьявола в творчестве Андреева оказывается отражением глубинного мировоззренческого кризиса, в центре которого – сомнение в божественном начале и невозможность создания новой ценностной модели мира.
Леонид Андреев, черт, дьявол, мифопоэтика, инфернальный герой, дьяволиада
Короткий адрес: https://sciup.org/149150088
IDR: 149150088 | DOI: 10.54770/20729316-2025-4-148
Текст научной статьи Дьяволиада в творчестве Леонида Андреева. Мир как «репродукция ада». К постановке вопроса
Leonid Andreev; devil; mythopoetics; infernal hero; diaboliada.
Серебряный век русской литературы ознаменовался глубоким интересом к религиозно-мистическим темам. Если в литературе XIX в. демонологический образ связан с темными сторонами человеческой души и свидетельствует о духовном кризисе личности (например, в творчестве Ф.М. Достоевского), то в начале XX в. инфернальное становится частью светской жизни, его связь с религиозной семантикой ослабевает, а неразделимость добра и зла воспринимается как онтологическое свойство мира. В поэтике символистов (А. Блока, В. Брюсова, Д. Мережковского) демонологический образ зачастую служит выражением метафизической тревоги, дуализма мира и кризиса веры. А.Ф. Лосев подчеркивает, что именно в Серебряном веке обостряется стремление к выявлению «предельных» смыслов бытия [Лосев 2016].
В этом контексте художественное осмысление образа черта / дьявола в творчестве Леонида Андреева отличается от символистской традиции: инфернальный герой выступает у него не только как метафизическая фигура, но и как отражение психологической раздвоенности. Л.Я. Гинзбург отмечает напряженную двойственность и экзистенциальную пограничность героев Андреева [Гинзбург 1976, 410]. В свою очередь, В. В. Бычков подчеркивает, что у Андреева инфернальный герой является знаком разрыва между человеком и универсальным порядком [Бычков 2007, 100].
Как отмечает А.В. Татаринов, размышляя над художественным миром Л.Н. Андреева, «смерть Бога» [Ницше 2010, 74] «приводит к демонизации жизни» [Татаринов 1996, 39], границы между «антимиром» и миром размываются, а пропорции такого смешения остаются неконтролируемыми.
Невозможность постижения истины, неустойчивое состояние мира, переворачивают представление о его нормальности и, как следствие, допускают вторжение в него инфернальных сил. Хронотоп ада встраивается в архитектонику отдельных произведений и расширяет границы художественного мира писателя, конкретизируя и «уплотняя» [Тюпа 2009, 72] представление о нем. Образ ада как «низшего мира» осмысляется сквозь призму неомифологического сознания. Именно неомифологизм, как форма возвращения к архетипическим структурам мышления, позволяет объяснить репрезентацию инфернального в произведениях Андреева. Существующие на данный момент работы посвящены отдельным произведениям Леонида Андреева, героями которых становятся черт, дьявол, Сатана [Демидова 2019; Капрусова 2019]. Наиболее полными считаются исследования, посвященные мифопоэтике автора [Еременко 2001; Татаринов 1996], типу инфернального героя [Грузин 2001]. Однако специфика образа инфернального героя в концепции всего творчества Леонида Андреева все еще нуждается в комплексном осмыслении. Настоящая статья посвящена рассмотрению образа черта, дьявола, Сатаны как особого типа героя, выступающего маркером «вывернутости» мира.
Ключ к пониманию особенностей инфернального героя в творчестве Леонида Андреева восходит к мировоззренческим установкам писателя, отраженным в дневниковых записях от 1 августа 1891 г.: «Я хочу показать всю несостоятельность тех фикций, которыми человечество поддерживало себя: Бог, нравственность, загробная жизнь, бессмертие души, общечеловеческое счастье и т. д.» [Андреев 1994, 62].
Впервые к образу инфернального героя Андреев обращается в юности, о чем свидетельствует запись от 28 ноября 1892 г.: «Удалось изобразить одну довольно недурную, сверх обыкновения, вещицу, именно “Демона”, стоящего на скале в позе, долженствующей выражать: “презренный мир”» [Кен, Рогов 2010, 376]. В.В. Брусянин, ссылаясь на воспоминания секретаря редакции «Курьера» И.Д. Новик, указывает на существование фантастической истории, действие которой «происходило между небом и землей, и герой рассказа был чем-то средним между Манфредом и Демоном» [Брусянин 1912, 56]. В законченных же произведениях писателя, как отмечает Л.Н. Икитян, изображение дьявола / черта лишается романтического ореола и становится «слишком человеческим» [Икитян 2011, 140].
Образ дьявола / Сатаны представляет собой один из итогов философских размышлений Леонида Андреева о Боге и христианстве как религиозном учении. Одним из этапов этого осмысления стало создание повести «Жизнь Василия Фивейского» (1903). В 1904 г. в письме к В. Вересаеву Андреев признается: «Много думаю о себе, о своей жизни – под влиянием отчасти статей о В. Фивейском. Кто я? <...> Бога я не приму, пока не одурею, да и скучно вертеться, чтобы снова вернуться на то же место» [Вересаев 1961, 404].
В своих воспоминаниях В.В. Вересаев рассказывает о том, как Л.Н. Андреев делился с ним своими творческими замыслами (предположительно, разговор состоялся около 1907–1908 гг. после выхода «Жизни Человека», но до создания пьесы «Царь-Голод»). Так, одна из пьес должна была называться «Бог, человек и дьявол», где «человек – воплощение мысли. Дьявол – представитель покоя, тишины, порядка и закономерности. Бог – представитель движения, разрушения, борьбы» [Вересаев 1961, 408]. Эта пьеса так и не была написана, но образ дьявола и связанные с ним понятия были «распределены» по другим произведениям.
Обращаясь к произведениям, в которых речь идет об инфернальных силах, М.В. Еременко [Еременко 2001, 9] использует термин «дьяволиада». Стоит отметить, что говорить о выстроенной демонологии в творчестве Леонида Андреева не приходится. В этой связи важно уточнить используемый в статье категориальный аппарат. Под инфернальными персонажами в творчестве Леонида Андреева следует понимать широкий спектр образов, соотносимых с нечистой силой, включая черта, дьявола и Сатану. У Андреева границы между этими образами подвижны: внутри художественного мира нередко происходит семантическое наложение, при котором черт и Сатана могут называться дьяволом, однако иерархические отношения между ними сохраняются в случае, если эти образы упоминаются в рамках одного произведения («Правила добра» (1911), «Дневник Сатаны» (1919)). В статье понятия «дьявол», «черт», «Сатана» используются как функционально близкие, но не тождественные; предпочтение отдается обобщающему понятию «инфернальный герой», в то время как частные наименования («Сатана», «дьявол», «черт») применяются с учетом контекста конкретного произведения и иерархии образов.
Облик черта у Андреева, соответствует народным представлениям: он одет «как все люди» [Рябов 2024, 359], одновременно с этим в нем чувствуется нечто инородное, выдающее его инаковость. В.В. Рябов отмечает: «Черти часто принимают вид этнических и социальных “чужаков”: горожан, иностранцев, киргизов, барынь “в немецких платьях“, солдат, священников, монахов» [Рябов 2024, 359]. Действительно, Черт Карлович носит отчество немецкого происхождения и видится «предобрейшим господином» [Андреев 1990–1996, V, 15], Носач поражает попика своей неуклюжестью в соблюдении предписаний, «черт-чиновник» [Икитян 2011, 140] появляется в одежде священника, внешний вид адвоката Нулюса и помощника миллиардера Вандергуда, Эрвина Топпи, свидетельствует о том, что они имеют иностранное происхождение.
Для черта указание на его образ, который не соответствует привычному представлению о волосатом, рогатом существе с копытами, кажется оскорбительным («Правила добра», «Дневник Сатаны»). Рога как обязательный атрибут беса носит только Черт Карлович («Черт на свадьбе»).
Поведение, ассоциирующееся с чертом, связано с чрезмерностью и нарушением норм «бытового благочестия» [Рябов 2024, 362]: громким смехом, участием в застольях, танцах.
Итак, в творчестве Леонида Андреева черт появляется впервые в 1911 г. в малой прозе, где представлен его «травестированный» тип [Грузин 2001, 29] (ранее в драме «Анатэма» (1909) одноименный герой лишь ассоциирован с чертом через мотив искушения, но не назван таковым прямо).
Малая проза представлена рассказами «Покой» (1911), «Правила добра» (1911), «Черт на свадьбе» (1915).
В основе их сюжета – пребывание черта среди людей, которое дается в ироническом преломлении. Он предстает в традиционном для себя амплуа – мелкого пакостника и искусителя: Носач («Правила добра», 1911) заставляет попа проспать утреннюю мессу [Андреев 1990–1996, IV, 14], «черт-чиновник» [Икитян 2011, 140] («Покой», 1911) предлагает сановнику подписать посмертный договор о вечной жизни или вечном покое, Черт Карлович («Черт на свадьбе», 1915) на свадебном вечере заставляет дом танцевать, а затем подталкивает его к самоубийству (на распространенность подобного сюжета, где черт склоняет человека к добровольному уходу из жизни, указывает В. Рябов и в качестве примера приводит былички Читинской и Новгородской областей [Рябов 2024, 369]). Несмотря на это, появление черта как представителя ада не пугает людей. Это объясняется не столько его внешним сходством с человеком, сколько «понятностью» и «близостью» бесовского склада характера человеку.
Вочеловечивание чертей у писателя подразумевает как приобщение к быту людей (Носач, например, подметает церковь; «черт-чиновник» [Икитян 2011, 140] знает последовательность погребального обряда; Черт Карлович исполняет светские танцы), так и усвоению сути человеческой жизни, которая, согласно христианству, заключается в страдании как воздаянии за жертву Христа: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» [Лк 6, 21].
Идея страдания в земной жизни как разделение участи Христа утрачена людьми, на ее место приходит привычка жаловаться на жизнь, т. е. подлинное страдание подменяется его внешним проявлением. Эту привычку как некое ритуальное действие, характерное для «настоящего человека», перенимают черти. «От тоски я плачу, святой отец. Горько было мне, когда я уходил, а теперь еще горше, и нет мне радости в моем подвиге» [Андреев 1990–1996, IV, 24], – признается Носач попу.
Образ ада у Андреева носит иронический характер, поскольку в его устройстве легко угадываются приметы человеческой жизни. В «Покое» показана забастовка грешников, требующих новых мучений [Андреев 1990–1996, IV, 10]; в «Правилах добра» – публичная казнь вызывает ликование толпы. В рассказе «Черт на свадьбе» «дом вверх дном» буквально воплощает метафору перевернутого мира, завершаясь самоубийством дома.
Земной мир показан как мир спутанных отношений, неустойчивых ценностей, которые даже черта ввергают в отчаяние и ужас: «…когда надо – не убий; а когда надо – убий…» [Андреев 1990–1996, IV, 34].
Неспособность человека распознать черта свидетельствует об «искажен-ности» земного мира. Подтверждение этому находим в статье Леонида Андреева «Их приход» (1918), посвященной революции. В ней дается характеристика современному состоянию общества и среди прочих его черт называет «смешение лжи и правды» [Андреев 1994, 363] как свидетельство того, что в людях «поселился Дьявол» [Андреев 1994, 365]).
Стоит отметить, что в упомянутых произведениях понятия истины, справедливости, покоя – связаны именно с образом инфернального героя. Функции, доверенные ему, исполняются безусловно и критически не осмысливаются. Такая косность мышления становится препятствием на пути к пониманию подлинно человеческого. Рассуждая над экзистенциальной аксиологией в творчестве Леонида Андреева, С.А. Демидова объясняет этот феномен через понятия совести и любви как иррациональных творческих начал, противопоставленных «лукавому мудрствованию» [Демидова 2019, 94]. Вследствие слепого исполнения предписаний представления инфернального героя о добре как «мертвой» абстракции становятся основанием для наказания грешников. [Демидова 2019, 92]. Эти же функции Сатаны – «искушать и наказывать» [Сдобнов 2004, 18] – были описаны еще в новозаветных текстах.
По этой причине появление черта, а не ангела перед умершим сановником в рассказе «Покой» (1911) не кажется странным. Отсутствие необходимости в Страшном Суде может быть объяснено образом жизни сановника. Черт подписывает с сановником договор, потому что бесу принадлежит его душа (ср. в рассказе «Пример ближним» (1916) М. Кузмина: дьявол выносит брату Генна- дию посмертный приговор, поскольку тот «думал не о своей душе, не о ближних, а о своей чести, о достоинстве, о примере другим» [Кузмин 1916, 50]).
Сановник радуется встрече с чертом как доказательству вечной жизни. Герой стоит перед выбором между «окончательной смертью» [Андреев, 1994a, 9] – покоем и «особенной, несколько странной и даже подозрительной жизнью» [Андреев 1990–1996, IV, 9]. Комичность ситуации в рассказе Л. Андреева основывается на подмене понятий: ад преподносится как единственная возможность продолжить жизнь после смерти. Его противоположностью выступает вечный ненарушимый покой, который может быть достигнут при погружении в небытие. То же находим в драме «Анатэма»: Давиду Лейзеру как человеку праведному даруется бессмертная жизнь в «бессмертии света» [Андреев 1990–1996, IV, 467]. Типологически сходное представление о загробной жизни встречается в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: Берлиозу, т.к. он предпочитает служение политическим доктринам, а не истине [Капру-сова 2019, 414] уготованы забвение, небытие, а вечная тихая жизнь даруется Мастеру. Так, в романе М.А. Булгакова, как и в произведениях Л.Н. Андреева, характер загробного существования зависит от характера земной жизни и не ограничивается только попаданием души в Рай или Ад. Умершим может быть представлен иной, третий исход – погружение в небытие как «окончательная смерть». При этом за справедливость вынесенного решения отвечает «ведомство» Дьявола.
В пьесе «Анатэма», романе «Дневник Сатаны» изображен «серьезный» вариант дьявола. Сатана здесь выступает субъектом смеха, а идея поиска абсолютного добра продолжает испытываться.
В драме «Анатэма» (1909) Леонид Андреев стилизует библейский сюжет об искушении Иисуса Христа в пустыне: в пьесе «глупый, но честный человек» Давид Лейзер испытывается хлебом, чудом и властью. В качестве экспериментатора-искусителя выступает Анатэма – «князь тьмы» [Андреев 1990–1996, IV, 399], разыгрывающий роль адвоката Нуллюса.
Как истинный дьявол он искажает идею милосердия как высшей добродетели, устанавливая «порядки наизнанку». Анатэма в образе Давида Лейзера предлагает нуждающимся веру в чудо, а затем отбирает ее. Служение другим оборачивается смертью для Давида Лейзера: он погибает от рук просящих. В этом заключается попытка Анатэмы доказать Богу, как возведение добра в абсолют трансформируется в жестокость.
В дальнейшем дефиницию большого зла как большого добра находим в позднем романе Андреева «Дневник Сатаны». Важно заметить, что подмена понятий (или их намеренное смешение) принадлежит именно вочеловечивше-муся Сатане: «…я не знаю, что значит большое зло? Может быть, это значит: большое добро?» [Андреев 1990–1996, VI, 199–200]. Игра со значениями слов выдается за стремление к истине.
Понятие игры в романе также связано с пониманием жизни как театрального действия, этим объясняется и выбор декораций – Рим, палаццо. Однако эстетствующий Сатана видит в мире «дряннейшую репродукцию ада» [Андреев 1990–1996, VI, 143].
Разыгрывая спектакль, Вандергуд в качестве героя-антагониста для своей «пьесы» выбирает Фому Магнуса, который открыто заявляет о желании провести эксперимент над человечеством. Суть эксперимента заключается в том, чтобы обмануть ожидания людей и таким образом привести их к крайней сте- пени разочарования, результатом которого станет самоуничтожение. Замысел Фомы Магнуса, по его мнению, дает ему право претендовать на место Сатаны.
Выбор имени героя также представляется неслучайным: «Фома» в переводе с древнееврейского означает «близнец», Магнус в переводе с латыни – «большой»). В комментарии к роману отмечается, что таким образом автор «устанавливает соотношение между главными героями» [Андреев 1990–1996, VI, 627]. Действительно, Магнус может быть сопоставлен только с Вандергу-дом: его прошлое покрыто тайной, известно, что он, подобно чернокнижнику, увлекался химией, а его эксперимент направлен против человечества.
Однако в романе есть и другие герои, ассоциирующиеся с Сатаной. Кардинал Х., «ближайший друг и наперсник папы» [Андреев 1990–1996, VI, 149], внешне напоминает старую бритую обезьяну. На цитату из Библии: «Возлюби ближнего» он отвечает: «Любовь – это бессилие» [Андреев 1990–1996, VI, 152]. Подобная «обратная» интерпретация библейских заветов возможна лишь в мире с «перевернутыми» ценностями. Само сравнение с обезьяной также неслучайно: в культурной традиции Антихрист – пародия на Христа, «обезьяна Бога» [Рюмина 2010, 249].
Еще одним носителем дьявольских черт является его величество экс-король Э. Он поражает Вандергуда своей «счастливой уверенностью» [Андреев 1990–1996, VI, 206] в том, «король все может» [Андреев 1990–1996, VI, 207]. Его величество отрицает необходимость законов, ставя выше личность (а значит, и волю) короля.
Существование на земле «двойников» Сатаны подтверждает мысль о «кромешном мире» [Лихачев, Панченко 1976], воцарившемся на земле.
Фома Магнус выносит Вандергуду свой приговор: «Если ты Сатана, то ты и здесь опоздал. Понимаешь? Надо было приходить раньше, а теперь земля выросла и больше не нуждается в твоих талантах» [Андреев 1990–1996, VI, 246]. Так, человек изгоняет Сатану из «земного ада» как недостойного.
Размышляя над человеческой природой, Вандергуд приходит к выводу о ее противоречивости: «…ты, человече, вместил в себя Бога и Сатану – и как страшно томятся Бог и Сатана в этом тесном и смрадном помещении!» [Андреев 1990–1996, VI, 189]. Определяя специфику художественного мышления Андреева, С.А. Демидова подчеркивает, что в творчестве писателя «противопоставление добра и зла не субстанционально: одновременно присутствуя в сознании человека, добро и зло формируют противоречивость миропонимания личности» [Демидова 2019, 93]. (Похожую мысль находим в письме Л.Н. Андреева к В.В. Вересаеву за 1906 г.: «Можно подумать, что не от Адама, а от Иуды произошли люди, – с таким изяществом и такою грацией совершают они дело массового оптового христопродавчества» [Вересаев, 408]).
Принимая во внимание литературный диалог Л.Н. Андреева и Ф.М. Достоевского, на который указывали еще современники Андреева, кажется значимым вспомнить цитату из романа «Братья Карамазовы»: «Тут дьявол с Богом борются, а поле битвы – сердца людей» [Достоевский 1976, 100].
Однако в художественном мире Андреева душа человека соотносится не с образом поля битвы, а с образом тесного и смрадного помещения. В отличие от Достоевского, для которого спасение души героя остается возможным, Андреев в своей художественной системе демонстрирует обратное: сама идея искупления деконструируется. В этом смысле диалог Андреева с Достоевским приобретает полемический характер, поскольку в нем традиционное христианское миропонимание обнаруживает свое несовершенство.
Включая в свои произведения инфернальных героев, Андреев расширяет палитру используемых понятий для решения «проклятых вопросов». Об этом пишет Максим Горький, приводя цитату Андреева: «Я знаю, что бог и дьявол только символы, но мне кажется, что вся жизнь людей, весь ее смысл в том, чтобы бесконечно, беспредельно расширять эти символы, питая их плотью и кровью мира» [Литературное наследство 1965, 392–392].
Таким образом, образ инфернального героя в творчестве Леонида Андреева представляет собой сложную художественную репрезентацию духовного кризиса эпохи. Черт, дьявол, Сатана в произведениях писателя утрачивают традиционные демонические черты, обретая черты человеческие. Инфернальные герои становятся носителями не зла, а искаженного понимания добра и порядка, в то время как ад оказывается метафорой земного существования, утратившего аксиологическую устойчивость. Подобная трансформация образа дьявола соотносится с неомифологическим мышлением Серебряного века, в рамках которого инфернальный герой выполняет функцию маркера разрушенного миропорядка.