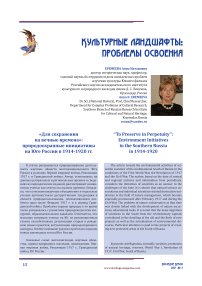"Для сохранения на вечные времена": природоохранные инициативы на юге России в 1914-1920 гг.
Автор: Еремеева Анна Натановна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Культурные ландшафты: проблемы освоения
Статья в выпуске: 3 (11), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается природоохранная деятельность научных обществ многонационального Юга России в условиях Первой мировой войны, Революции 1917 г. и Гражданской войны. Автор, основываясь на данных центральных и региональных архивов и сведениях из периодических изданий, рассматривает инициативы ученых как ответы на вызовы времени. Показано, что естественнонаучные объединения и отдельные ученые противостояли деструктивным тенденциям в области природопользования, обозначившимся особенно ярко после Февраля 1917 г. и в период Гражданской войны. Проблема охраны природы в то время тесно увязывалась с развитием природоведческих экскурсий, образовательными задачами. Отмечается, что массовая миграция ученых на Юг из революционных столиц способствовала детализации старых и рождению новых проектов, актуализации природоохранного дискурса. Особое внимание уделено проектам создания новых заповедных зон на Юге России.
Интеллигенция, научные общества, охрана природного наследия, заповедники, первая мировая война, революция 1917 г., гражданская война, юг России
Короткий адрес: https://sciup.org/170174939
IDR: 170174939
Текст научной статьи "Для сохранения на вечные времена": природоохранные инициативы на юге России в 1914-1920 гг.
Важной предпосылкой развития природоохранного движения в Российской империи в начале ХХ в. являлось наличие вузовской сети с естественнонаучными кафедрами и обществами при университетах и институтах, крупных научных объединений, таких как Императорское Русское Географическое Общество (ИРГО), Русское энтомологическое общество, Императорское Русское общество акклиматизации животных и растений и др., ботанических садов, опытных учреждений.
В пореформенный период широкий размах приобрело создание провинциальных обществ естественнонаучного и профиля. В регионах создавались и многоотраслевые краеведческие организации с целью всестороннего изучения губернии или области – ее природных ресурсов, животного и растительного мира, истории, археологии и этнографии.
На Юге Российской империи центрами естественнонаучных исследований, помимо вузовских (в Харькове, Одессе, Киеве, Новочеркасске, Екатеринославе) объединений, ботанических садов (Тифлисский, Никитский, Батумский, Сухумский), опытных станций, были Кавказский и Юго-Западный отделы ИРГО, отделения других общероссийских обществ. Активно работали региональные общественные объединения – Крымско-Кавказский горный клуб (Одесса), Крымское общество естествоиспытателей и любителей природы, Харьковское общество любителей природы, Русское бальнеологическое общество (Пятигорск) и др.
Важным направлением в деятельности естественнонаучных обществ в предвоенный период становится охрана природы. Природоохранные публикации известных ученых (И. П. Бородина, Д. Н. Анучина, В. В. Докучаева, Г. А. Кожевникова и др.), краеведов, писателей, общественных деятелей, международные съезды и конференции по охране природы, основание Постоянной природоохранительной комиссии при ИРГО (1912 г.) и аналогичных структур в его региональных отделениях способствовали постепенному формированию представлений о негативных последствиях потребительской ориентации общества. В академическом журнале «Природа» (выходил с 1912 г.), изданиях провинциальных на- учных обществ –- «Известиях Южно-русского общества акклиматизации», «Бюллетене Харьковского общества любителей природы», «Записках Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы», журнале Николаевского общества любителей природы «Природа», «Записках Кавказского отдела ИРГО», «Записках Новороссийского общества естествоиспытателей», «Известиях Общества любителей изучения Кубанской области» и др. – данная тема «набирала обороты».
Большой общественный резонанс имели природоохранные инициативы Новороссийского общества естествоиспытателей, Южно-русского общества акклиматизации (праздники древонасаждения), Хортицко-го общества охранителей природы. В 1913 г. в Харькове была проведена первая в России природоохранная выставка. Ее инициатором стал В. И. Талиев – председатель Харьковского общества любителей природы. В начале 1914 г. подобная выставка прошла в Киеве.
В результате инициатив «снизу» в Российской империи стали возникать охраняемые природные зоны. На Юге это были участки степи в низовьях Днепра в поместье Ф. Э. Фальц-Фейна Аскания-Нова, в области Войска Донского у Персияновки (участок находился в ведении Донского политехнического института). Заповедными объявлялись реликтовые рощи эльдарской и пицундской сосны, Лагодехское ущелье и др.
Государственный курс на оптимизацию рекреационного пространства, принятие Закона о санитарной и горной охране лечебных местностей 24 апреля 1914 г. способствовали большему вниманию к проблеме природопользования.
Каковы были основные тенденции природоохранной деятельности на Юге России в революционные годы? Как ученые – инициаторы охраны природного наследия – отвечали на вызовы времени?
С началом войны проблема охраны природы неизбежно отошла на второй план. Однако мероприятия по активизации исследования природных ресурсов, деятельность Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), созданной и возглавляемой академиком В.И. Вернадским, при участии известного геолога, будущего академика А. Е. Ферсмана, неизбежно пересекались с природоохранной проблематикой. В научных и популярных трудах, касающихся разведения и сбора лекарственных трав, растений, важных для производства стратегического сырья, авторы ратовали за соблюдение элементарных экологических правил.
В 1915 г. при Академии наук было создано Русское ботаническое общество. Инициатива поступила от Киевского общества естествоиспытателей. Его представители – ботаники С. Г. Навашин, Е. Ф. Вотчал и А. В. Фомин обратились к академикам И. П. Бородину и А.С. Фаминцыну. Академия ходатайствовала о проведении учредительного съезда, который состоялся в декабре 1915 г. Среди участников – представители высших учебных заведений, ботанических садов, опытных станций различных российских регионов [13]. Южные научные учреждения представляли и ученые эвакуированных с западных территорий вузов, в том числе обосновавшегося в Ростове-на-Дону Варшавского университета.
Актуализации экологического дискурса способствовала заинтересованность государства в формировании госпитальной базы и развитии курортов, прежде всего, на Юге России. На I Всероссийском съезде по улучшению отечественных лечебных местностей (январь 1915 г.) было высказано немало предложений относительно рационального природопользования. Члены возникшего в мае 1915 г. Кавказского общества содействия развитию лечебных мест, южнороссийских отделений образованного на съезде Всероссийского общества для развития и усовершенствования русских лечебных местностей обсуждали вопросы охраны природы в контексте перспектив курортного строительства на заседаниях. Поднимались они и в курортной прессе, в том числе в новых журналах – «Целебные силы России», «Целебный Кавказ», «Русская Ривьера».
Природоохранный импульс предвоенных лет способствовал созданию в годы Первой мировой войны новых общественных организаций и природоведческих подразделений старых. Пресса сообщала об основании Общества любителей и исследователей при- роды и населения Сухумского округа [19, с. 71]. Секция охраны природы (ее членами стали 29 человек) появилась в Обществе любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). В ее составе были экскурсионная, геологическая, ботаническая, зоологическая комиссии, а также комиссия по изучению водоемов [3, с. 3]. Руководителем ботанической комиссии стал бывший студент и постоянный корреспондент В.И. Вернадского Ф.В. Андерсон. В январе 1915 г. он писал академику из Екатеринодара: «Со слов народного учителя Павла Кондратьевича Перепелицына (Майкопский городской музей), чрезвычайно большого любителя до разных естественно-исторических экскурсий, могу сообщить, что близ селения Темнолес-ское [Майкопского отдела Кубанской области] недавно обнаружена сталактитовая пещера, еще мало известная даже и ближайшему населению, а потому еще хорошо сохранившаяся. <…> Священник о. Аркадий Добровольский [ст. Убинская Кубанской области] человек очень любознательный, любитель природы сообщил об источнике с целебной водой» [1, л. 9].
Проблема охраны природы в то время тесно увязывалась с развитием природоведческих экскурсий, образовательными задачами. Летом 1915 г. Орнитологическое общество в Киеве создало первое в Российской империи справочное экскурсионное бюро для проведения консультаций по организации ученических экскурсий в городе. Оно же в мае 1915 г. организовало курсы для подготовки руководителей экскурсий с детьми на природу [15, с. 200-201]. С многочисленными лекциями и статьями в прессе по природоохранной тематике выступал руководитель Общества В. М. Артоболевский.
Ученые и общественные деятели били тревогу по поводу необходимости сохранения действующих (например, заповедника Ф. Э. Фальц-Фейна Аскания Нова) и формирования новых заповедных зон. Большой утратой стало многократное сокращение численности зубров Беловежской пущи в результате военных действий. По инициативе Постоянной природоохранительной комиссия ИРГО был принят закон о заповедниках (октябрь 1916 г.). Непосредственно перед Февральской революцией в Забайкальской области был ос- нован государственный Баргузинский соболиный заповедник. Достаточно активно продвигался вопрос о создании Кавказского государственного заповедника «для сохранения на вечные времена в первобытной неприкосновенности местной природы с ее представителями растительного и животного царства, особенно зубров» [14, л. 2].
Внимание заинтересованных лиц привлекалось к необходимости постоянного контроля за состоянием объектов природного наследия. Так, Кавказский отдел ИРГО по предложению графини П.С. Уваровой (председателя Московского археологического общества) постановил принять меры к охране старого гигантского бука близ Гагр [18, с. 49-50]. Та же П.С. Уварова указала на ненадлежащее отношение к природному и историческому памятнику – Гунибской березовой роще (неподалеку от места пленения Шамиля). На страницах «Известий Кавказского отдела РГО» в ответ сообщалось, что в течение двух лет «по обстоятельствам военного времени» с Гунибской дачи отпускались дрова для местного гарнизона, что «ныне эти отпуски и вырубки леса прекращены» [16, с. 157]. В разделе «Охрана природы на Кавказе» этого издания публиковались материалы, отражавшие позитивный (например, охранные мероприятия в Пицундской сосновой рощи) и негативный (уничтожение зарослей папоротника близ Адлера) опыт. Авторы статей выступали с предложениями о создании новых заповедных зон [21].
Февральская революция 1917 г. – молниеносная и практически бескровная – как любое социальное потрясение несла в себе разрушительную силу. Деструктивная энергия масс нацеливалась, прежде всего на то, что напоминало о самодержавном прошлом России: дворцы с их интерьером и произведениями искусства, памятники царям, а также места царской охоты. Либерализация режима воспринималась частью населения как вседозволенность. Журнал «Природа» печатал тревожные сводки следующего содержания:
«Вследствие аграрных движений, связанных с революцией, и высокой ценности мяса и кож, опасность истребления зубров чрезвычайно повысилась. Академия наук ходатайствует перед Временным правительством о скорейшем принятии необходимых мер для охраны».
«Тифлисское общество акклиматизации животных выступает с призывом неотложно принять меры к охране крупных зверей Кавказа <…> После переворота не удалось сразу объявить охранные участки (бывшие в собственности царской семьи – А.Е.) государственной собственностью, и во многих местах началась не охота, а избиение крупной дичи».
«Вследствие аграрных волнений в Таврической губернии угрожает опасность степному заповеднику, устроенному Ф.Э. Фальц-Фей-ном близ Аскания-Нова <…>. Ходатайства об охране были направлены по адресу Временного Правительства, в частности, министру земледелия, а также в Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. Правительством был командирован специальный комиссар для расследования и принятия необходимых мер» [20, с. 883-884].
В качестве комиссаров в «детище» Ф. Э. Фальц-Фейна были последовательно направлены молодые зоологи, будущие руководители Крымского заповедника В. Э. Мартино и М. П. Розанов, ботаник и радетель природоохранной деятельности, заведующий Естественно-историческим музеем Херсона И. К. Пачоский, известный путешественник генерал П.К. Козлов.
Крымский заповедник (территория, ранее находившаяся в собственности императорской семьи) был признан государственной охранной зоной решением Временного правительства от 23 апреля 1917 г. [9, с. 340] В июле 1917 г. заповедник стал, наряду с Таврической ученой архивной комиссией, Севастопольской биологической станцией, заповедником Ф. Э. Фальц-Фейна, Карадагской научной станцией, другими опытными учреждениями и музеями, полноправным членом только что созданной Таврической научной ассоциации во главе с энтомологом С. А. Мокржецким. Новое учреждение в трудные революционные годы занимало активную позицию в плане охраны культурного и природного наследия.
Новороссийское и Бессарабское общества естествоиспытателей совместно с Крымско-Кавказским горным клубом, Южнорусским энтомологическим обществом разрабо- тали текст обращения об охране памятников южнорусской природы «путем объявления их национальной собственностью». Обращение было разослано в Министерство народного просвещения и Министерство земледелия для представления в Учредительное собрание, а также «большинству российских естествоиспытателей, различным ученым учреждениям» [11, с. 4].
Харьковское общество любителей природы выпустило в виде плаката составленное профессором В.И. Талиевым (назначенным комиссаром по охране природы Харьковской губернии) воззвание к русским гражданам о необходимости охраны русской природы, «особенно настоятельной в наше тревожное время». Общество предлагало выслать этот плакат всем желающим распространить его бесплатно [20, с. 884].
На общероссийских и региональных съездах естественнонаучных организаций 1917 г. подчеркивалась общенациональная важность охраны природы, роль в этом представителей государства – охранных комиссаров, необходимость создания комиссии по устройству заповедников, представления в Учредительное собрание проекта закона об охране природы.
Широко обсуждался вопрос о специальном съезде по охране памятников природы. На заседании Кавказского общества акклиматизации животных с участием представителей Кавказского отдела РГО в Тифлисе 1 сентября 1917 г. подчеркивалась необходимость созыва съезда «не позже созыва Всероссийского Учредительного собрания», «желательно в одном из южных городов России – Харькове или Ростове-на-Дону». Участники заседания постановили «добиваться на съезде выработки мер к осуществлению действительной возможности охраны как уже объявленных на Кавказе памятников природы (Эльдарской сосновой рощи, Пицундсской сосновой рощи, Лагодех-ского ущелья, рощи итальянской сосны близ сел. Наджвия Артвинского округа, Мазитско-го ущелья в Арешском уезде и Тифлисских лесных заказников), так и тех, которые пока только намечены к охране теми иди другими упреждениями или лицами (роща крымской сосны близ сел. Архипо-Осиповка Черномор- ской губернии, заросли царственного папоротника близ Адлера, Ткварчельское ущелье с зарослями тисса и самшита, лавровая роща на г. Урта в Зугдидском уезде, сосновые заказники близ Сарыкамыша, озеро Гёй-Гёль близ Ели-заветполя, роща на Гунибе, сосновая роща на Шоанинской скале, Кавказский государственный зубриный заповедник, Бештаугорская лесная дача и защитный парк под Эльбрусом, окрестности Красной Поляны, исполинский чинар близ Шуши, исполинский бук близ Гагр и зимовье птиц в Кизил-Агачском заливе Каспийского моря». Кроме того, планировалось возбудить ходатайство о признании заповедными ряда новых территорий – «участка около 800 десятин на острове Сары, около Ленкорани, озера Ах-чала в низовьях Аракса для охраны гнездовий чаек и другой морской птицы; участка около ст. Далляр – для охраны ту-рачей; окрестностей сел. Муганло Сигнахского уезда в Иорской долине – для охраны фазанов; участка около ст. Караязы – для охраны оленей; участка вблизи Лагодех (заповедник князя Сан-Донато) – для охраны туров и горных коз; Боржомского имения – для охраны редких животных и птиц». Важным признавалось ходатайство «о прирезке к Кавказскому зубриному заповеднику участка земли в Сухумском округе на южном склоне Кавказского хребта, куда в настоящее время замечается кочевание зубров, и об охране зарослей лотоса в разливах Аракса на Мугани» [17, с. 377-378].
Записка с приложением карты от 2 октября 1917 г. члена КЕПС, известного географа В.П. Семенова-Тян-Шанского (сына знаменитого путешественника) «О типах местностей, в которых необходимо учредить заповедники типа американских национальных парков» начиналась следующим образом: «Теперь, когда Россия приближается к тому или иному разрешению земельного вопроса и, следовательно, того или иного связанного с ним перераспределения всех земельных владений, своевременно выяснить те географические типы местностей, которые надлежит сохранить в неприкосновенности на вечные времена для потомков, подобных имеющимся и все увеличивающихся в количествах в Соединенных Штатах и Канаде». Ученый обосновывал необходимость основания в России не менее
46 национальных парков, в т.ч. в Европейской России с Крымом – не менее 22, на Кавказе – не менее 4, в Сибири не менее 14, в Средней Азии не менее 6 [14, л. 14-20].
Смена власти, начало Гражданской войны, с одной стороны, оттеснили природоохранные проблемы, с другой, еще больше актуализировали работу в этом направлении научной интеллигенции.
Руководители природоохранных организаций и обществ апеллировали ко всем без исключения режимам, пытаясь привлечь внимание к необходимости защитить природу. Возглавлявший Крымский национальный заповедник М. П. Розанов в начале 1918 г. отправил в Симферополь руководителям большевистского Военно-революционного комитета письмо следующего содержания:
«Настоящим имею честь довести до сведения Военно-революционного штаба, что я… вынужден был покинуть вверенное мне дело на том основании, что разбежавшиеся после военных столкновений на Альме и под Ялтой банды вооруженных людей ходят по лесу и ежедневно приходят к нам с угрозами, требованиями и просьбами о пище и приюте, что ставит нас в крайне тяжелое положение.
Вместе с тем прошу Военно-революционный комитет принять со своей стороны меры к тому, чтобы редкостные породы животных (оленей, зубров, косуль и др.), которых, кроме Национального Заповедника нигде в мире нет, не были бы совершенно истреблены.
Кроме того, прошу указать мне источники, из которых мы могли бы доставать средства, чтобы удовлетворить служащих жалованием» [12, л. 8] .
Подобные письма впоследствии получали руководители сменявших друг друга режимов. Ведь в течение всего периода Гражданской войны природоохранные зоны Крыма, вынужденно превратившиеся в территории для прохода воинских частей, страдавшие вследствие грабежей и вандализма, нуждались в постоянной защите.
М.М. Завадовский (будущий академик ВАСХНИЛ), работавший в знаменитом заповеднике Аскания-Нова, вспоминал: «Я был свидетелем тяжелых дней этого мирового учреждения, которое понесло немалые по- тери, находясь в котле гражданской борьбы. Аскания страдала более всего от отходящих воинских частей, независимо от их окраски» [10, c. 292]. Однако самоотверженность возглавлявших заповедник ученых сберегла его от разрушения.
Обеспокоенность в области охраны природы демонстрировали доклады на Первом съезде естествоиспытателей Украины, труды и деятельность ученых созданных в условиях «парада суверенитетов» Украинской Академии наук, университетов в Тифлисе и Баку, других вузов и научных учреждений Юга бывшей Российской империи.
Массовая миграция на Юг из революционных столиц ученых, в том числе крупных специалистов в области естественных наук, способствовала детализации старых и рождению новых проектов, актуализации природоохранного дискурса.
Упомянутая выше графиня П.С. Уварова, в годы Гражданской войны жившая в г. Майкопе, покоренная «красотой и благолепием» кубанских станиц, с горечью отмечала «неряшливое» отношение кубанцев к лесному богатству края, где «лес уничтожается», «рубят и корчуют повсеместно». Эта тема, судя по документам, обсуждалась с Х. Г. Шапошниковым – истинным подвижником в деле охраны окружающей среды, вскоре возглавившем Кавказский государственный заповедник [8, c. 32].
По инициативе Управления земледелия и землеустройства Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России в июне 1919 г. был основан Комитет по устройству Черноморского побережья. Председателем назначили члена Совета Управления и одновременно руководителя Общества изучения Черноморского побережья Кавказа Н. И. Воробьева. Он привлек к проектной деятельности ведущих специалистов.
Выработка положения, программы и объяснительной записки о необходимости открытия зоологического сада и биологической станции была поручена профессору В.А. Вагнеру – профессору Петроградского университета и одновременно туапсинскому дачнику. В письме на его имя констатировался факт недостаточного изучения на побережье
«фауны как наземной, так и морской». Отмечалось, что «в то время как на Крымском полуострове существует биологическая станция в Севастополе и великолепный зоологический сад “Аскания Нова”, на Черноморском Побережье нет ни одного подобного учреждения» [6, л. 1]. В рукописи В.А. Вагнера «Зоологический сад и Биологическая станция на Черноморском побережье» основное внимание уделено опыту устройства аналогичных учреждений в российских столицах и Западной Европе [6,. л. 2-6].
Проект устройства ботанического сада в Новороссийском районе выполнил по заказу Комитета бывший директор Петроградского Ботанического сада, после 1917 г. переселившийся в Сочи А.А. Фишер фон Вальдгейм. Отправным пунктом стало убеждение ученого в том, что изучение местной флоры, а также тех полезных растений, которые могли бы быть в этом регионе, не только желательно в научном отношении, но необходимо для улучшения местных культур и благосостояния края [4, л. 1-2].
В докладе Н.И. Воробьева, составленном в ответ на официальную записку Управления земледелия и землеустройства от 8 мая 1919 г. «Очередные мероприятия по охране памятников природы», определено 16 объектов, нуждающихся в охране. По берегам озера Рица предлагалось учредить заповедники пихты, в Гагринском лесничестве – заповедники для сохранения зарослей дикорастущего благородного лавра, самшита, дикого винограда. Планировалось также создать 3 заповедника в районе альпийской зоны «для сохранения неприкосновенности образцов альпийских лугов». Указывалось на необходимость взять под охрану и объявить неприкосновенными сталактитовые пещеры, окаменелые деревья, представителей фауны (в частности, зубров) [4, л. 10-11].
Новочеркасское отделение Русского ботанического общества и Общество естествоиспытателей при Варшавском (с 1917 г. - Донском) университете подняли вопрос об организации на Дону заповедников с целью охраны ковыльной, полынной и песчаной степи [7, л. 449-450]. Был разработан проект положения о Донских заповедниках. В качестве таковых были намечены 6 участков. Знаменательно, что первый выпуск нового издания - «Журнала Новочеркасского отделения Русского Ботанического Общества» – открывался статьей В. М. Арциховского (руководителя отделения, отца будущего археолога, дешифровщика новгородских берестяных грамот А. В. Арцихов-ского), посвященной степным заповедникам на Дону. «До сих пор не все природные достопримечательности края известны. Необходимо составление списка - “инвентаря”. Необходимо спасать остатки степи. Степь нужно изучать изо дня в день, как изучают климат…» – призывал ученый [2, c. 9].
В годы Гражданской войны был очередной раз поднят вопрос об устройстве заповедников в Астраханском крае. Ученый агроном, активист природоохранного движения, заместитель астраханского Наркома просвещения Н. Н. Подъяпольский обращался в Москву, в научный отдел Наркомпроса. Важной предпосылкой успеха данного начинания ходатай называл недавнее открытие университета [7, л. 77]. Инициатива была поддержана «сверху»; с весны 1919 г. началась работа по созданию Астраханского заповедника.
Природоохранные инициативы интеллигенции в условиях кризисного социума со всей очевидностью демонстрировали ее патриотическую позицию и веру в будущее России. Многие проекты революционной эпохи воплотились в ближайшие годы. Отдельные предложения, ныне забытые, представляют интерес и в наши дни.
Список литературы "Для сохранения на вечные времена": природоохранные инициативы на юге России в 1914-1920 гг.
- Архив Российской академии наук. Ф. 518. Оп.3. Д. 44.
- Арциховский В. Об организации на Дону степных заповедников и научной станции при них // Журнал Новочеркасского отделения Русского Ботанического Общества. 1919. Вып. 1. С. 1-11.
- В ОЛИКО // Кубанская мысль. 1915. 24 окт.
- Государственный архив Краснодарского края. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 27.
- Государственный архив Краснодарского края. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 28.