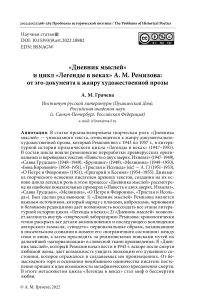«Дневник мыслей» и цикл «Легенды в веках» А. М. Ремизова: от эго-документа к жанру художественной прозы
Автор: Грачева Алла Михайловна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована творческая роль «Дневника мыслей» - уникального текста, относящегося к жанру документально-художественной прозы, который Ремизов вел с 1943 по 1957 г., в литературной истории прозаического цикла «Легенды в веках» (1947-1955). В состав цикла вошли ремизовские переработки древнерусских оригинальных и переводных текстов: «Повесть о двух зверях. Ихнелат» (1947-1949), «Савва Грудцын» (1948-1949), «Брунцвиг» (1949), «Мелюзина» (1949-1950), «Бова Королевич» (1950-1951), «Тристан и Исольда» (sic! - А. Г. ) (1951-1953), «О Петре и Февронии» (1951), «Григорий и Ксения» (1954-1955). Динамика творческого освоения писателем древних текстов, создания на их основе цикла легенд и роль в этом процессе «Дневника мыслей» рассмотрена на наиболее показательных примерах («Повесть о двух зверях. Ихнелат», «Савва Грудцын», «Мелюзина», «О Петре и Февронии», «Тристан и Исольда»). Был сделан ряд выводов: 1) «Дневник мыслей» Ремизова является важным источником, который наряду с планами, набросками, черновыми и беловыми редакциями дает возможность воссоздать все этапы литературной истории цикла «Легенды в веках»; 2) «Дневник мыслей» позволяет заглянуть внутрь «творческой лаборатории» Ремизова: хронологически точно раскрыть все детали возникновения и последующего воплощения авторского замысла; «увидеть» первоначальные образы, возникавшие в писательском сознании в момент его «пограничного состояния» между сном и явью, а затем проследить за ремизовскими поисками путей их дальнейшей «материализации» в словесной ткани произведения; 3) «Дневник мыслей», который Ремизов начал вести в 1943 г. вскоре после смерти любимой жены, дает возможность увидеть эволюцию его душевного состояния, которое отражалось в создаваемых им произведениях. От безысходного горя и осознания неизбывного одиночества писатель постепенно пришел к идее возможности метафизического преодоления смерти. В итоге метасюжетом цикла «Легенды в веках» стал миф о бессмертии любви.
Алексей ремизов, стиль, авангард, проза хх века, древнерусская литература, «дневник мыслей», «легенды в веках», жанр, легенда
Короткий адрес: https://sciup.org/147237944
IDR: 147237944 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10882
Текст научной статьи «Дневник мыслей» и цикл «Легенды в веках» А. М. Ремизова: от эго-документа к жанру художественной прозы
Среди классиков русской литературы ХХ в., чье творчество было постоянно и фундаментально связано с древнерусской культурой, на первом месте заслуженно стоит Алексей Михайлович Ремизов. Как известно, в связи с отъездом писателя в эмиграцию, в СССР его имя на долгие годы было забыто или лишь вкратце поминалось в политизированном негативном контексте. Заслуга научного открытия богатейшего наследия Ремизова на его Родине во второй половине 1960–1970-х гг. принадлежала медиевистам, оценившим творческие эксперименты писателя со средневековыми текстами (см.: [Лурье], [Дмитриева], [Грачева, 1977]). Традиция исследования древнерусских тем и мотивов в творчестве Ремизова была и далее продолжена учеными, занимавшимися культурой Древней Руси. В число медиевистов, сумевших адекватно осмыслить и научную базу, и эстетическую новизну авангардных «пересказов» Ремизова, входит и Александр Валерьевич Пигин, завершивший всестороннее изучение древнерусского памятника XVII в. — «Повести о бесноватой жене Соломонии» [Пигин, 1998] — глубоким научным анализом ремизовского художественного текста 1929 г. «Соломония» (первоначальное название: «Русская повесть XVII в. о бесноватой Соломонии по записи устюжского попа Иакова 1671 г.») [Пигин, 1989]. В дальнейшем ученый и сам продолжал изучение «древнерусской линии» творчества писателя [Пигин, 2003], и включал ее в сферу проблематики работ своих аспирантов и студентов. В связи с этим исследования, посвященные творчеству Алексея Ремизова, органичны в кругу тем, связанных с широкими научными интересами Александра Валерьевича Пигина.
В последнее 10-летие своего творческого пути Ремизов вновь обратился к древнерусской оригинальной и переводной литературе («беллетристике») для написания на основе этих источников художественных произведений, в итоге составивших цикл «Легенды в веках» (см. подробнее: [Грачева, 2000: 166–310]). Основной лейтмотивной темой большинства вошедших в него текстов стала тема великой любви, которая одна способна побороть смерть. Биографическим «эмоциональным подтекстом» цикла послужила неутихающая скорбь Ремизова по умершей в 1943 г. жене — Серафиме Павловне Ремизовой-Довгелло, и стремление увековечить память о ней в своих творениях. В состав цикла вошли тексты: «Повесть о двух зверях. Ихне-лат» (1947–1949), «Савва Грудцын» (1948–1949), «Брунцвиг» (1949), «Мелюзина» (1949–1950), «Бова Королевич» (1950–1951), «Тристан и Исольда» (sic! — А. Г.) (1951–1953), «О Петре и Фев-ронии» (1951), «Григорий и Ксения» (1954–1955). Основная часть текстов, созданных в 1940–1950-х гг., была опубликована отдельными изданиями в фактически финансируемом самим писателем эфемерном издательстве «Оплешник», и это была публикация комплекса произведений, сходных по стилевым и проблемно-тематическим параметрам. Единственным исключением стало издание двух «пересказов» древнерусских памятников, когда Ремизов добавил к публикации недавно созданного им переложения демонологической повести XVII в. о Савве Грудцыне текст созданной гораздо раньше своей переработки другой повести того же жанра — «Соломония» [Ремизов, 1951]. В дополняющем книгу предисловии от автора писатель обосновал создание подобной дилогии единством времени возникновения и религиозно-нравственной проблематики источников — древнерусских повестей.
Проводившееся учеными изучение литературной истории отдельных произведений ремизовского цикла «Легенды в веках» было основано прежде всего на исследовании их первоисточников — указанных самим автором публикаций древнерусских памятников в авторитетных дореволюционных изданиях и в ТОДРЛ, а также на анализе последовательности изменений многочисленных редакций текстов, находящихся ныне в разных частях некогда единого личного архива Ремизова, которые рассредоточены по нескольким архивохранилищах (ГМИРЛИ, РГАЛИ, ИРЛИ). Однако в последнее время, кроме этих, уже введенных в научный оборот ресурсов, был выявлен еще один архивный источник, позволяющий существенно дополнить представление о ходе творческой работы писателя над текстами. Это «Дневник мыслей» Ремизова — уникальный текст, относящийся к жанру документально-художественной прозы, который писатель регулярно вел с 1943 г. и почти до дня своей смерти (26 ноября 1957 г.)1. В настоящее время текст «Дневника мыслей» частично опубликован (см.: [Ремизов, 2013, 2015, 2017, 2020]). Научная работа по полному изданию этого капитального источника информации о жизни и творчестве писателя продолжается в ИРЛИ РАН.
Ремизов вел свой «Дневник мыслей» на страницах школьных «общих тетрадей». На левой (оборотной) стороне тетрадного листа делались краткие заметки о дневных событиях. Это были восходящие к традициям стандартных бухгалтерских записей перечни лиц, которые приходили в парижскую квартиру Ремизова в доме 7 по улице Буало или участвовали в значимых для него событиях. Среди таких дел были ежегодные посещения могилы Серафимы Павловны, присутствие в церкви на панихиде по ней и их дочери — Наташе, дружеские собрания для совместного празднования Пасхи, Рождества и т. д. На этой же странице записывались сведения о полученных Ремизовым гонорарах за публикации с указанием точных библиографических сведений; делались пометы о получении материальной помощи, писем и посылок; фиксировались даты смерти как известных деятелей русской культуры, так и обыкновенных эмигрантов — друзей и знакомых литератора. Все записи сопровождались цифрами, обозначающими дату дневного события.
На правой («ночной») стороне разворота тетради располагались помеченные двойной датой, которая обозначала ночь с такого-то на такое-то число (например, «11–12. V», «28–29. VII», «1–2. XII» и т. д.), пересказы увиденных писателем снов разнообразной тематики, в основном, связанной с дневными делами и заботами, а также с полученной информацией. Однако среди «ночных» текстов надо особо выделить те, которые, по сути, являлись фиксацией продолжающегося и ночью процесса творчества. Во-первых, это были нарративы: сно-формы, сюжеты и герои которых были навеяны постоянными мыслями Ремизова о создаваемых произведениях. Во-вторых, сюда же надо включить тексты, созданные в традиционной дневниковой форме повествования и содержащие написанные «от первого лица» авторские размышления о поисках художественного решения поставленной творческой задачи. Фактически, все записи такого рода, входящие в состав «Дневника мыслей», также являются составной частью литературной истории произведений писателя середины 1940–1950-х гг. и, в частности, его сочинений, в итоге вошедших в цикл «Легенды в веках». Для подтверждения высказанного тезиса о «Дневнике мыслей» как о дополнительном звене литературной истории ремизовских легенд, обратимся к ряду примеров.
В 1947 г. Ремизов заинтересовался сюжетом древнерусского переводного памятника «Стефанит и Ихнелат». Его переработка положила начало формированию цикла «Легенды в веках».
В источнике — восточной притче о дружбе двух шакалов, которые благодаря своему союзу могли противостоять окружающему их «звериному» миру, — распад их двуединства (казнь одного из друзей) влек за собой трагическую гибель (самоубийство) другого, не мыслившего своего существования без ушедшего. В своем «пересказе» Ремизов наделил обоих главных героев автобиографическими чертами (они — старые интеллигенты, писатели, эмигранты) и сделал основой концепции своего произведения так волновавшую его после смерти Серафимы Павловны тему безысходности=убийственности человеческого одиночества. Обращение к «Дневнику мыслей» позволяет проследить ход авторской работы по отысканию семантического «ключа» к актуализации древней притчи и поиски ее словесного выражения. Ремизов продолжал и ночью обдумывать идейно-художественную структуру и стиль своей легенды:
Запись с 18 на 19 октября 1948 г.:
«Оканчивая “Стефанита и Ихнелата” меня вдруг осенило: слезы Ихн<нелата> открыли мне разгадку — С<тефанит> и Их<нелат> — это дружба (самоубийство Стеф<анита>) “увенчанного”, а Лев и Телец, хороша дружба: наговор “следящего” Льву на Тельца и Тельцу на Льва разрушил до убийства Тельца: друг убил друга, а не друг убил себя, предвидя гибель (смертная казнь) друга. / Вот эта мысль закрыла мой сон. Я все просыпался и схватывался: не позабыть бы».
Запись с 7 на 8 ноября 1948 г.:
«Рассматривал тетрадь со “Стеф<анитом> и Ихнелатом”. На правой странице печатный текст, переписанный моей рукой и картинки. Когда дохожу до картинки, чего-то скучно. Думаю, уничтожу текст. Остается одна картинка. И тут какая-то тетка учит меня по-французски: “При уничтожении надо читать”. А произносит она плохо, думаю: не буду — буду по-русски».
Запись от 19–20 ноября 1948 г.:
«Фраза из “Стеф<анита> и Ихнелата” — два предложения. Не могу так соединить, чтобы созвучало».
Запись от 21–23 ноября 1948 г.:
«Все пишу, не могу отстать — отдельные фразы в “Стефаните и Ихнелате”».
Запись от 25–26 ноября 1948 г.:
«Наконец я понял, как надо разделить книгу “Стефанита и Ихне-лата”. В ней 4 части. Я отделал страницы. И читаю. И это повторяется. Первый раз до 2 ч<асов> ночи, а потом под утро».
Запись от 7–8 января 1949 г.:
«Читал Сувчинскому “Стефанита и Ихнелата”. И очень взволновался. И все поправлял отдельные фразы — так всю ночь. Спал с перерывами, сновидения навевались и таяли».
Ремизовская «Повесть о двух зверях» осталась единственным произведением цикла, в котором ведущей лейтмотивной темой стала тема экзистенциального одиночества человека. В этой легенде наиболее явственно проявилось острое чувство покинутости и ощущения бессмысленности существования, переживаемое самим писателем и скрытое за сукнами развернутого иносказания — истории героев старинной повести.
В дальнейшей работе над циклом Ремизов изменил направленность своего интереса к древнерусским текстам-источникам в свете определенной корректировки отношения к свершившемуся — смерти любимой. Не отображение бездны отчаяния и далее гибели как единственного выхода для того, кто остался жить после утраты близкого человека, теперь было для него главным. В последующих произведениях из цикла «Легенды в веках» переживаемое героем чувство, используя ремизовский термин, полного «пропада» сменилось переживанием катарсиса, поскольку Ремизов стал осмыслять земную разлуку двух любящих как мистериальную «смерть», являвшуюся не концом, а этапом для последующего метафизического «воскресения», формой перехода из мира кажимостей в пространство сущностей, в котором любовь была одной из трансцендентных категорий вечности.
Для раскрытия своей философско-мифологической концепции «любви–смерти–воскресения» Ремизов обратился к поиску таких древнерусских оригинальных и переводных памятников, основой сюжетов которых было повествование о великой трагической любви главных героев. Для них она являлась источником гибели, но, одновременно, и залогом бессмертия, так как была одним из фундаментальных сущностных принципов вечного бытия.
В таком «ключе» в 1948–1949 гг. Ремизов переосмыслил древнерусскую демонологическую «Повесть о Савве Грудцыне». Композиционным центром его варианта истории о сделке между человеком и бесом, о договоре, заключенном ради обретения любви, стала так называемая «исповедь Саввы». В ней главный герой мысленно признавался убитой им возлюбленной — жене купца Божена Степаниде — в безграничности своего всепоглощающего чувства. В трактовке автора (и его главного героя) любовь как мировое начало приобретала ключевое значение в проблеме теодицеи, именно она могла и должна была «оправдать» совершенный грех убийства. Анализ черновых редакций ремизовского произведения показал, что после написания ряда различных вариантов текста «исповеди Саввы», Ремизов решил использовать стилистику отображения «потока сознания», примененную в «Улиссе» Джеймса Джойса. И именно в «Дневнике мыслей» зафиксирована динамика изменения творческого мышления автора; поиски Ремизовым художественных средств для выражения своих идей; искания, в ходе которых традиционный «внутренний монолог» героя трансформировался в авангардный «поток сознания».
Запись с 18 на 19 марта 1949 г.:
«Пишу сцену “Исповеди” Грудцына. Мне хочется представить — слов не слышно посторонних, а движение — это и выгонять священника».
Запись с 19 на 20 марта 1949 г.:
«И начинаю “Исповедь” Грудцына. И все сбиваюсь, думаю: “Это было в 1946-м году”».
Запись с 20 на 21 марта 1949 г.:
«Все из Грудцына. Мне диктуют. И в середине “Исповеди” славянский текст. Так это не ладится. Пробую поправить — ничего не выходит. И снова начинаю — и опять».
Запись с 2 на 3 апреля 1949 г.:
«Потом я медленно, как пластинки, перекладываю, раскладываю фразы в “Грудцыне”. / Передо мной очень тонко сделанные полоски вишневого цвета, дотронуться, все порваться может, и не соберешь. Я знаю, что это мои главы и повесть о Грудцыне».
Запись с 8 на 9 апреля 1949 г.:
«Вижу на площади в Шуе (из “Саввы Грудцына”: засыпая, думал о сне). С паперти спускается Степанида. На ней серое. И христосуется с Виктором. И потом с ним: она поцеловала его в лоб. И это его обидело: он плюнул ей в лицо и отошел. Пустая комната со сводами без окон. И тогда стена поднялась, и он видит, Степанида: на ней коричневое, вкраплено красное. Она обращается к нему и голос ее издалека: “С возвращением”. “Да, — подумал, — обрадов<ала>сь ты”. И она кружит, чтобы подойти к нему, но очень далеко. И он проходит через раздавшую<ся> стену к ней, но она так далеко».
Запись с 8 на 9 июля 1949 г.:
«Будто бы к каждой главе “Грудцына” у меня предисловие. В рукописи мелко. И вязко. Хочу исправить. А оригинал пропадает. Только на машине переписанное. Мысленно восстановляю: тяну фразу за фразой. И все не так. Не могу вспомнить, как у меня было написано».
Запись с 28 на 29 декабря 1949 г.:
«Хожу по фразам: я их не глажу, а углубляю. Они из глины или бархат. Думал сквозь сон, как поправить в “Грудцыне”, ч<то>б<ы> звучало “смирись”: / “Любовью не жертвуют, — сказал Савва, — любовь покрывает и самый грех”. — “Смирись!”».
Начиная с «Саввы Грудцына», в легендах Ремизова одной из главных тем становится тема любви как краткой встречи, момента соприкосновения земного и нереального (сказочного, чудесного, сакрального), за которым следует их недолгое соединение, дальнейшее трагическое расставание и чаяние оставшегося на земле о новом свидании=слиянии в ином пространстве, в мирах горних сфер. В авторском сознании Ремизова постепенно обозначались контуры единого метасюжета его цикла. В плане реализации новой художественной задачи — раскрытия главной идеи «Легенд в веках» — показательна работа писателя над переработкой легенды о Мелюзине.
Древнерусская переводная повесть о трагической любви рыцаря Раймонда и сказочной феи Мелюзины привлекла внимание писателя вследствие видимой им в тексте-источнике явственной ориентации сюжета сказания на параметры складывавшегося у него метасюжета создаваемого прозаического цикла. О процессе постепенной кристаллизации идеи о том, как адаптировать средневековую легенду к параметрам общего замысла «Легенд в веках», говорят уже начальные упоминания о «Мелюзине» в «Дневнике мыслей».
Запись с 26 на 27 января 1950 г.:
«В объявлении о содержании в “Мелюзине” попало из “Грудцына”. Надо как-то, сохранив, поставить на место в “Мелюзине” и соединить “Мелюзину” с “Грудцыным”».
Запись с 29 на 30 января 1950 г.:
«“Надо прочитать все, что написано о Мелюзине”. И читаю свою рукопись: “Предисловие. Подготовка к охоте”».
Для Ремизова в процессе его работы над своим вариантом легенды о Мелюзине основой формирования художественной концепции явилось переосмысление кульминации сюжета текста-источника — открытия Раймондом табуированного секрета феи: ее тайных превращений из прекрасной женщины в фантастические страшные чудища. В средневековом сказании нарушение «сказочного запрета» становилось причиной безвозвратного расставания героев. У Ремизова интенсивное обдумывание данной узловой сцены повествования выразилось в своеобразном, отчасти осознаваемом, психологическом процессе — уподоблении себя своему персонажу, как бы «наложении» истории Алексея и Серафимы Ремизовых на историю Раймонда и Мелюзины. Этот момент идентификации зафиксирован на страницах «Дневника мыслей» в ночной записи с 10 на 11 февраля 1950 г.:
«И тут я провалился. И из глубины смотрю: я спрашиваю себя: “Может ли меня (Раймонда) видеть Мелюзина, или она поднялась так высоко на скалу, откуда я пропал из ее глаз?” И слышу, такого я никогда не слышал: музыка — из розоватого выблескивает. И понимаю: это заря, куда скрылась Мелюзина: это ее голос. / Помнят о чем-то в беде. Я ее всегда буду помнить, моя жизнь безрадостна, а она? / По легенде, Мелюзина криком возвещает о грозящей беде. Она меня вспоминает вот этой музыкой зари — я ее слышал».
Для Ремизова это образное ночное «видение» явилось неким озарением. Он, наконец, нашел ту основу, на базе которой он мог выстроить художественную концепцию своей «Мелюзины». На факт понимания Ремизовым важности сюжетной последовательности образов, возникших в его мозгу в момент пограничного состояния сознания между сном и явью, указывает то, что писатель, находясь под впечатлением виденного ночью, сразу же, «по свежим следам», запечатлел его на страницах «Дневника мыслей», а потом незамедлительно вновь «вольно» пересказал то же сновидение на отдельном листе бумаги.
Последний сохранился, будучи вложен в рукопись одной из редакций ремизовской «Мелюзины»2:
«А это из моего сегодняшнего сна (с 10–11 II) / Вижу себя Раймондом.
Я потерял Мелюзину, а с нею все — мне без нее не жизнь. Глубоко под землей стою я, вокруг стены, земля. Мое отчаяние говорит мне, что выхода нет, и нет такой птицы-мечты, которая бы подняла меня из ямы и вынесла на свет. И я спрашиваю: Мелюзина поднялась в своем отчаянии на такую высоту, мне ее никогда не увидеть, да и она меня. Но никогда я ее не забуду — единственная».
К этой рукописи «Мелюзины» был приложен и другой отдельный лист бумаги, содержащий еще один значительно переработанный вариант записи того же видения. Этот текст был озаглавлен: «Сон Раймонда».
В итоге в созданной писателем версии легенды о Мелюзине трагизм конца союза рыцаря и его исчезнувшей волшебной супруги лишен полной безысходности. В финале ремизовско-го произведения намечены потенциальные возможности мистериального завершения истории о расставании любящей пары. Скорбь Раймонда по утраченному счастью освещена лучами памяти и чаяния новой встречи=соединения с любимой в том пространстве, куда она перешла. О такой интерпретации сюжета древней легенды свидетельствует и последняя «ночная» помета Ремизова, сопряженная с темой «Мелюзины»:
Запись с 11 на 12 октября 1950 г.:
«Расколотый и засыпан осколками, но мои половины не враждебны друг другу: одна в виде листа — серая “Мелюзина”, и к ней подбираются листки, мелко записанные, не разобрать. Другая — я сам».
Дальнейшее создание произведений цикла «Легенды в веках» было напрямую связано с развитием параметров уже сформировавшегося метасюжета.
Для понимания наметившейся тенденции к абстрагированию и мифологизации семантики цикла остановимся на примененной Ремизовым методике параллельной одновременной работы над двумя текстами-источниками: над древнерусской повестью о Петре и Февронии и над «романом о Тристане» — переводным памятником XVII в., из которого белорусские и русские читатели смогли узнать об истории любви Тристана и Изольды. Обращение к творческой переработке сразу двух древних легенд, русской и западноевропейской, было реализацией сознательного авторского замысла. Для Ремизова принципиально значимым было «преодоление» не только временной, но и пространственной «ограниченности» обоих текстов, каждый из которых был связан с определенным веком, с конкретной страной. Целью было выявление их внутреннего единства как сложившихся в разных типах культур вариантов мирового мифа о бессмертной любви.
Запись с 22 на 23 апреля 1951 г.:
«Читаю текст — то, чего не могу днем, здесь для меня ясно: отч<ет>ливо бегут строчки. Текст трудный: фраза начинается с “конца”, чтобы понять, надо перечитывать и по привычному обернуть. Текст о Муромск<их>: Петре и Февронии. Оказывается, муж Евпраксии болен, а летящий змий принимает образ Петра».
Запись с 6 на 7 мая 1951 г.:
«“Выеденный сон”. Может, вспомнится чт<о>-н<нибудь> “О Петре и Февронии” — да “интересно” ли это в моих пребываниях? Разве что о Змии. Видение “Змия” Павлу после рассказа жены. В житии ничего сказочного: все реально и объяснено. А Феврония — колдунья».
Запись с 25 на 26 мая 1951 г.:
«Словесная корзинка. Слова — цветы. Не могу сплести венка. Не связывается. И не те цветы. И вдруг после стольких усилий зря, я нашел, венок заплелся. / Так вчера я
что-то
/ Так вчера я что-то понял в «Февронии». / А сегодня <я что-то понял> в природе “demoiselle” с “нереальными поручениями” / — Да это “феи”! (“Тристан и Изотта”)».
Запись с 16 на 17 июня 1951 г.:
«Вихрь Тристана и Изольды. От чтения — там, где расходятся тексты: русский, французский и итальянский».
Запись с 9 на 10 июля 1951 г.:
«Две редакции заключения к “Тристану и Изольде”. В одной распространенной замыкается круг трагедии “ любви-страды ” — страда, неизбежная при любви, оправдывает любовь; цвет, сияние любви, пронизан сверкающей горечью, любовь обречена на самосгорание. /
Другая редакция: пусть так — любить и погибнуть, но любовь — жизнь, и без любви не живет человек, а как и все в жизни неизбежна гибель».
Запись с 14 на 15 июля 1950 г.:
«Перед стеной пишу на больших листах свои пожелания. И вижу, одно и то же — всего три строчки. Почерк неразборчивый — на третьем листе трудно узнать, что это я писал. / Читаю: “Мертвые души” — “Тристан и Изольда” — “О Петре и Февронии”. / Ласточка принесла золотой волос Изольды. / И просыпаюсь. Все-таки я спал и не так мучился с невралгией: “дрался на турнире”».
Запись с 30 на 31 июля 1951 г.:
«Я на берегу моря — поднялось до облаков. И из него выходят: Тристан и Изольда и Ромео и Джульетта. / Я просыпаюсь. / И снова вижу их. Они меняются местами».
Запись с 7 на 8 сентября 1951 г.:
«Я знаю, это рассказ о Февронии. Я нарисовал его, и мои рисунки, став вещами, погрузились под землю. И я прохожу переходами из “горницы в горницу” покинутого княжеского двора. Подымаюсь на поверхность. Пустынно, как под землей. Куда все девались? И снова перехожу, и переставляю скрытые под землей вещи».
Запись с 16 на 17 сентября 1951 г.:
«После долгого срока — явление довоенное, поминаю в своих снах, как предсонье, вздрог — как молонья. Я думаю, от напряжения, вчера мучился над Февронией — исправил одну страницу. (“Мучаются” не когда пишут, а когда исправляют)».
Запись с 15 на 16 октября 1951 г.:
«Читаю “Тристана и Изольду”. Повторяется запев: “Неутоленная любовь — мое горькое счастье”».
В «Дневнике мыслей» Ремизов зафиксировал тот факт, что он прослушал радиотрансляцию музыкальной драмы Р. Вагнера «Тристан и Изольда». Эта точно датированная дневниковая запись имеет важное значение в установлении последовательности этапов литературной истории его нового произведения.
Запись с 25 на 26 июля 1951 г.:
«В провалах думаю о “Тристане и Изольде”. Как странно, вчера я задумался, с чего начать, и решил: на корабле: Тристан везет Изотту к королю Марку. Отворяю радио: объявляют: передача из Бейрута “Т<ристан> и И<зольда>”. Слушал внимательно — не все понимаю. Но одно ясно: так, как подумал, совпадает с Вагнером».
Знакомство с музыкальной драмой немецкого композитора стало поворотным моментом в работе писателя. После 25 июля 1951 г. идейно-художественная концепция ремизов-ской легенды стала базироваться на музыкальной системе лейтмотивов и на поэтике либретто «Тристана и Изольды» Вагнера. При этом если переработка древнерусской повести о Петре и Февронии была выполнена писателем достаточно быстро, возможно, в виду глубокой аккомодации его художественного мышления к религиозно-нравственным и эстетическим принципам древнерусской культуры, то «пересказ» кельтской легенды о Тристане и Изольде занял более продолжительное время. На страницах «Дневника мыслей» зафиксирована интенсивная, не прекращавшаяся и ночью работа по обдумыванию идейно-художественной структуры и стилистики этого произведения.
Запись с 4 на 5 октября 1952 г.:
«Сон прерывается: продолжаю писать Тристана».
Запись с 18 на 19 октября 1952 г.:
«Думал о “Тристане”, глава: встреча с Изоттой».
Запись с 6 на 7 декабря 1952 г.:
«В глазах неясная рукопись, перечень имен. I ч<асть> “Тристана” кончена. Теперь II-ая часть. Он живет в башне 2 года: приключения. Порядок именной — запомнить трудно. / Фея Син зачаровала их».
Запись с 14 на 15 декабря 1952 г.:
«Пишу “Плаванье Тристана” — зачарованный сон. “Кур-метраж” — короткие сцены — в продолжение 2-х лет. И остановился: как дальше? Т<ристан> отвозит И<зотту> к Марку. М<арк> его отправляет в Нант. Из<отта> белые руки еще не ясно. И письмо Т<ристана>».
Запись с 16 на 17 декабря 1952 г.:
«Все думаю и во сне полосы мыслей о заключении к моему “Тристану и Изотте”. Просыпаюсь, курю, раздумывая».
Запись с 22 на 23 марта 1953 г.:
«Из “Тристана и Изольды”. И я говорю: “Прорезающая музыка — Вагнер”».
Анализ всех редакций «Тристана и Исольды», как и данных эпистолярных свидетельств, показал, что в сравнении с созданием других «Легенд в веках» работа Ремизова над этим произведением была самой сложной. И примечательно, что все ее этапы нашли отражение на страницах «Дневника мыслей».
Ограниченный объем статьи не позволил полномасштабно раскрыть детальную, документированную архивными данными картину трудов Ремизова над каждым произведением цикла «Легенды в веках». В связи с этим для представления динамики творческого освоения писателем древних текстов и создания на их основе нового комплекса художественного произведений малого прозаического жанра были отобраны наиболее показательные примеры.
В итоге можно сделать вывод о том, что «Дневник мыслей» Ремизова является важным источником, который наряду с планами, набросками, черновыми и беловыми редакциями дает возможность воссоздать все этапы литературной истории произведений Ремизова, вошедших в цикл «Легенды в веках».
«Дневник мыслей» позволяет заглянуть внутрь «творческой лаборатории» Ремизова: хронологически точно раскрыть все детали возникновения и последующего воплощения авторского замысла; «увидеть» первоначальные образы, возникающие в писательском сознании в момент его «пограничного состояния» между сном и явью, а затем проследить за реми-зовскими поисками путей их дальнейшей «материализации» в словесной ткани произведения.
«Дневник мыслей», который Ремизов начал вести в 1943 г. вскоре после смерти любимой жены, дает возможность исследовать эволюцию его душевного состояния, которое отражалось в создаваемых им произведениях. От безысходного горя и осознания неизбывного одиночества писатель постепенно пришел к идее возможности метафизического преодоления смерти. «Дневник мыслей» раскрывает скрытые подробности творческого процесса создания цикла «Легенды в веках», метасюжетом которого в итоге стал миф о бессмертии любви.
St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2013, vol. 1. 374 p. (In Russ.)
St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2015, vol. 2. 380 p. (In Russ.)
St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2017, vol. 3. 731 p. (In Russ.)
St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2020, vol. 4. 719 p. (In Russ.)
Chief Researcher, The Institute of Russian Literature (Pushkinskiy Dom), The Russian Academy of Sciences (nab. Makarova 4, Saint Petersburg, 199034, Russian Federation); ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4708-098X ; e-mail: irliran@ mail.ru.
Список литературы «Дневник мыслей» и цикл «Легенды в веках» А. М. Ремизова: от эго-документа к жанру художественной прозы
- Грачева А. М. Структура патерикового рассказа и ее отражение в сборнике А. Ремизова «Бисер малый» // Материалы республиканской конференции Студенческого научного общества (СНО) 1977. Тарту, 1977. [Вып.] 3: Русская филология / отв. ред. Р. Касик. С. 66–77.
- Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб.: Дмитрий Буланин. 2000. 334 с.
- Дмитриева Р. П. «Повесть о Петре и Февронии» в пересказе А. М. Ремизова // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. ИРЛИ (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1971. Т. 26: Древнерусская литература и русская культура XVIII–XX вв. С. 155–176.
- Лурье Я. С. А. М. Ремизов и древнерусский «Стефанит и Ихнелат» // Русская литература. 1966. № 4. С. 176–179.
- Пигин А. В. Повесть А. М. Ремизова «Соломония» и ее древнерусскийисточник // Русская литература. 1989. № 2. С. 114–118.
- Пигин А. В. Из истории русской демонологии XVII в. Повесть о бесноватой жене Соломонии: исследование и тексты / отв. ред. Н. В. Понырко. СПб.: Дмитрий Буланин. 1998. 266 с.
- Пигин А. В. Древнерусская повесть о бесе Зерефере в пересказе Алексея Ремизова // Алексей Ремизов: исследования и материалы. СПб.; Салерно, 2003. [Вып. 2] / отв. ред. Алла Грачева, Антонелла Д’Амелия. С. 93–103.
- Ремизов А. Бесноватые: Савва Грудцын и Соломония. Париж: Оплешник. 1951. 93 с.
- Ремизов А. М. Дневник мыслей: 1943–1957 гг. / отв. ред. А. М. Грачева. СПб.: Пушкинский Дом. 2013. Т. 1: Май 1943 — январь 1946. 374 с.
- Ремизов А. М. Дневник мыслей: 1943–1957 гг. / отв. ред. А. М. Грачева. СПб.: Пушкинский Дом. 2015. Т. 2: Январь 1946 — март 1947. 380 с.
- Ремизов А. М. Дневник мыслей: 1943–1957 гг. / отв. ред. А. М. Грачева. СПб.: Пушкинский Дом. 2017. Т. 3: Март 1947 — февраль 1950. 731 с.
- Ремизов А. М. Дневник мыслей: 1943–1957 гг. / отв. ред. А. М. Грачева. СПб.: Пушкинский Дом. 2020. Т. 4: Февраль 1950 — ноябрь 1951. 719 с.