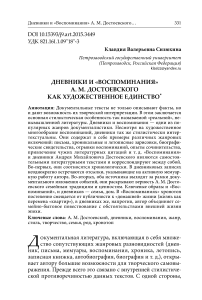Дневники и «Воспоминания» А. М. Достоевского как художественное единство
Автор: Сизюхина Клавдия Валерьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
Документальные тексты не только описывают факты, но и предоставляют возможность их творческой интерпретации. В этом заключается основная стилистическая особенность так называемой «реальной», невымышленной литературы. Дневники и воспоминания - наиболее популярные жанры документалистики. Несмотря на художественное многообразие воспоминаний, дневники так же стилистически интертекстуальны. Они содержат в себе примеры различных жанровых включений: письма, хроникальные и летописные зарисовки, биографические свидетельства, отрывки воспоминаний, опыты сочинительства, привлечение чужих литературных цитаций и т. д. «Воспоминания» и дневники Андрея Михайловича Достоевского, представляя собой самостоятельные литературные тексты, творчески корреспондируют между собой. Во-первых, они соотносятся хронологически. В дневниковых записях неоднократно встречаются отсылки, указывающие на активную мемуарную работу автора. Во-вторых, оба источника выходят за рамки лишь документального изложения событий, но и раскрывают верность А. М. Достоевского семейным традициям и ценностям. Ключевые образы и «Воспоминаний» и дневников - семья, дом. В «Воспоминаниях» хронотоп постепенно смещается от публичности к «домашней» жизни (жизнь как перемена «квартир»), в дневниках же, напротив, автор объединяет семейно-бытовое повествование с обстоятельствами внешней жизни эпохи.
А. м. достоевский, дневники, воспоминания, жанр, стиль, творчество, семья, род, хронотоп
Короткий адрес: https://sciup.org/14748936
IDR: 14748936 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3449
Текст научной статьи Дневники и «Воспоминания» А. М. Достоевского как художественное единство
Документальная литература, включающая в себя множество сопутствующих жанровых разновидностей (дневник, письма, мемуары, воспоминания, хроника, летопись, записная книжка, автобиография, биография и т. д.), открывает автору большие возможности для творческого самовыражения. Прежде всего это связано с внутренней стилистической противоречивостью данных текстов. С одной стороны, они предполагают отказ от творческого вымысла и факто-графичность описаний. С другой, означенные установки не препятствуют раскрытию личности автора. Описывая повседневные события действительности, актом литературного творчества автор гармонизирует собственную жизнь, привносит свою индивидуальность в человеческую общность. Документальность не подразумевает отстраненную констатацию биографических, исторических или культурных фактов: все предметы, ситуации, попавшие в поле зрения автора, опосредованы его личными размышлениями и переживаниями. Суждение М. Ю. Михеева о «частичной документальности» мемуарной прозы в равной степени применимо ко всем документальным жанрам: «…текст оказывается частично документальным, а частично художественным, иногда независимо от воли автора, но порой автор вполне трезво отдает себе в этом отчет» [13, 141]. Различие документальных и художественных текстов заключается в творческих установках автора. Автор-документалист преломляет внешние события эпохи, но не выходит за пределы биографического времени, а следует хроникальной истории собственной жизни. Литератор преодолевает границы как исторических, так и биографических реалий и выдумывает героев, их жизненные обстоятельства.
На первый взгляд, воспоминания обладают более сложной композиционной структурой, нежели дневник. Дистанция между прошлым и настоящим, текущим моментом и воспоминанием инициирует активность творческого сознания. Документальность проявляется в изложении реальных биографических фактов из жизни автора и его окружения, что подкрепляется оглашением важных «поворотных» дат, топонимов. Часто для усиления реалистичности автор прибегает к использованию эпистолярных цитаций. Письма, введенные в мемуарную прозу, образуют «самостоятельный микросюжет»: способствуют более глубокому психологическому осмыслению людей и событий, передают лингвостилистические особенности эпохи, хранят образы «героев своего времени», переводят речь автора из монологической в диалогиче-скую1. Литературная самобытность текста обнаруживается в «самом процессе создания автобиографического воспоминания»: «…важно, что написано и как написано» [19, 144].
Пространственно-временная организация дневника так же, как у воспоминаний, подвижна и многообразна. Скрип-туальная регулярность автора дневника в описании событий и привязанность этих событий к «дню сегодняшнему» или не столь далекому прошлому2, выступают в качестве отличительных признаков жанра, но не исчерпывают его подлинной стилистической оригинальности. Дневниковый текст подобен комете, которая, прорываясь за пределы собственных жанровых характеристик, оставляет позади себя шлейф из всевозможных родовых вариаций — писем, воспоминаний, биографических и автобиографических зарисовок, хроникальных отступлений, литературных набросков («пробы пера» — как цитации чужих произведений, так и собственное словотворчество), изложений ярких анекдотических ситуаций (случаев из жизни), сновиденческих на-блюдений3. Чем выше уровень саморефлексии автора дневника, тем рельефнее и многослойнее стилистическое обрамление дневникового повествования. Наибольшей творческой выразительности авторское слово достигает на границе между трансляцией факта и осознанием самого себя в этом факте (то, что Б. Хазанов конкретизирует понятиями «исповедь», «самоанализ», «саморазоблачение», «самомучитель-ство», «самоупоение» [22, 180]). Смысловые изобразительные переплетения внутри дневникового жанра К. Кобрин определяет посредством антиномии «всеобщее-уникальное»: «он (дневник. — К. С.), хочет этого или нет, фиксирует опыт, который читателем расценивается одновременно как уникальный и всеобщий. Живейший интерес к дневникам балансирует как раз на грани уникального и всеобщего» [9, 289]4. Оказываясь вовлеченным в практику планомерной скрип-туальной деятельности, автор сначала упорядочивает, «записывает», а затем и «перечитывает» собственную жизнь. По справедливому замечанию К. С. Пигрова, «жизнь дневника — это его перечитывание» [15, 72]. Схожие взгляды выказывает и Е. И. Калинина: «Личный дневник предполагает регулярное обращение к записям на протяжении долгого периода времени <…> авторов, возвращающихся к чтению своих записей, интересуют не столько события, происходившие в их жизни в описываемый период времени, сколько то, какими они были, и те изменения, которые произошли с тех пор в них самих» [8, 186].
Воспоминания и дневники могут осмысляться автором как отдельные художественные системы, либо быть частями общей творческой работы. Во втором случае дневник играет роль первичного текста воспоминаний: «дневники и воспоминания, объединяясь, не только дополняют текст информативно, но и заметно усиливают художественную значимость друг друга»5. Так, в процессе подготовки «Воспоминаний», реконструируя события 1866—1867 годов, А. Г. Достоевская обращалась к своему стенографическому дневнику [1, 82]. Отмечая эстетическую и художественную целостность мемуарного и дневникового текстов А. Г. Достоевской, И. С. Андрианова также подчеркивает предельную психологическую откровенность ее стенографического дневника, который «не только обладает литературными достоинствами традиционного личного дневника, но и представляет новую разновидность этого жанра в русской литературе — личный стенографический дневник (курсив автора. — К. С. )» [2, 240].
Дневники и «Воспоминания» А. М. Достоевского можно рассматривать с разных точек зрения: 1) в качестве индивидуальных художественных источников; 2) как текстологически корреспондируемые элементы творческой амальгамы. На текстологическую соотносимость дневников и «Воспоминаний» указывает их хронологическая взаимодополняемость. Творческий замысел создания мемуарного текста «Воспоминаний» возник у А. М. Достоевского в июле 1875 года. Тогда, по словам автора, он, взяв отпуск от служебных занятий и всецело погрузившись в круг близких и дорогих ему людей, «был настроен самым счастливым образом»6. Следовательно, первичная литературная предпосылка не включала в себя какие-либо негативные психологические коннотации, а обуславливалась, скорее, красотой переживаемого мгновения (эмоциональной радостью от общения с семьей), желанием остановить время, продлить мгновение — и тем самым, воскресив в памяти образы собственного прошлого, сопоставить их с наблюдаемой панорамой нового времени, с течением жизни жены и детей7. Грядущий летописный труд А. М. Достоевский препровождает небольшой пояснительной преамбулой («Что-то вроде введения или вступления») с выражением основной идеи писания: «…я хочу написать свои записки, в которых помещу все, что помню о своем младенчестве и юности, а также и все обстоятельства последующей моей жизни» (11). Вскоре автором был подготовлен небольшой эпизод по впечатлениям из своих детских лет, фрагменты которого вошли в первую посмертную биографию Ф. М. Достоевского 1883 года, составленную О. Ф. Миллером [11]. Передавая в ноябре 1882 года бесценные рукописные материалы для публикации, А. М. Достоевский не задается целью возвестить о собственном литературном даровании. Будучи талантливым документалистом, а не сочинителем, он прежде всего возлагает надежды на фактологическое достоинство записей: «Сочту себя истинно счастливымъ, если мои воспоминанія будутъ пригодны для биографіи моего до-рогаго и знаменитаго брата»8.
После обнародования О. Ф. Миллером рукописных отрывков, повествующих о жизни семьи Достоевских до отъезда старших братьев Михаила и Федора на обучение в Петербург, А. М. Достоевский отложил дальнейшее воплощение задуманного творческого эксперимента до осени 1895 года. Вернувшись к «Воспоминаниям», автор трудится над своим литературным детищем до лета 1896 года. Писательской активности А. М. Достоевского помешала стремительно прогрессирующая осенью 1896 года болезнь: «Осенью этого года он заболел, писать уже не мог, переселился в Петербург в семью своей старшей дочери Евгении Андреевны Рыкачевой и 7 марта 1897 года <…> умер от рака» (5).
Впервые «Воспоминания» А. М. Достоевского с сокращениями увидели свет 29 марта 1930 года9. Несмотря на урезанный формат издания, радость от их публикации для Андрея Андреевича была без преувеличения неимоверной. Именно ценой его титанических усилий по хранению и расшифровке обширного отцовского архива, кропотливых трудов по корректуре готовящихся к печати материалов, знаковое летописное свидетельство семейно-родового древа Достоевских получило должное распространение. Обо всех перипетиях редакторской работы над рукописными текстом «Воспоминаний», в том числе и об откровенно напряженном характере взаимоотношений А. А. Достоевского с «Издательством писателей», можно судить по его письмам 1920-х годов к А. П. Семенову-Тян-Шанскому, М. В. Волоцкому, Л. П. Гросс-ману10. Если поместить всю соответствующую переписку Андрея Андреевича в один хронологически выдержанный литературный документ (своего рода эпистолярный дневник), то мы получим наглядное подтверждение творческой семейной преемственности, взаимообратимости художественного процесса. По сути, эдиционная практика А. А. Достоевского гармонично встраивается в литературную парадигму «Воспоминаний»: Андрей Андреевич, вслед за отцом возложив на себя обязанности семейного летописца, сам становится автором, «переписывает» мемуарный текст, раскрывает стилистические неточности, неясности прочтения (отсюда и используемые в работе методы осмысленной творческой эвристики ма-териалов11 — в противовес сухому безличному комментарию).
В разделе «Приложения» после основного текста «Воспоминаний» Андрей Андреевич поместил бережно сохраненные отцом образцы эпистолярной переписки из семейного наследия Достоевских: письмо М. Ф. Достоевской к мужу, несколько писем М. А. Достоевского к жене и одно письмо к старшей дочери Варваре Михайловне, письма Михаила и Федора Достоевских к отцу, письма Ф. М. Достоевского к А. А. и А. Ф. Куманиным, П. А. Карепину (муж Варвары Михайловны Достоевской) и А. М. Достоевскому.
Четыре письма родителей (два письма М. А. Достоевского к жене — из Москвы в Даровое от июля-августа 1833 года, и два письма М. Ф. Достоевской к мужу — из Дарового в Москву, датированные маем 1835 года), а также одно даровское письмо отца к Ф. М. Достоевскому от 27 мая 1839 года, составленное им незадолго до своей смерти, Андрей Михайлович собственноручно внес в первую главу «Воспоминаний». Основной причиной оглашения или поводом к оглашению указанных примеров семейного эпистолярия послужило неосторожное высказывание О. Ф. Миллера о будто бы патологически скрытном и невыдержанном нраве Михаила Андреевича Достоевского: «По воспоминаніямъ нѣкоторыхъ родственниковъ, онъ былъ человѣкъ угрюмый, нервный, подозрительный» [11, 20]. В личной сыновней оценке характера отца Андрей Михайлович желает восстановить доброе имя М. А. Достоевского и развеять череду сомнительных и несправедливых обвинений: «Нет, отец наш, ежели и имел какие недостатки, то не был угрюмым и подозрительным, то-есть каким букой. Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас и веселым» (93—94).
Для своих мемуаров А. М. Достоевский выбирает оригинальную стилистическую структуру: он разбивает повествование на «квартиры». Каждая квартира символизирует определенный этап жизни Андрея Михайловича — детство и отрочество, юношество (переезд в Петербург), процесс обучения в училище гражданских инженеров в Петербурге, профессиональная деятельность (служба в Елисаветграде, Симферополе, Екатеринославе и Ярославле). Особую биографическую ценность представляют детские наблюдения А. М. Достоевского, озаглавленные как «Квартира первая. Рождение, младенчество и отрочество, проведенные в семействе отца (Московская Мариинская больница)». Здесь автор представляет интересные портретные зарисовки родителей — Михаила Андреевича (1788—1839) и Марии Федоровны (1800—1837), раскрывает теплый и нежный характер их взаимоотношений, сообщает об особенностях домашнего быта, описывает картины совместных поездок с братьями Михаилом и Федором в село Даровое. Даровские эпизоды выступают наиболее яркой иллюстрацией детских впечатлений А. М. Достоевского.
Помимо портретных зарисовок родителей, детские воспоминания Андрея Михайловича также включают в себя изображения ключевых персоналий из родственного окружения Достоевских со стороны матери — прадеда М. Ф. Котель-ницкого, двоюродного деда В. М. Котельницкого, тетушки Александры Федоровны Куманиной (сестры Марии Федоровны, в девичестве Нечаевой), ее мужа Александра Алексеевича Куманина и дяди Михаила Федоровича Нечаева. Все перечисленные имена не представляли биографической тайны для исследователей — за исключением фигуры М. Ф. Котель-ницкого. Воссоздать целостную картину личности и судьбы прадеда Михаила Федоровича, равно как и проследить историю рода Котельницких стало возможным благодаря мемуарному свидетельству А. М. Достоевского.
Основываясь на материале «Воспоминаний», Г. А. Федоров провел разыскания в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги и реконструировал генеалогическую линию Котель-ницких, начиная от прапрадеда Федора Андреева (около 1697 — около 1740), священника церкви Николая Чудотворца в Котельниках (см. главу «Отец и сын Котельницкие» в книге: [21, 65—88]). После смерти Андреева его место занял сын Михаил Федорович, прослуживший в этой должности около двадцати лет. Таким образом, предположение А. М. Достоевского о принадлежности Котельницких к дворянскому роду не получило доказательства.
Озвученный А. М. Достоевским факт многолетней (23 года) корректорской деятельности прадеда М. Ф. Котельницкого в Московской Синодальной типографии, снискавшей ему чин коллежского регистратора — напротив, подтвердился. Как резюмирует автор «Воспоминаний»: «по всей вероятности личность эта была недюжинная» (19). Андрей Михайлович исходит из высокой степени требований, которые предъявлялись к корректорам типографии: они должны были обладать глубокими познаниями в области богословия, греко-латинских языков, философии. Дух просвещения, научной дисциплины М. Ф. Котельницкий передал своему сыну Василию Михайловичу, который вышел на новый уровень семейного образования. С 1781 года В. М. Котельницкий проходил обучение в Университетской гимназии, затем поступил на медицинский факультет, преподавал медицинскую химию.
Дневники А. М. Достоевского охватывают период с 1884 года по 1896 год. Работу над ними Андрей Михайлович начал вести уже на исходе жизни, в позднем возрасте. В случае с «Воспоминаниями» для обоснования столь затянувшейся хронологической паузы в писании (напоминаем, что замысел к созданию мемуарного текста возник в 1875 году, но самый пик творческой активности пришелся на период 1895— 1896 годов) можно подобрать вполне оправданное объяснение — недостаток времени (служебная занятость, домашние хлопоты). В ситуации с дневниковой практикой столь взрослая литературная интенция продиктована иными более сложными причинами. С психологической точки зрения, возрастные параметры автора дневника играют важную роль в понимания функциональной направленности дневникового текста. По мнению О. Г. Егорова, «начинать дневник на исходе жизни человека подталкивают особые психологические причины» [5, 244]. Продолжая свои рассуждения, исследователь очерчивает круг возможных побудительных мотивов, инициирующих «бессознательные движения души автора»: «Это и потеря родных и близких, единомышленников и друзей, и потребность подвести некоторые жизненные итоги, и желание попробовать свои силы в новом роде деятельности (или новом жанре)» [5, 244]. Вероятно, изначально дневниковая активность А. М. Достоевского была стимулирована прогрессирующей болезнью жены Домники Ивановны и в дальнейшем поддерживалась возрастающим стремлением автора к скриптуальной эмоциональной компенсаторности.
Все записи в дневниках Андрея Михайловича Достоевского выстроены строго хронологически: автор не прекращал ведение последнего дневника до осени 1896 года (последняя заметка датируется 18-м октября 1896 года), то есть до того момента, когда усиливающиеся приступы смертельного недуга окончательно лишили его возможности писать. За все время дневниковой работы А. М. Достоевский сделал только один перерыв, фактически и психоэмоционально вызванный утратой жены: с 14 марта 1885 (самой записи нет, проставлена только дата) по 13 февраля 1887 года.
Темпоральная непрерывность, обязательная регулярность дневниковых сообщений влечет за собой деформацию устойчивого стилистического каркаса: чем быстрее и выразительнее реакция автора на происходящие вокруг него события, тем больше новых интертекстуальных вкраплений привносится в повседневный повествовательный абрис текста. В процессе анализа тематической вовлеченности «Воспоминаний» А. М. Достоевского в документальный хронотоп дневникового текста, сразу обнаруживается ряд актуализирующих процесс мемуарной работы цитаций. К примеру, отрывок из заметки 13 ноября 1895 года: «…Утро занимался письменно и закончилъ свои Елисаветградскіе воспоминанія. Теперь же Богъ поможетъ пріймусь за воспоминанія дѣтства и юности, и доведя ихъ до водворенія въ Елисаветградѣ, буду имѣть полное свое жизнеописаніе со дня рожденія и до тридцати трехъ лѣтняго возраста» (ДН1894—1895, л. 117 об.-118)12. Или фрагмент следующей записи от 14 ноября 1895 года (возобновление прерванного литературного писания о детстве Андрея Михайловича): «Утро до 12ти пробылъ дома. Съ утра написалъ письмо къ Рыкачевымъ (семейство Евгении Андреевны Рыкачевой — старшей дочери А. М. Достоевского. — К. С.), которое и закончилъ къ 9ти. Затѣмъ розыскалъ тетрадку своихъ старыхъ воспоминаній начатыхъ въ 1875 году, и приступилъ къ началу воспоминаній о дѣтствѣ» (ДН1894— 1895, л. 118). В целом заметки А. М. Достоевского не содержат детального комментария о проделанной работе над литературным сочинением — автор ограничивается лаконичными формулировками: «Среда 27го Сентября <1895>. Утромъ немного занялся своими воспоминаніями» (ДН1894—1895, л. 110 об.), «Суббота 30 Сентября <1895>. До выхода на прогулку, немного занимался писаніемъ своихъ воспоминаній» (ДН1894—1895, л. 111). Такое стилистическое соприкосновение различных субжанровых комбинаций без излишней раство-ренности материалов друг в друге выглядит закономерным, потому что дневники являются самостоятельным творческим образцом, а не докуменальным черновиком «Воспоминаний».
Интертекстуальное ядро дневников Андрея Михайловича главным образом формируется в рамках домашнего эпистолярного наследия13. Каждая заметка обязательно включает в себя упоминание о написанных к родным и полученным от них письмах. Например: «Вторникъ 1го Ноября <1888>. Возвратившись домой, засталъ письмо отъ Савостьяновыхъ (семейство Варвары Андреевны Савостьяновой — младшей дочери А. М. Достоевского. — К. С.)» (ДН1888—1889, л. 24 об.), или же: «Пятница 12го Января <1890>. Утро до 12го часу, про-велъ дома, съ почтой получилъ письмо отъ Рыкачевыхъ» (ДН1889—1891, л. 16). Приведенные отсылки к архивам домашней переписки можно причислить к разряду индивидуальных жанровых установок автора, поскольку они являются неотъемлемой частью дневникового текста и задают семейно мотивированный вектор повествования.
В какой-то мере (конечно, не в буквальном смысле слова) дневники А. М. Достоевского попадают под определение эпистолярных. Независимо от того, что техника сообщения здесь не выявляет явную конкретную фигуру адресата, читателя дневника, но коммуникативная функция всегда очевидна: предельная семейная информативность (получить письмо — ответить). Свой первый юношеский дневник 1842 г. («дневник инициации» в классификации О. Г. Егорова) Андрей Михайлович условно выстраивает через цепочку писем, обращенных к сестре В. М. Достоевской. Автор начал вести его во время своего пребывания в Санкт-Петербурге, когда, находясь на попечении брата Федора Михайловича, готовился к поступлению в училище военных инженеров: «…я почти ежедневно описывал свои впечатления, адресуя их к cестре Вареньке и мужу ее, но хотя я и писал ежедневно, но отсылал письма однажды в неделю, по несколько листков зараз. <…> Жалею очень, что этот мой дневник первоначального пребывания в Петербурге, пропал» (126—127). Видимо, эпистолярная регулярность и последовательность в ведении записей, а также хроникальная актуальность изображаемых событий рождает у Андрея Михайловича закономерные ассоциации с дневниковым жанром.
Интертекстуальность дневникового повествования также достигается посредством сообщений автора о прочитанных им книгах (сочинения Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, мемуары А. Т. Болотова). Писательские экспромты А. М. Достоевского встраиваются в контекст значимых художественных текстов, т. е. стирается грань между личным повседневным бытописанием «для себя» и актом самобытного творчества.
Жанровая специфика дневников А. М. Достоевского определяется семейно-бытовым содержанием14. Присутствующий в тексте незримый собеседник, в собирательном виде домашний близкий круг, размыкает границы психологической самодиалогизации автора и переводит его в состояние художественного диалога с собственной семейной историей.
Как в «Воспоминаниях», так и в дневниках фокус повествования сосредоточен на «делах семейных» (см. символичную ремарку А. М. Достоевского из вступления к «Воспоминаниям»: «Конечно, эти записки мои будут иметь интерес только для близких мне, т.-е. для жены и детей, но ни для кого больше» (12), отличие заключается лишь в способах организации текстологической коммуникации. Мемуарный текст, изначально функционирующий в более широких хронотопиче-ских пределах (летопись целого рода Достоевских), нежели дневник, постепенно сводит все тематико-сюжетные линии к частной семейной истории Андрея Михайловича. Дневники, напротив, сопрягают домашний интимный хронотоп с пространством семейной общности Достоевских15. Таким образом, происходит художественный сдвиг жанров: мемуары обнаруживают в себе признаки дневникового текста, а дневники — мемуарного. Жанровое взаимопроникновение «Воспоминаний» и дневников раскрывается посредством сквозного в творческой системе А. М. Достоевского понятия «дом». С художественной точки зрения, каждая «квартира» «Воспоминаний» приравнивается к отдельному изобразительному и хронологически центрированному плану (микросочинение внутри большой литературной хроники), а многократная смена подобных планов формирует путевую динамику текста. То же самое можно сказать и в отношении дорожных заметок в дневниках А. М. Достоевского. По роду своей деятельности (ярославский губернский архитектор) Андрею Михайловичу приходилось достаточно много времени проводить в разъездах. Описания путешествий он неизменно предваряет небольшими ремарками, где четко фиксирует смену пунктов следования, отдельно нумеруя каждый день, проведенный в пути — и так до конечной точки путешествия, возвращения домой16. Любопытно, что, избегая подробных описаний других жанровых вкраплений, автор столь детально конкретизирует свои путешествия. В творческой интерпретации путевая символика по-новому выявляет социоисторическое значение антиномии «всеоб-щее-уникальное». Смена реальных топологических планов проецируется в метафизическую сегментацию окружающей действительности. Единое онтологическое пространство стягивается к двум противоположным полюсам: свой мир и чужой мир, дом и не-дом. Свой мир — это точка уникальной семейно-родовой самоидентификации А. М. Достоевского. Чужой мир — непредсказуемая историческая всеобщность. Путешествуя, Андрей Михайлович соединяет разные хронотопические линии в общий творческий модус — движения к дому. Иными словами путь домой, осознание своей роли хранителя-документалиста в летописной истории поколений являются ведущими лейтмотивами как его жизни, так и литературных экзерцисов. Именно «квартирные» циклы «Воспоминаний», путевые заметки в дневниках стилистически олицетворяют творческую «домашнюю» идею А. М. Достоевского. В мемуарах, исходя из открытого публичного характера жанра, автор начинает свое литературное путешествие от дома-бытия и постепенно погружается в семейные частности, открывает читателю свой дом, буквально — квартиры (синонимично движению от замысла произведения к поэтической реализации: сначала создатель рисует некую абстрактную картину, а затем шлифует художественные и фактические детали). Дневниковый текст очерчен рамками личного закрытого пространства А. М. Достоевского, т. е. он покидает свой дом в поисках дома-бытия, социализирует индивидуальность. В момент путешествия (прежде всего духовного, а не фигурального) чувство обособленности, оторванности от близких переживается Андреем Михайловичем особенно остро: психологическая дуализа-ция незамедлительно выплескивается в слове.
Обладая несомненным литературным даром, А. М. Достоевский преобразует документальное свидетельство в «говорящее» слово, оставляет свой след в культурном наследии человечества. Всегда стилистически выдержанный, щепетильный как по отношению к собственной жизни, так и в обращении с текстом автор ведет творческий диалог с самим собой и читателем на самом высоком этическом уровне. О безупречности литературного тона отца свидетельствует Андрей Андреевич Достоевский: «Возвращаясь к воспоминаниям Андрея Михайловича, мы должны указать на некоторые характерные свойства автора, а именно: на его кристальную честность, правдивость, аккуратность и точность» (9).
Сосуществуя в системе сродных документальных жанров и используя при этом различные техники коммуникативного сообщения (публичная и интимная), «Воспоминания» и дневники А. М. Достоевского служат не только дополнительным источником сведений к семейной и родовой жизни Достоевских, но и представляют самостоятельное литературное явление.
Примечания
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX—XX вв.» (№ 34.1126).
-
1 Литература и документ: теоретическое осмысление темы (материалы «круглого стола») // Литературная учеба. Январь—февраль 2009. Кн. 1. С. 207. Далее : Литература и документ…
-
2 См. определение М. Ю. Михеева о дневниковом хронотопе: «дневником лучше считать то, что «берется на карандаш» сразу, в пределах одного-двух-трех дней, в крайнем случае — недели или месяца» [12, 152].
-
3 М. Ю. Михеев, акцентируя особое внимание на незавершенности, «размытости» дневниковой стилистики, прибегает к номинации «пред-текст»: «…у дневника оказывается некий промежуточный статус: это еще не то, что следовало бы оформить как текст литературы, но уже и не то, что было эфемерной, сразу же исчезающей <…> речью. Иными словами, это почти -текст, недо-текст, около- текст, или пред- литература <…> (курсив автора. — К . С .)» [13, 136]. Мы полагаем, что данный тезис может говорить и об обратном: стилистическая многоплановость дневника утверждает его в качестве самостоятельного литературного текста. «Пред-текстуальность» здесь выступает не признаком жанра, а своего рода «литературной функцией» (термин Ю. Н. Тынянова), которая отражает художественную эволюцию текста. Ср. положение Ю. Н. Тынянова об эволюционной устремленности малых жанров: «…домашняя, интимная, кружковая семантика всегда существует, но в известные периоды она обретает литературную функцию» [20, 279].
-
4 Или см. аналогичную мысль в изложении Л. Летягина: «…культур-ная функция дневника заключена в обостренном внимании к тем «жизненным обмолвкам», которые в меру своей незначительности вряд ли привлекли бы позднее взгляд мемуариста» [10, 62].
-
5 Литература и документ… С. 206.
-
6 [Достоевский А. М.] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского / ред. и вступ. ст. А. А. Достоевского. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. C. 11. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
-
7 Ф. М. Достоевский отмечал необычайную привязанность брата к семье, характеризуя его как замечательного отца и мужа, воплотившего нравственно-воспитательный идеал родителей. Приведем отрывок из письма Ф. М. Достоевского к А. М. Достоевскому от 13 марта 1876 года: «Замѣть себѣ и проникнись тѣмъ, братъ Андрей Михайловичь, что идея непремѣннаго и высшаго стремленія въ лучшіе люди (въ буквальномъ, / самомъ/ высшемъ смыслѣ слова) была основною идеей и отца и матери нашихъ, не смотря на всѣ уклоненія. Ты эту самую идею въ созданной тобо[й]/ю/ семьѣ твоей выражаешь наиболѣе изъ всѣхъ Достоевскихъ (курсив Ф. М. Достоевского. — К. С. )». Цит. по: РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 56. № 387. Л. 30. В квадратных скобках приводится расшифрованный зачеркнутый текст, в косых скобках — вписанный текст.
-
8 Из письма А. М. Достоевского к О. Ф. Миллеру 10 ноября 1882 года. Цит. по: РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 56. № 1. Л. 91. В указанном архивном разделе хранится переписка А. М. Достоевского с О. Ф. Миллером, а также рукописный автограф «Воспоминаний».
-
9 Второе издание, подготовленное к печати С. В. Беловым и с его же научным комментарием, вышло в 1992 году. См.: Достоевский А. М. Воспоминания / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. С. В. Белова. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. 397 с.
-
10 Некоторые фрагменты приводимой эпистолярной переписки опубликованы в книге Н. Богданова ««Лица необщим выраженьем…». Родственные связи Ф. М. Достоевского» [3, 93—95].
-
11 Ср., к примеру, традиционные приемы литературного познания текста писателем: «поиск одного единственного слова, звука, точной детали, нужного образа» [18, 258].
-
12 РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 56. № 2—9. Здесь и далее сылки на рукописные источники приводятся в тексте статьи в виде условного сокращения с указанием года соответствующего дневника и номера листа в архивной пагинации.
-
13 Исследователи не раз отмечали преемственную связь между дневниковым и эпистолярным жанрами. По словам М.Ю. Михеева, главным сродным элементом дневниковой прозы и письма является их потенциальная адресация: «…автор дневника частенько нуждается пускай в фиктивном, но адресате» [14, 137]. Схожую мысль об эпистолярных истоках жанра дневника проводят А. А. Зализняк («Самый близкий к дневнику автодокументальный жанр — это письма» [7, 174] и О. Г. Егоров. Последний выделяет отдельную форму дневникового бытования — дневник в письмах [6, 8].
-
14 Подробнее о жанровом своеобразии дневников А. М. Достоевского см.: [16].
-
15 Подробнее о пересечении домашнего и летописного хронотопов в дневниках А. М. Достоевского, а также о документально-биографической новизне представленных материалов см.: [17].
-
16 Несколько фрагментов июльской поездки А. М. Достоевского с сыновьями в Даровое в 1887 году опубликованы в статье проф. В. А. Викторовича. См.: [4]. С полным содержанием дневников можно познакомиться по адресу: http://philolog.petrsu.ru/amdost/diaries/diaries.htm (или: http://smalt.karelia.ru/~filolog/amdost/diaries/diaries.htm ). Работа по расшифровке рукописного текста дневников ведется в рамках проекта РГНФ № 14-04-00094a «Подготовка к публикации “Дневников” А. М. Достоевского: Текстология, исследование, комментарий».
Список литературы Дневники и «Воспоминания» А. М. Достоевского как художественное единство
- Андрианова И. С. Анна Достоевская: призвание и признания: монография. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. -2013. -124 с.
- Андрианова И. С. Концепция жанра дневника А. Г. Достоевской//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. 2012. -Вып. 10: Евангельский текст в русской литературе XII-XXI веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 7. -С. 224-240.
- Богданов Н. Н. «Лица необщим выраженьем…» Родственные связи Ф. М. Достоевского. -М.: Новый хронограф. -2014. -472 с.
- Викторович В. А. Экспедиция в Даровое (2005)//Летние чтения в Даровом. -2006. -С. 101-106.
- Егоров О. Г. Дневники русских писателей XIX века: Исследование. -М.: Флинта: Наука. -2002. -288 с.
- Егоров О. Г. Русский литературный дневник XIX века: История и теория жанра. 2-е изд. М.: Флинта: Наука. -2011. -282 c.
- Зализняк А. А. Дневник: к определению жанра//Новое литературное обозрение. -2010. -№ 106. -С. 162-180 . -URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/za14.html (22.08.2015).
- Калинина Е. И. Стратегическая составляющая модели речевого жанра «diary»//Вестник Кемеровского государственного университета. -№ 1 (53). -2013. -С. 184-187.
- Кобрин К. Похвала дневнику//Новое литературное обозрение. -2003. -№ 61. -С. 288-295.
- Летягин Л. Н. Личный дневник: самосознание жанра//Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. -2008. -№ 56. -С. 56-67.
- Миллер О. Ф. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского//Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского: С портр. Ф. М. Достоевского и прил. Санкт-Петербург: тип. А. С. Суворина. -1883. -С. 3-176 (1-я пагинация).
- Михеев М. Ю. Мысль на пути между дневником и текстом: особенности памяти дневнициста//Человек. -2004. -№ 6. -С. 150-158.
- Михеев М. Ю. Фактографическая проза или пред-текст. Дневники, записные книжки, «обыденная» литература//Человек. -2004. -№ 2. -С. 133-142.
- Михеев М. Ю. Фактографическая проза или пред-текст. Дневники, записные книжки, «обыденная» литература//Человек. -2004. -№ 3. -С. 132-143.
- Пигров К. С. Интимный дневник как «простая вещь»//Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». -2008. -№ 1. -С. 64-78.
- Сизюхина К. В. Дневники А. М. Достоевского: проблема жанра//Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. -2014. -Вып. 12: Евангельский текст в русской литературе XII-XXI веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 9. -С. 296-314.
- Сизюхина К. В. Мысль семейная и родовая в дневниках А. М. Достоевского//Неизвестный Достоевский. Международный научный журнал. -2014. -№ 1-2 . -URL: http://unknown-dostoevsky.ru/k-v-sizyuhina-myisl-semeynaya-i-rodovaya-v-dnevnikah-a-m-dostoevskogo/(22.02.2015).
- Смирнова А. И. От письма к «эпистолярному дневнику»: по книге В. П. Астафьева «Нет мне ответа…»//Гуманитарные исследования. -2012. -№ 2 (42). -C. 255-260.
- Соловьёва И. В. Анализ автобиографии и биографии с точки зрения субъектной перспективы//Вопросы гуманитарных наук. -2009. -№ 6. -С. 141-145.
- Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции (Борису Эйхенбауму)//Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. -М.: Наука. -1977. -С. 270-281.
- Федоров Г. А. Московский мир Достоевского. Из истории русской художественной культуры XX века. -М.: Языки славянской культуры. -2004. -464 c.
- Хазанов Б. Дневник сочинителя//Октябрь. -1999. -№ 1. -С. 176-188.