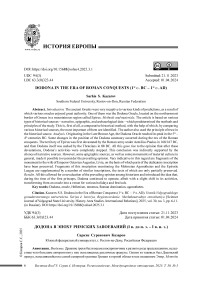Додона в эпоху римских завоеваний (I в. до н. э. – I в. н. э.)
Автор: Казаров С.С.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История Европы
Статья в выпуске: 3 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Древние греки были весьма восприимчивы к разного рода предсказаниям, вследствие чего большим авторитетом у них пользовались различные оракулы. Одним из таковых был Додонский оракул, находившийся на самой северной границе Греции в горной области под названием Эпир. Методы и материалы. Статья написана на основании разнообразных видов исторических источников – нарративных, эпиграфических, данных археологии, что предопределило методы и принципы исследования. Это, прежде всего, сравнительно-исторический метод, с помощью которого путем сравнения различных исторических источников выделять наиболее важные из них. Автор использовал также принцип доверия к историческому источнику. Анализ. Возникнув в эпоху позднего бронзового века, он достиг своего расцвета к V–IV вв. до н.э. Некоторые изменения в положении Додонского святилища произошли в эпоху римских завоеваний. Сначала территория Эпира подверглась опустошению римской армией под командованием Эмилия Павла в 168/167 гг. до н.э., а затем сама Додона была разграблена фракийцами в 88 г. до н.э. Все это породило мнение о том, что после всех опустошений деятельность Додоны была полностью прекращена. Данный вывод косвенно подкреплялся молчанием нарративных источников. Однако некоторые эпиграфические источники, а также памятники материальной культуры в целом позволили пересмотреть бытующее среди историков мнение. Весьма показательны в этом отношении фрагменты памятника супруге императора Октавиана Августа Ливии, на основании которого сохранилась часть посвятительной надписи. Фрагменты этой надписи с упоминанием молосских агонофетов и Эпиротского союза дополняются рядом подобных надписей, тексты которых сохранились лишь частично. Результаты. Все вышесказанное дает возможность предположить, что во времена первого принцепса Додона продолжала функционировать, лишь немного поменяв характер своей деятельности, превратившись из оракула в место проведения различных праздников и фестивалей.
Додона, оракул, эллинизм, теменос, римское господство, агонофет
Короткий адрес: https://sciup.org/149148804
IDR: 149148804 | УДК: 94(3) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.3.1
Текст научной статьи Додона в эпоху римских завоеваний (I в. до н. э. – I в. н. э.)
DOI:
ББК 63.3(0)323.44 Дата принятия статьи: 01.04.2024
ДОДОНА В ЭПОХУ РИМСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ (I в. до н. э. – I в. н. э.)
Саркис Суренович Казаров
Цитирование. Казаров С. С. Додона в эпоху римских завоеваний (I в. до н. э. – I в. н. э.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 6–11. – DOI:
Введение. Древние греки, будучи по натуре людьми суеверными, безоговорочно верили различным приметам и предсказаниям, вследствие чего имеющиеся в стране оракулы, а также находившиеся при них прорицатели [11, p. 24] пользовались большим влиянием и уважением [6, p. 7; 9, p. 9]. Как известно, Додонский оракул, располагавшийся на самой северной окраине греческого мира, в горной области под названием Эпир, заслужил славу одного из древнейших и авторитетнейших оракулов Древней Греции. Общий контур его развития представляется в следующем виде. Возникнувший в эпоху поздней бронзы [12, p. 13], оракул постепенно приобрел большой авторитет и популярность [15, p. 131], достигнув своего расцвета в V–IV вв. до н.э. В этот период святилище стало не только религиозным, но и политическим и социальным центром Эпиротского союза, свидетельством чего могут служить обнаруженные на территории теменоса различные декреты и постановления [7, p. 234–235; 18, p. 180]. Длительное время священная территория Додоны, так называемый теменос, не имела никаких культовых сооружений, и лишь в период эллинизма здесь возникли первые строения, возведение которых связывают с деятельностью царя Пирра [6, p. 15]. Locus communis («общим местом») у большинства современных исследователей истории Додоны является мнение о том, что разграбление Эпира римским полководцем Эмилием Павлом в 168/167 гг. до н.э. (Plut. Aem. 29.2-5), а затем и опустошение Додоны фракийцами в 88 г. до н.э. (Diod. 311.101.2) привели к полному упадку святилища, из которого оно уже никогда не смогло выйти [3; 8; 13; 14]. Действительно ли Додона после означенных событий полностью утратила свой авторитет или же сохранялась преемственность в ее деятельности в I в. и ни о каком упадке святилища нельзя вести речь, – вот те вопросы, ответы на которые мы постараемся дать в настоящей работе.
Методы и материалы. Статья написана на основании разнообразных видов исторических источников – нарративных, эпиграфических, данных археологии, что предопределило методы и принципы исследования. Это, прежде всего, сравнительно-исторический метод, с помощью которого путем сравнения различных исторических источников выделены наиболее важные из них. Автор использовал также принцип доверия к историческому источнику, который позволяет, не отказываясь от критического анализа, в той или иной мере использовать все имеющиеся в нашем распоряжении исторические источники.
Анализ. Прежде чем принять ту или иную точку зрения об упадке или преемственности в развитии святилища в Додоне, необходимо обратиться к источникам. Из нарративных источников, прежде всего, выделим труд географа и историка Страбона (рубеж I в. до н.э. – I в. н.э.), который сообщает о том, что большая часть Эпира после разгрома его римлянами представляла собой обезлюдевшие селения и развалины, а Додонский оракул, как и остальные оракулы региона, прекратил свои вещания (Strab. VII.7.9). Однако помимо Страбона никакие иные литературные данные этот факт не подтверждают. Более того, Страбон особо упоминает только о прекращении вещания самим оракулом (то цоутйоу), но никак не фиксирует завершение всякой иной деятельности святилища.
Римские авторы, жившие на рубеже I в. до н.э. – I в. н.э. (Тит Ливий, Вергилий, Дионисий Галикарнасский, Корнелий Непот и др.) упоминают Додону, но исключительно в историческом контексте в связи с вышеуказанными событиями, при этом ни словом не обмолвившись о ее современном состоянии. В их трудах в том числе не содержится ни малейших упоминаний о каких-либо связях Додоны с Римом в рассматриваемый период. Весьма двусмысленным является пассаж Дионисия Галикарнасского, в котором отмечается знатный римлянин по имени Луций Маллий, лично посетивший Додону и видевший на священной территории треножник с начертанными на нем древними письменами (Dion Hall. I.19.3). Но, во-первых, к сожалению, нам остается непонятным время посещения Додоны Мал-лием. Во-вторых, нам также ничего неизвестно и о личности самого посетителя. Одним словом, имеющиеся в нашем распоряжении литературные свидетельства не помогают в определении статуса святилища Додоны и ее отношений с римлянами на рубеже веков. Но тем не менее благодаря греческим и римским авторам Додона олицетворяла некое символическое, по словам французского историка Пьера Нора, «место памяти» («lieux de memoire») не только для греков, но и для римлян [16].
Несколько иную картину общественной и культурной жизни Додоны позволяют представить данные археологии. Но и здесь не все так однозначно. Греческий археолог Д. Эван-гелидес, проводивший с середины XX в. рас- копки на территории Додоны, идентифицировал как римские весьма немногочисленные артефакты. В их числе он называет пару могильников, обнаруженных возле и внутри христианской базилики, которые, однако, не поддаются точной датировке [10]. Также весьма незначительно и количество вотивов, относящихся к I в. до н.э. – I в. н.э.
Одной из известнейших достопримечательностей Додоны является театр, который со временем изменил свои функции. Если в эпоху классики главным его предназначением являлась постановка театральных представлений, что отражало греческие традиции, то в римскую эпоху функции театра в Додоне претерпели изменения. Театр, изначально предназначенный для драматических постановок, в какой-то момент превратился в культурное пространство, более тесно связанное с римской культурной традицией. По своей значимости и монументальности он превосходил даже архитектурный комплекс самого святилища, более того, Додонский театр, сооруженный во времена Пирра [6, p. 31], считался одним из самых величественных в Древней Греции [5, p. 59]. Помимо придания чисто римских традиций типично греческому строению и, следовательно, указанному месту, также практически подтверждает мысль, что это конкретное пространство предназначалось для использования его не только греками, но и римлянами (или «латинизированными» людьми), либо живущими поблизости, либо посещающими место. И, конечно, театр в Додоне служил никак не для нескольких случайных посетителей этого региона. Увеличение размеров театра может указывать на посещение его значительным количеством присутствующей публики. В свете недавних исследований, отмечающих трансформацию греческих театров в римские цирки, происходившую со II по IV в. [2, p. 336–338], подобный факт имел место и в Додоне примерно в тот же самый период. Но нельзя не признать, что твердых оснований для подобного предположения у нас, конечно, недостаточно.
С другой стороны, весьма примечательно появление в качестве официальных должностных лиц агонофетов (ауйУоОет^д). Если в более ранний период, в V–III вв. до н.э., в качестве официальных должностных лиц эпиграфические источники упоминают простатов и грамматевсов, то теперь упоминания о них исчезают. Упоминаемые в надписях аго-нофеты – это, судя по этимологии слова, устроители соревнований, будь то состязания спортивные, музыкальные или какие-либо иные. Появление их в качестве официальных должностных лиц, скорее всего, свидетельствовало о том, что основным направлением деятельности руководителей Додоны стало устройство агонов – того или иного вида состязаний.
Как известно, с определенного времени в Додоне стали проводиться состязания, посвященные местному культу Зевса с эпикле-зой Naoi [4, p. 333]. Исследование самих состязаний выходит за пределы этой статьи, поэтому ограничимся лишь констатацией данного факта. И с большой долей вероятности можно предположить, что в должностные обязанности упоминаемых агонофетов как раз и входила организация таких игр.
К эпохе Августа определенно относится статуя, посвященная его супруге Ливии [1, p. 200; 4, p. 337]. На сегодняшний день этому посвящению в исторической литературе уделялось скромное внимание, возможно, потому, что она сама не сохранилась. Ее основание было обнаружено внутри теменоса недалеко от так называемого храма Зевса. Большой интерес для нас представляют фрагменты частично сохранившейся надписи, в которой упоминается агонофет молоссов, представляющий койнон некоего народа, название которого, к сожалению, не сохранилось, затем следует имя Ливии и далее имя Цезаря (aywvoOCTopvTog] ...той MoXooao™ то kolvov tov ... Al^iov t^v Kaioapog ^[Раотой]). Основанием для датировки надписи как раз и может служить титул ХтРаотод, который идентичен латинскому Augustus, что позволяет датировать надпись временными рамками с 27 г. до н.э. по 14 г. н.э. Возможно, на основании из известняка стояла статуя Ливии в натуральную величину. Хотя от статуи ничего не сохранилось, не исключено, что в качестве материала использовалась бронза, что подтверждается значительным количеством бронзовых статуй, обнаруженных в Додоне и относящихся к периоду эллинизма. По всей вероятности, возведение статуи императора или членов его семьи свидетельствовало о возникновении здесь императорского культа. Существует предположение, что разрешение на установку статуи Ливии должно было исходить от религиозного совета святилища [18, p. 187]. Более того, единичные статуи Ливии весьма редки; супруга первого принцепса чаще появляется в составе династической группы в натуральную величину, в большинстве случаев с посвятительной надписью на основании. Возможно, что и указанная статуя Ливии в Додоне являлась частью некой династической групповой композиции императорской семьи, тем более что на этот счет существует исторический аналог – групповая композиция, состоящая из статуй Октавиана, Агриппы и Ливии, которую обнаружили на территории театра в близлежащем городке Бут-ринте, а точнее мраморные фрагменты шеи и головы. Возможно, что династическая группа в Бутринте была установлена в память о победе Августа у мыса Акций в 31 г. до н.э. и имела целью напомнить о давних мифологических связях между Римом и Бутринтом, ибо оба эти города якобы были основаны троянцами [19]. Но в нашем случае подобное предположение едва ли продуктивно, ибо к основанию Додоны ни Эней, ни троянцы не имели никакого отношения. Если сооружение статуи свидетельствовало о наличии какой-либо формы имперского культа, то основная функция святилища как места поклонения, которая выполнялась ранее, сохранилась и в период Августа.
Не менее сложен и интересен вопрос о самих жертвователях, то есть тех, кто оплатил возведение памятника. Сохранившиеся фрагменты надписи определенно указывают нам на молосское происхождение агонофета, но далее, по нашему мнению, идет указание не на какую-либо отдельную народность Эпира (будь то хаоны, феспроты или те же мо-лоссы), а на общий федеративный орган – кой-нон эпиротов (kolvov T§V ’H^ELpoTWV). Политическая элита Эпира – богатые частные лица или сообщества – могла позволить себе расходы на учреждение имперского культа, чтобы воздать почести императору в благодарность за некие неизвестные нам политические благодеяния. Если в тексте надписи не указывается цель посвящения, то, по справедливому утверждению Д. Пиччинини, установка памятника или статуи в честь царя, императора или кого-либо из его семьи неразрывно связана с идеей «возврата» услуги, которую уже получил или мог бы получить народ или город-государство в ближайшем будущем [18, p. 188]. В любом случае здесь очевидно намерение заручиться поддержкой новой власти. В случае нашего посвящения высший федеральный орган власти – эпиротский койнон хотел угодить новой власти в свете нового порядка, установленного Августом, или же стремился выразить благодарность новой династии. Однако акция должна была принести определенную пользу эпиротам и, безусловно, быть известна центральной власти. И была ли воздвигнута статуя только одной Ливии или же целой династической группы, не столь важно, так как женские члены императорской семьи играли не менее значимую роль в этом обмене пожалованиями и оказывали определенное, а порой и решающее влияние на принятие решений самим императором [1, p. 73]. Если, с одной стороны, возведение статуи и установление имперского культа – продукт деятельности «местных» отдельных личностей и сообществ, то, с другой стороны, одобрение таких действий и, собственно, распространение императорских культов шли из центра, из самого Рима [19, p. 51– 52]. Однако воздаяние почестей императору и его семье было бы бесполезно, если бы сам получатель не знал об этом факте. Наличие статуи или скульптурной группы членов императорской семьи в Додоне свидетельствует о ее посещении либо Августом, либо отдельными представителями римской элиты. Кроме того, оно способствовало повышению авторитета самой Додоны в эпоху Августа, что одновременно полностью опровергает мнение о полном запустении и упадке святилища в I веке.
Интересным источником, позволяющим сделать ряд важных предположений и заключений, является надпись на обнаруженном в Додоне железном стригиле (strigilis – лат.), относящемся примерно к I в. до н.э. Сама по себе находка стригиля, железного скребка, предназначенного для очищения кожи атлетов от песка и грязи во время спортивных состязаний, косвенно свидетельствует о проведе- нии здесь спортивных соревнований. Надпись на скребке содержит обращение святилища Зевса Naoi и богини Дионы царю Зеникету, в котором гарантируется на вечные времена сохранность его денег и товаров (изделий) и выражается надежда на дальнейшие успехи в его делах [17, p. 122–124]. Зеникет, по всей вероятности, хранил в его сокровищнице свои богатства. Тот факт, что Зеникета называют «царем» и «ксеном», подтверждает гипотезу о том, что он был царем пиратов. Греческая исследовательница С. Дзувара-Сули придерживается иной точки зрения: указывая, что стригиль – типичный инструмент спортсменов, она, соответственно, считает Зеникета атлетом, участником спортивных состязаний [20, p. 519]. Однако такое утверждение нам кажется сомнительным, ибо царь пиратов едва ли выступал бы на играх в качестве обычного атлета.
Некоторый интерес также представляет надпись на мраморной стеле, которая, несмотря на сложности с определением ее датировки, по мнению обнаружившего ее Д. Эвангелиде-са, относится все-таки к эпохе римского господства, а точнее к рубежу I веков. Она сильно повреждена, но в ней также упоминается агонофет по имени Лисаний из племени молос-сов ([ay] wvoQetqv той Avoaviov тйу бе Mo[Xoaa§v]...) [10, p. 252; 4, p. 551]. Замена в тексте надписи молосского простата на агоно-фета как раз и позволяет нам отнести данную надпись к эпохе римского господства.
Результаты. Таким образом, мы не имеем никаких оснований говорить о каком-либо упадке Додоны в рассматриваемый период. К I в. мы наблюдаем признаки преемственности в деятельности святилища, которые заключались в переходе от ранее широко известной функции прорицания к организации многолюдных праздников и состязаний, о чем свидетельствует перестройка местного театра, который считается одним из самых величественных в Древней Греции. Додона по-прежнему была местом посещения не только обычных граждан, но и высокопоставленных лиц. Речь может идти лишь о смене основного вектора в ее деятельности: если в классический период святилище Зевса славилось своими предсказаниями, то затем оно стало местом проведения различных спортив- ных и, возможно, иных культурных фестивалей. Имя хозяина святилища – верховного владыки всех греческих богов продолжало звучать, но уже не в связи с процедурой прорицания, а в связи с состязаниями, посвященными Зевсу Naoi.