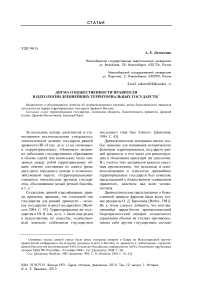Догма о божественности правителя в идеологии древнейших территориальных государств
Автор: Демидчик Аркадий Евгеньевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Выдвигается и обосновывается гипотеза об основополагающем значении догмы божественности правителя для идеологии первых территориальных государств Древнего Востока.
Территориальное государство, этническая общность, божественность правителя, древний египет, древняя месопотамия, западный чжоу
Короткий адрес: https://sciup.org/147218680
IDR: 147218680 | УДК: 94(3)
Текст научной статьи Догма о божественности правителя в идеологии древнейших территориальных государств
За последние четыре десятилетия в отечественном востоковедении утвердилось типологическое деление государств ранней древности (III–II тыс. до н. э.) на «номовые» и «территориальные». «Номовым» называют небольшое государственное образование в объеме одной или нескольких тесно связанных между собой территориальных общин, обычно состоявшее из одного (реже двух-трех) городского центра и сельскохозяйственной округи. «Территориальными» считаются относительно крупные государства, объединявшие целый речной бассейн, и т. д. 1
Создателям данной классификации, правда, пришлось признать, что «основной тип государства для ранней древности – номо-вое государство (город-государство)» [Якобсон, 2004. С. 43]. Территориальные же государства в III–II тыс. до н. э. были еще редки и недолговечны; по существу, «единственным довольно стабильным государством последнего типа был Египет» [Дьяконов, 1994. С. 45].
Древнеегипетские материалы имеют особое значение для понимания исторического феномена территориальных государств ранней древности, в том числе для реконструкции и объяснения присущей им идеологии. И с учетом этих материалов кажется уместным предположить, что исходным и основополагающим в идеологии древнейших территориальных государств был комплекс представлений о божественном «священном правителе», властном над всем человечеством.
Древнеегипетские представления о божественной природе фараона были всего точнее раскрыты О. Д. Берлевым [Berlev, 1981]. Но к этому следует добавить, что возглавлявшийся царем-богом древнеегипетский бюрократический аппарат социального управления обычно не столько противопоставлял себя другим государствам, сколько
* Основные тезисы данной статьи были ранее изложены автором в Каире на Международной научнопрактической конференции «Культурные традиции Египта и Востока: от древности к глобализации», организованной Институтом востоковедения РАН, Египетско-Российским университетом (АРЕ), Российским зарубежным центром МИД РФ 29 октября – 03 ноября 2008 г. См.: [Демидчик, 2008. С. 30].
представлял себя единственным государством , к которому должны так или иначе принадлежать все люди независимо от происхождения и культурно-бытовых различий.
Даже подчеркивая превосходство Египта над всеми прочими странами, его государственная доктрина считала чужеземных божеств лишь специфическими, локальными «проявлениями» богов, почитавшихся и в Египте 2. Во вселенной не существовало божеств, неподвластных владыке мира Солнцу, а стало быть, и суверенных государств, неподвластных его «сыну» – египетскому царю. Обозначение «Солнце Пустыни (т. е. всех чужеземных стран)» было едва ли не официальным титулом царей VI династии в финикийском Библе. За пределами Египта царь часто именовался «Великим (т. е. старшим и главным) богом», и говорилось, что он дает чужестранцам само «дыхание жизни». А чужеземных правителей и вождей, как показал О. Д. Берлев, при VI династии порой изображали лишь его чиновниками [Berlev, 1995]. О военных конфликтах с чужестранцами говорилось не как о «войне» с другим государством – такого понятия в египетской культуре просто не было, – а как о подавлении «бунта» 3.
Вместе с этим постулируемая египетской государственной доктриной общность «наших» – людей, находящихся под покровительством божественного священного правителя – обычно считалась открытой для вступления в нее любых лояльных «чужих». Несмотря даже на свойственное древним египтянам «изоляционистское или националистическое чувство», их государственная доктрина была «чужда догматической ксенофобии» [Уилсон, 1984. С. 47]. Считалось, что египтяне отличаются от прочих племен и народов не особой «природой», «кровью», а культурой, поведением: прежде всего – приверженностью «справедливости», «должному порядку» маат и готовностью служить божественным царям. Чужеземцы, усвоившие эти черты, признавались, как и египтяне, достойными покровительства фараона и богов.
В Новом царстве, после образования огромной египетской империи, говорилось, что ее государь – «пастырь добрый, бодрст- вующий для всех людей», сколь бы далеко от Долины они не проживали [Дейнека, 1992. С. 21–26]. Повинуясь фараонам и регулярно выплачивая подати, предназначавшиеся будто бы для жертвоприношений богам, чужеземцы подобно египтянам считались «паствой Ра» и даже могли рассчитывать на счастливую загробную участь.
Известно, что при длительном проживании в Египте, усвоении местных обычаев и языка покорные иностранцы порой становились высокопоставленными египтянами [Шоу, 2006. С. 119, 120; Демидчик, 2005. С. 132–138]. Грань, разделявшая мир на «своих» и «чужих», лежала не столько в плоскости географической и этнической, сколько в плоскости политико-религиозной.
Трудно не заметить, что похожие черты характерны и для идеологии ряда других территориальных государств III–II тыс. до н. э.
Для второй древнейшей цивилизации – Месопотамии – обожествление правителей было не характерно. Но в первом же ее территориальном государстве, державе Саргона Древнего, царь Нарам-Суэн (Нарам-Син) стал присоединять к титулатуре эпитет «бог Аккада» и ставил в надписях перед своим именем знак божества. Этот же царь указал на «всечеловеческий» объем своей власти, отказавшись от прежних – так сказать, локальных – титулов «царь Страны» и «царь Киша». Нарам Суэн стал именовать себя «царем четырех стран света» [Дьяконов, 1983. С. 246–252].
Сходным образом, стоило возникнуть в Месопотамии следующему территориальному государству – царству III династии Ура – как его правители вновь стали то и дело себя обожествлять. Суть этого обожествления, по мнению И. М. Дьяконова, «заключалась в том, что обожествленный царь мог на равных с общинными богами представительствовать за свою страну перед великими богами – правителями мира». Власть таких царей, по-видимому, считалась распространяющейся на все обжитое людьми мироздание, каноническая картина которого сформировалась также при III династии Ура [Там же, 1983. С. 281, 282].
В Китае, по мнению Т. В. Степугиной, первым территориальным государством следует считать Западный Чжоу [1983. С. 161– 167]. Примечательно, что именно в Западном Чжоу появляется и совершенно новый культ, не связанный ни с какой конкретной этнической общностью, но стоящий над всеми как некое связующее единство – культ верховного божества, Неба, а вместе с ним и культ чжоусского вана как Сына Неба (Тянь цзы). В Западном Чжоу утверждалось, что ван – «единственный», через кого только и возможен полноценный контакт с Небом. При этом ван будто бы являлся главой всего человечества, о чем выразительно сказано в известной оде «Шицзина» (II, VI, 1):
«Широко кругом простирается небо, но нет под небом ни пяди нецарской земли.
На всем берегу, что кругом омывают моря, повсюду на этой земле только слуги царя» [Степугина, 1983. С. 163;
Васильев, 1998. С. 126–132]
В. М. Крюков, кроме того, подчеркивает, что «ни в иньских, ни в чжоуских источниках мы не обнаруживаем следов существования в конце II – начале I тысячелетия до н. э. этнических общностей, обладавших специфическим самосознанием. Население иньского и чжоуского “государств” отличает себя от соседей по принципу противопоставления “мы – они”, однако эта контроверза была обусловлена не этническими, а политическими мотивами. “Мы” – это все племенные единицы, признававшие власть верховного правителя – вана; “они” – это любые группы за пределами юрисдикции этого правителя» [Крюков, 1982. С. 148, 149].
Отмеченные совпадения в идеологии древнейших территориальных государств Египта, Нижней Месопотамии и бассейна Хуанхэ представляются закономерными и даже неизбежными. Объяснить их можно следующим образом. Доминировавшая в общественном сознании поздней первобытности идея ограниченной кровнородственной общности (род, клан, племя и т. д.) препятствовала складыванию обширных политий-ных образований. Противопоставить же ей консолидирующую идею единства этнического древнейшие территориальные государства еще не могли. Категории типа «общность языка / культуры», «народность», «народ» и т. д. были слишком абстрактными для того, чтобы утвердиться и существенно влиять на поведение человека на исходе первобытности.
По словам И. М. Дьяконова, в Передней Азии III тыс. до н. э. «человек чувствовал себя либо членом своей общины, либо подданным своего царя или божества, либо же (если речь шла об обществе первобытном) членом рода или племени, но солидарность целых этносов, как правило, не ощущалась ни в положительном, ни в отрицательном смысле» [1983. С. 265] 4. По этой причине впервые складывавшееся территориальное государство могло противопоставить связующей силе ограниченного кровного родства лишь идею единства религиозно-политического. Но поскольку во времена столь ранние учение, скажем, о единственном боге распространиться еще не могло, доктрины древнейших территориальных государств должны были утверждать необходимость всеобщего повиновения единственному правителю 5 . А действенной формой репрезентации и обоснования данного требования могла быть лишь догма о его божественности.
Допустимо предположить, что, по мере укрепления этнического чувства и этнической солидарности, территориальное государство нуждалось в данном постулате все меньше. Например, в Старовавилонской державе обожествления царя не наблюдается. Но это тема уже для другой публикации.
THE DIVINITY OF THE RULER
IN THE IDEOLOGY OF THE EARLIEST TERRITORIAL STATES
Список литературы Догма о божественности правителя в идеологии древнейших территориальных государств
- Васильев К. В. Истоки китайской цивилизации. М.: Наука, 1998. 319 с.
- Дейнека Т. А. Обоснование внешней политики Египта в царских надписях XVIII династии: Автореф. диc. … канд. ист. наук. СПб., 1992. 33 с.
- Демидчик А. Е. Безымянная пирамида: государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской монархии. СПб.: Алетейя, 2005. 272 с.: ил.
- Демидчик А. Е. Типологические особенности идеологии древнейших территориальных государств (на русском и арабском языках) // Международная конференция «Культурные традиции Египта и Востока: от древности к глобализации». М.: Ин-т востоковедения РАН, 2008.
- Дьяконов И. М. Первые деспотии в Двуречье // История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. М.: Гл. ред. вост. лит., 1983. Ч. 1. С. 233-292.
- Дьяконов И. М. Пути истории: от древнейшего человека до наших дней. М.: Наука, 1994. 384 с.
- Дьяконов И. М. Этнический и социальный факторы в истории Древнего мира (на материале Шумера) // Вестн. древней истории. 1963. № 2. С. 3-17.
- Дьяконов И. М., Якобсон В. А. «Номовые государства», «территориальные царства», «полисы» и «империя». Проблемы типологии // Вестн. древней истории. 1982. № 2. С. 3-21.
- Козырева Н. В. Шумер и Аккад - две модели архаических обществ // Египтология и ассириология: Сб. ст. / Под ред. Н. В. Козырева. СПб.: Скифия, 2004. С. 11-48.
- Крюков М. В. Этнические и политические общности: диалектика взаимодействия // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе: Сб. ст. / Под ред. Ю. В. Бромлея. М.: Наука, 1982. С. 147-162.
- Степугина Т. В. Лекция 8. Первые государства в Китае // История Древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. 2-е изд. испр. М.: Наука, 1983. Кн. 1: Ранняя древность. С. 139-167.
- Уилсон Дж. Глава 2. Египет: Природа вселенной // В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Г. А. Франкфорт, Дж. Уилсон, Т. Якобсен. М.: Наука, 1984. С. 45-70.
- Шоу Я. Древний Египет. М.: АСТ: Астрель, 2006. 208 с.
- Якобсон В. А. Предисловие // История Древнего Востока: от ранних государственных образований до древних империй. М.: Наука, 2004. С. 34-56.
- Berlev O. D. The Eleventh Dynasty in the Dynastic History of Egypt // Studies Presented to H. J. Polotsky / Ed. by D. W. Young. Beacon Hill (Mass.): Pirtle & Polson, 1981. P. 361-377.
- Berlev O. The Title to a Kingdom // Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. 1995. Ht. 149. S. 33-40.