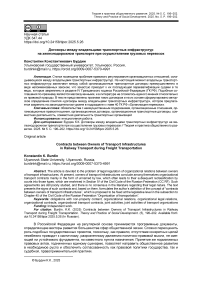Договоры между владельцами транспортных инфраструктур на железнодорожном транспорте при осуществлении грузовых перевозок
Автор: Бурдин К.К.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме правового регулирования организационных отношений, складывающихся между владельцами транспортных инфраструктур. На настоящий момент владельцы транспортных инфраструктур заключают между собой организационные транспортные договоры преимущественно в виде непоименованных законом, что зачастую приводит к их последующей переквалификации судами в те виды, которые закреплены в разделе IV Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Подобные соглашения попрежнему являются малоизученными, и в литературе не сложилось единого мнения относительно их правовой природы. В тексте представлены признаки таких договоров и на их основе сформулировано авторское определение понятия «договоры между владельцами транспортных инфраструктур», которое предлагается закрепить на законодательном уровне в подразделе к главе 40 ГК РФ «Организация перевозок».
Зательства с неимущественным содержанием, организационные отношения, организационные правоотношения, организационные договоры, организационные транспортные договоры, совместная деятельность, совместная деятельность транспортных организаций
Короткий адрес: https://sciup.org/149148039
IDR: 149148039 | УДК: 347.44 | DOI: 10.24158/tipor.2025.5.26
Текст научной статьи Договоры между владельцами транспортных инфраструктур на железнодорожном транспорте при осуществлении грузовых перевозок
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия, ,
,
В частности, в ныне действующей Транспортной стратегии Российской Федерации1, равно как и в предыдущем преемственном аналогичном программном документе2, установлена стратегическая миссия государства в области перевозочного процесса ‒ создать условия для роста национальной экономики, увеличения уровня жизни населения, безопасности и обороноспособности страны, или же, говоря обобщенно, ‒ создать условия для реализации транспортного потенциала России.
В качестве ключевых задач, посредством реализации которых достигается поставленная цель, в обоих нормативных правовых актах предписана необходимость обеспечить опережающее развитие транспортной инфраструктуры страны и сформировать на ее базе единое транспортное пространство на всей территории Российской Федерации.
Понятие транспортной инфраструктуры было раскрыто в п. 2.3.1 Транспортной стратегии РФ на период до 2020 г. посредством перечисления объектов, входящих в данный термин: «...наземные, водные и воздушные пути сообщения, трубопроводы, морские и речные порты, железнодорожные вокзалы и станции, аэропорты, аэродромы, транспортные терминалы, метрополитены, системы скоростного внеуличного транспорта, транспортные развязки, в том числе внутри крупных городов, ледокольный флот, вспомогательный флот, а также сооружения и оборудование систем навигации, аварийно-спасательного комплекса, обеспечения безопасности транспортного процесса и другие сооружения транспортного комплекса»3.
В условиях смешанной экономической системы России после распада СССР начался процесс приватизации, в неразрывной связи с которым произошли колоссальные изменения во всех сферах жизнедеятельности, включая перевозочный процесс. Ввиду развития конкурентного рынка транспортных услуг и, соответственно, активного развития частного сектора в области транспорта, в отечественной истории вновь возникла отдельная «фигура владельца транспортной инфраструктуры» (Морозов, 2009: 111), взявшего на себя значительную роль в перевозочном процессе.
Сформулированная национальная задача по поддержанию столь быстрых темпов развития транспортной инфраструктуры тесно связана с решением проблемы несогласованности во взаимодействии ее владельцев (Мостовая, 2019: 7). Правовая природа договоров между владельцами транспортных инфраструктур по-прежнему практически не исследована, а их регулирование на законодательном уровне остается бессистемным и неоднозначным (Морозов, 2009: 112).
В рамках настоящей статьи представляется важным исследовать правовую природу договоров между владельцами транспортных инфраструктур с акцентом на железнодорожный транспорт, хотя изложенные аргументы и выводы вполне могут быть найдены и применительно к договорам между владельцами транспортных инфраструктур на других видах транспорта.
Появившиеся не по воле государства, а, как это часто присуще частному праву, самобытным путем, совсем недавно, «в силу требований самой жизни»4, т. е. ввиду острой потребности хозяйствующих субъектов, соглашения между владельцами транспортных инфраструктур, являясь договорами организационными (Морозов, 2011б: 46), призваны как ускорить перевозочный процесс, так и обеспечить его безопасность.
Систему организационных транспортных договоров следует подразделять на два уровня, где первый уровень связан с обеспечением интересов перевозчика, а второй уровень – пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей и грузовладельцев (Бурдин, 2025: 145). Рассматриваемый в настоящей статье вид договора следует относить к первому уровню, что обосновывается следующим.
Грузоотправитель (заказчик) обращается к перевозчику с целью доставки груза, багажа, грузобагажа, почты из пункта «А» в пункт «Б». Стороны договариваются об условиях и в конечном итоге заключают между собой соответствующий договор перевозки, предусмотренный главой 40 Гражданского кодекса Российской Федерации «Перевозка»5 (далее по тексту – ГК РФ).
Впоследствии перевозчик в силу того, что его ресурсы ограничены и ему не принадлежат необходимые для перевозки объекты инфраструктуры, обращается к первоочередному владельцу транспортной инфраструктуры и заключает с ним имущественный (организуемый) договор об оказании транспортных инфраструктурных услуг (применительно к железнодорожному транспорту, речь идет о железно-инфраструктурном договоре (Ткаченко, 2020: 464), предусмотренном ст. 14 и ст. 50 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Фе-дерации»1, а также п. 10 Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2003 г. № 703))2.
Тем не менее на практике нередко складывается осложненная ситуация, когда заключение названных двух договоров остается недостаточным для успешной реализации перевозки, поскольку перевозчику для выполнения принятых на себя обязательств требуется использовать не одну, а несколько транспортных инфраструктур, которые при этом принадлежат разным владельцам (Морозов, 2009: 112). В таком случае первоочередной владелец железнодорожной транспортной инфраструктуры, действуя в интересах перевозчика, в силу императивной правовой нормы, регламентированной абз. 4 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»3, обязан заключить со всеми иными (сопредельными) задействованными владельцами транспортных инфраструктур соответствующие вспомогательные соглашения, направленные на организацию имущественных правоотношений между первоочередным владельцем транспортной инфраструктуры и перевозчиком, закрепленных организуемым железно-инфраструктурным договором.
Несмотря на то обстоятельство, что возможность и даже необходимость заключения указанных договоров на железнодорожном транспорте предусмотрена специальным законодательством, в частности, абз. 4 ч. 1 ст. 11, абз. 2 ч. 3 ст. 14 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»4, данный вид договора по-прежнему является непоименованным, т. к. он не регламентирован в разделе IV ГК РФ «Отдельные виды обязательств». Это означает, что организационные договоры заключаются как «вольные» конструкции по принципу свободы договора, что неизбежно приводит к проблеме дальнейшей переквалификации подобных договоров в судебном порядке по правилу аналогии закона в те виды и подвиды договоров, которые регламентированы законом (в подавляющем большинстве случаев они переквалифицируются в имущественные договоры, что, на наш взгляд, является в корне неверным подходом ввиду фундаментальных различий имущественных и неличных неимущественных отношений) (Бурдин, 2024а: 193).
Несомненно, в Российской Федерации при перевозках на железнодорожном транспорте часто происходит ситуация, когда перевозчик и владелец транспортной инфраструктуры совпадают в единственном лице – ОАО «РЖД» – и в таком случае не возникает нужды в привлечении к перевозочному процессу иных владельцев транспортных инфраструктур (Моргунова, 2005: 19). В действительности, подобное положение дел является лишь недостатком уровня конкуренции на рынке транспортных услуг и потому нисколько не умаляет значимость и самостоятельность договоров между владельцами транспортных инфраструктур5. Не стоит исключать из своего внимания и тенденцию постепенно возрастающего количества государственных и частных владельцев транспортных инфраструктур, так или иначе составляющих конкуренцию гигантскому монополисту ОАО «РЖД» (Роменский, Корякин, 2023: 176‒177).
Итак, изложив основную суть потребности в договорах между владельцами транспортных инфраструктур и порядка их заключения, скажем об их правовой природе применительно к железнодорожному транспорту.
Следует сделать ремарку, что, поскольку соглашения между владельцами транспортных инфраструктур являются организационными, т. е. возникающими из обязательств с неимущественным содержанием, то им свойственны все те качества, присущие организационным договорам, связанным с имущественным оборотом, а именно: направленность на организацию иного обязательства, безвозмездность регулируемых отношений, тождественность интересов участников и объединение ими усилий и (или) вкладов для достижения общей цели (совместная деятельность), автономия воли каждого участника (каждый участник ‒ самостоятельный субъект гражданского права), долгосрочный характер и письменная форма договора (Бурдин, 2024а: 189–196).
В данной статье представляется целесообразным раскрыть правовую природу исследуемого договора посредством наложения на него признаков организационных договоров в целом.
Во-первых, подобный вид соглашения, равно как и любой другой организационный договор, имеет неразрывную связь с организуемым договором. В нашем случае им является имущественный договор, а именно ‒ железно-инфраструктурный, заключенный между перевозчиком и первоочередным владельцем транспортной инфраструктуры.
К.А. Кирсанов обоснованно считал, что конечный результат организационных обязательств – это либо возникновение иного обязательства (например, предварительный договор или регламентация порядка направления оферты), либо урегулирование уже сложившихся договорных отношений по организационным вопросам1. Договор между владельцами транспортных инфраструктур следует относить ко второму типу, поскольку в данном случае не предполагается возникновение нового организуемого договора в будущем.
Некоторые современные авторы не совсем корректно указывают, что транспортный организационный договор является основанием для заключения договора перевозки, при этом предполагая под организационным договором договор между перевозчиком и первоочередным владельцем транспортной инфраструктуры, тем самым смешивая разные виды обязательств (Беляев, 2014: 26‒27).
В действительности договор между владельцами транспортных инфраструктур выполняет исключительно служебную роль во исполнение организуемого договора и не может существовать автономно, т. е. в отрыве от последнего, т. к. без существования организуемого договора нет какой-либо нужды в договоре организационном. Также и организуемый договор немыслим без организационного договора, поскольку без него установленный сторонами предмет организуемого транспортного договора в принципе не может быть достигнут (Припузова, 2017: 61).
Вспомогательная функция состоит, в нашем случае, в разрешении организационных вопросов. Среди них: согласование работы диспетчерских служб, установление условий технического обслуживания и эксплуатации железнодорожного подвижного состава, регулирование обменных железнодорожных парков, фиксация условий ответственности владельцев транспортных инфраструктур друг перед другом и перед перевозчиками (абз. 4 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»2).
Эта обслуживающая функция – организовать и обеспечить возможность перевозчику реализовать свои обязательства по железно-инфраструктурному договору путем предоставления инфраструктуры в пользование перевозчикам – и составляет предмет договора между владельцами транспортных инфраструктур. Как верно отмечается в вышеупомянутой норме, закрепленной в абз. 4 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», направленность на разрешение вышеупомянутых вопросов составляет существенные условия соглашений между владельцами транспортных инфраструктур на железнодорожном транспорте.
Именно благодаря подобным организационным соглашениям, которые заключают между собой владельцы транспортных инфраструктур, становится возможным преобразовать их несогласованные и разнонаправленные действия в цельную «мозаичную картину»3, т. е. направить свои усилия в единое русло на достижение общей цели, тем самым реализуя на практике суть понятия совместной деятельности.
А.И. Хаснутдинов верно указывал, что, признавая обязательства с неимущественным содержанием, мы одновременно утверждаем, что договоры бывают организуемыми (основными ‒ имущественными) и организационными (вспомогательными – неличными неимущественными, направленными на обеспечение организуемых договоров)4. В нашем случае основной договор – договор между перевозчиком и первоочередным владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта, а вспомогательный ‒ договор между владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта.
Во-вторых, поскольку вдобавок к первому признаку исследуемый вид договора является безвозмездным, он регулирует неличные неимущественные (организационные) отношения, возникающие из обязательств с неимущественным содержанием. Данные отношения не имеют ни- какой связи с оплатой выполненных работ (оказанных услуг) ‒ владельцы транспортных инфраструктур не платят друг другу, поскольку оплату уже фактически произвело заинтересованное лицо – перевозчик – в рамках имущественных (организуемых) правоотношений. Передача имущества также не происходит, т. к. у каждого владельца транспортной инфраструктуры сохраняется триада правомочий: владение, пользование и распоряжение транспортной инфраструктурой. Бесспорно, правомочие пользования инфраструктурой может быть передано третьим лицам, но этот вопрос никоим образом не касается договора между владельцами транспортных инфраструктур – он регулируется договором, заключенным между первоочередным владельцем транспортной инфраструктуры и перевозчиком. Соответственно, считать данный договор имущественным и как-либо соотносить его с возмездными договорами (возмездное оказание услуг, возмездное выполнение работ, аренда и т. д.) не представляется возможным.
Некоторые авторы указывают на то, что исполнение обязательств по договору между владельцами транспортных инфраструктур может быть обеспечено неустойкой, значит, у его участников возникает материальный интерес, следовательно, отношения между ними становятся имущественными, а договор – возмездным. В частности, А.А. Ипатов верно утверждает о безвозмездном характере организационных правоотношений между владельцами транспортных инфраструктур, однако не совсем корректно выстраивает свои рассуждения на фундаменте идеи наличия у участников этих отношений явного материального интереса в связи с возможностью применения в рамках этих отношений неустойки (Ипатов, 2018: 146). Подобный довод фактически подводит к идее отрицания концепции обязательств с неимущественным содержанием, что является безосновательным по следующим причинам.
Е.В. Пассек убедительно доказал, что неустойка действительно создает имущественную ценность, тем не менее она не оказывает никакого влияния на природу организационных отношений, а лишь прибавляется к ним «сверху» произвольно по воле их участников (Пассек, 1893: 22). М.М. Ви-навер дополнил, что необходимо разграничивать предмет обязательства и интерес от его неисполнения (неустойка), ведь, как известно, применение неустойки есть один из способов защиты гражданских прав, воспользоваться которым могут и стороны неличных неимущественных соглашений (Винавер, 1908: 186). Значит, неимущественное обязательство останется безотносительным к имуществу и сохранит себя как неимущественное (Рясенцев, 1939: 42), а неустойка есть лишь мера воздействия на должника в случае нарушения им договорных условий (Голевинский, 1872: 9).
В-третьих, анализируемый вид договора отличается еще одним уникальным свойством ‒ тождественностью интересов его участников, т. е. наличием у них общей согласованной цели, которую они достигают вместе, объединяя свои усилия и (или) вклады (совместная деятельность). Такая черта не присуща ни имущественным, ни даже безвозмездным договорам, ныне регламентированным в разделе IV ГК РФ, поскольку и в возмездных, и в безвозмездных договорах интересы его участников разнятся. В случае с договором между владельцами транспортных инфраструктур их объединяет единая цель, заключающаяся в организации владельцами транспортных инфраструктур имущественных правоотношений по использованию перевозчиком транспортной инфраструктуры.
В-четвертых, договор между владельцами транспортных инфраструктур является долгосрочным, т. е. длящимся либо с неопределенным сроком исполнения, и к тому же подразумевающим письменную форму договора. Некоторые авторы даже указывают не просто на длящийся характер таких организационных отношений, а на их систематичность и постоянство (Лернер, 2013: 17–21).
В-пятых, участники данного договора – владельцы транспортных инфраструктур – это самостоятельные субъекты гражданского права, обладающие автономией воли, которых следует относить к понятию транспортной организации, поскольку они способствуют реализации перевозочного процесса (Бурдин, 2024б: 6).
Поскольку мы признаем организационные отношения в предмете гражданского права, то, соответственно, предполагаем необходимым и обеспечить возможность защиты прав и законных интересов их участников, столкнувшихся с неисполнением организационного обязательства, через институт гражданско-правовой ответственности в общем установленном порядке (возмещение вреда, возмещение упущенной выгоды, взыскание неустойки, понуждение к совершению определенных действий и т. д.) (Морозов, 2011а: 45).
Вышесказанное позволяет сформулировать определение договора между владельцами транспортных инфраструктур: это соглашение, по которому два и (или) несколько владельцев транспортных инфраструктур принимают на себя обязательства по осуществлению совместной деятельности, направленной на организацию систематического исполнения обязанностей перевозчика, возникших из имущественных договоров между перевозчиком и владельцем транспортной инфраструктуры в рамках перевозочного процесса.
Указанное определение следует закрепить в подразделе к главе 40 ГК РФ «Организация перевозок», введение которой предлагалось нами ранее (Бурдин, 2025: 146).