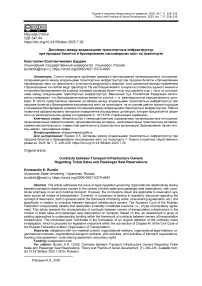Договоры между владельцами транспортных инфраструктур при продаже билетов и бронировании пассажирских мест на транспорте
Автор: Бурдин К.К.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме правового регулирования организационных отношений, складывающихся между владельцами транспортных инфраструктур при продаже билетов и бронировании пассажирских мест на транспорте с уклоном на воздушный и морской, хотя сделанные выводы применимы к бронированию на любом виде транспорта. На настоящий момент в науке не сложилось единого мнения в отношении бронирования как в целом (в рамках договора букинг-нота, код-шеринга и др.), так и по соглашениям между владельцами транспортных инфраструктур. Верховный Суд Российской Федерации категорично утверждает, что бронирование всегда является услугой, т. е. разновидностью имущественного договора. В тексте представлены признаки договоров между владельцами транспортных инфраструктур при продаже билетов и бронировании пассажирских мест на транспорте, на их основе дается оценка подходов к пониманию бронирования в рамках соглашений между владельцами транспортных инфраструктур. Работа позволила сформулировать авторское определение исследуемых договоров, которое предлагается закрепить на законодательном уровне в подразделе гл. 40 ГК РФ «Организация перевозок».
Обязательства с неимущественным содержанием, организационные отношения, организационные правоотношения, организационные договоры, организационные транспортные договоры, совместная деятельность, совместная деятельность транспортных организаций, бронирование, букинг-нот, код-шеринг, секундарные права
Короткий адрес: https://sciup.org/149148955
IDR: 149148955 | УДК: 347.44 | DOI: 10.24158/tipor.2025.7.29
Текст научной статьи Договоры между владельцами транспортных инфраструктур при продаже билетов и бронировании пассажирских мест на транспорте
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия, ,
,
На практике нередко встречается ситуация, когда владельцы транспортных инфраструктур заключают между собой соглашения по поводу продажи билетов и бронирования пассажирских мест на воздушном и морском транспорте. Тем не менее в доктринальной литературе до сих пор не сформировалось единого мнения относительно правовой природы подобных соглашений. Представляется актуальным проанализировать сложившиеся на настоящий момент подходы к пониманию таких договоров, на этой основе представить их квалифицирующие признаки и сформулировать авторское определение.
В литературе не подвергается сомнению то обстоятельство, что подобные соглашения могут заключаться при перевозках на всех видах транспорта. Как верно указывал Б.И. Пугинский, «объективное существование правовых явлений совершенно не зависит от того, урегулированы они законом или нет»1. Иными словами, даже будучи юридически непризнанными, непоименованные обязательства в любом случае возникают «в силу требований самой жизни»2.
В ст. 799 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)3 указано, что транспортные организации вправе заключать между собой договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов, а порядок заключения таких договоров определяется в специальном законодательстве. Здесь следует сделать уточнение применительно к теме настоящей работы: действующая редакция указанной нормы подразумевает под транспортными организациями исключительно перевозчиков и исключительно на различных видах транспорта, с чем нельзя согласиться, поскольку из внимания совершенно необоснованно ускользают иные хозяйствующие субъекты, которых следует относить к категории транспортной организации: перевозчиков как таковых (не только на различных видах транспорта), транспортных операторов и, наконец, владельцев транспортных инфраструктур, так как осуществляемый ими основной вид деятельности прямо (перевозчики) либо косвенно (транспортные операторы и владельцы транспортных инфраструктур) связан с перевозочным процессом (Бурдин, 2024б). Кроме того, стоит учитывать и такой случай, когда весь перевозочный процесс осуществляется с использованием лишь одного вида транспорта.
Тема бронирования как таковая исследовалась юристами применительно к различным сферам общественной жизни: бронирование гостиничного номера в отеле (Тихомирова, 2016); билета на зрелищное мероприятие (театр, кино, концерт и т. д.) (Рукавишникова, 2022); операторских ту-ров4; товара (например, на интернет-площадке «Авито») (Гандилов и др., 2025); транспортного средства (такси, автобуса, грузовика)5; пассажирского места и (или) грузовой вместимости на транспортном средстве6 и т. д. При этом стоит отметить и еще одну неисследованную область – бронирование абонентских номеров – опцию, предлагаемую большинством операторов связи7.
Несмотря на широкий спектр действия подобной правовой конструкции, бронирование все еще остается малоизученным и по-прежнему неоднозначным, мнения относительно его юридической квалификации существенно разнятся: договор аренды (Тарасов, 1968: 210); договор оказания услуг (Карпеев, Мурашова, 2021); договор перевозки8; предварительный договор (Брагинский, Витрянский, 2011); преимущественное право требования (Морозов, 2011). Также среди различных позиций особенно выделяется мнение Д.С. Федотовой о том, что бронирование является не договором, а секундарным правом9. Тем не менее подавляющая часть указанных исследований касалась, говоря обобщенно, только правовой природы договора код-шеринга и букинг-нота и при этом никак не затрагивала возможность включения обязательств по бронированию в соглашения между владельцами транспортных инфраструктур. Другими словами, большая часть опубликованных работ была посвящена случаю, когда заинтересованное лицо обращалось в целях бронирования непосредственно к перевозчику, а не к владельцу транспортной инфраструктуры. Безусловно, бронирование по договорам код-шеринга и букинг-нота заслуживает индивидуального исследования, потому оставим его за рамками настоящей статьи и уделим ему особое внимание в отдельной работе.
Бронирование пассажирских мест и провозной емкости согласно соглашению между владельцами транспортных инфраструктур имеет значительные отличия от бронирования по договору код-шеринга (букинг-нота). В связи со сказанным в настоящей статье представляется актуальным исследовать тему бронирования пассажиро- и грузовместимости в рамках соглашений между владельцами транспортных инфраструктур.
По нашему мнению, договоры между владельцами транспортных инфраструктур при продаже билетов и бронировании пассажирских мест на воздушном и морском транспорте (равно как и на любом другом виде транспорта) являются договорами о совместной деятельности, поскольку возникают из обязательств с неимущественным содержанием, связанных с имущественным оборотом (Бурдин, 2024а: 193). Следовательно, их нужно относить к организационным договорам, а именно – к первому уровню системы организационных транспортных договоров, который связан с обеспечением интересов перевозчика (Бурдин, 2025б: 145), что обосновывается их неотъемлемыми свойствами.
Организационным договорам, связанным с имущественным оборотом, присущи следующие качества: направленность на организацию иного обязательства; безвозмездность регулируемых отношений; тождественность интересов участников и объединение ими усилий и (или) вкладов для достижения общей цели (совместная деятельность); автономия воли каждого участника (каждый участник ‒ самостоятельный субъект гражданского права); долгосрочный характер и письменная форма договора (Бурдин, 2024а). Следовательно, будет правильным раскрыть правовую природу исследуемого нами вида договора посредством наложения на него тех качеств, которые свойственны обязательствам с неимущественным содержанием в целом. Такой метод обеспечит возможность в том числе дать корректную оценку упомянутым подходам к пониманию правовой конструкции бронирования применительно к соглашениям между владельцами транспортных инфраструктур.
Ранее мы уже говорили о том, что соглашения между владельцами транспортных инфраструктур всегда направлены на организацию (обеспечение) организуемого имущественного договора, заключенного между перевозчиком и первоочередным владельцем транспортной инфраструктуры, задействованным в перевозочном процессе (Бурдин, 2025а: 198).
Суть идеи бронирования пассажирских мест и провозной емкости применительно к соглашениям между транспортными инфраструктурами заключается в следующем: заинтересованное лицо (грузоотправитель, турагентство либо пассажир), планируя наиболее оптимальный путь следования, обращается к перевозчику и заключает с ним договор перевозки пассажиров и (или) грузов. Впоследствии перевозчик, будь он первоочередным либо единственным перевозчиком в рамках конкретно взятого перевозочного процесса, обращается первоочередному владельцу транспортной инфраструктуры в целях закрепления за ним либо заинтересованным лицом (пассажиром, грузоотправителем) права на пассажиро- либо грузовместимость на конкретном рейсе (не путать с конкретным транспортным средством). При этом первоочередной владелец транспортной инфраструктуры, действуя в интересах перевозчика, обязан заключить со всеми иными (сопредельными) задействованными владельцами транспортных инфраструктур соответствующие вспомогательные соглашения, направленные на организацию имущественных правоотношений между первоочередным владельцем транспортной инфраструктуры и перевозчиком, закрепленных организуемым договором перевозки.
Тем не менее, раскрывая тему бронирования, невозможно отрицать иную последовательность, что подтверждается непосредственно реальной действительностью, а именно фактической возможностью каждым гражданином приобрести билет (забронировать пассажирское место и (или) провозную емкость) на интересующий рейс в кассе, располагающейся на территории владельца транспортной инфраструктуры, в том числе без прямой встречи с уполномоченными представителями перевозчика (т. е. на сегодняшний день уже нет необходимости обращаться непосредственно к перевозчику). Более того, во многих современных аэропортах, автовокзалах, морских (речных) портах имеется возможность произвести оплату через терминал с помощью банковской карты либо с использованием QR-кода в мобильном приложении онлайн-банка. Информацию о такой услуге владельцы транспортных инфраструктур размещают на интернет-сайтах (например, московские аэропорты «Домодедово»1 и «Внуково»2) и стендах с объявлениями рядом с кассами на самих объектах транспортных инфраструктур. Такая общедоступная возможность обеспечивается смешанными договорами, заключаемыми между владельцами транспортных инфраструктур и перевозчиками, а именно: договором о предоставлении транспортной инфраструктуры в пользование с элементами агентского договора и договора эскроу, что обосновывается следующим.
На настоящий момент подобные отношения между перевозчиком и владельцем транспортной инфраструктуры квалифицируются хозяйствующими субъектами как возмездные отношения, закрепленные агентским договором (ст. 1005 ГК РФ): агент (владелец транспортной инфраструктуры), выступая в интересах принципала (перевозчика), наделяется полномочиями на заключение договора перевозки с пассажирами и (или) грузоотправителями, а перевозчик принимает на себя обязательство по перевозке пассажиров, багажа, грузов по обозначенному маршруту (пути следования).
Другими словами, сложилась позиция, выражающаяся в том, что по таким договорам владелец транспортной инфраструктуры по поручению перевозчика производит бронирование пас-сажиро- и грузовместимости (провозной емкости) в пользу заинтересованных лиц от своего имени либо от имени перевозчика за счет перевозчика. Из данной логики следует, что интерес по договору явно носит возмездный характер для обеих сторон: агент, действуя в интересах перевозчика (в том числе от его имени), получает фиксированное вознаграждение от принципала за оказание агентских услуг, а принципал получает выручку с продаж, осуществленных на территории владельца транспортной инфраструктуры.
Кроме того, встречается ситуация, когда обязательство владельца транспортной инфраструктуры по хранению багажа и грузов клиентуры для последующей передачи перевозчику квалифицируется сторонами как договор эскроу (ст. 926.1 ГК РФ), что также не совсем правильно.
Обе указанные позиции лишь отчасти верны, поскольку из внимания необоснованно уходит договор о предоставлении транспортной инфраструктуры в пользование, который лежит в основе складывающихся правоотношений, а уже в дополнение к нему присоединяются элементы упомянутых агентского договора и договора эскроу. Ведь по сути речь прежде всего идет о предоставлении транспортной инфраструктуры ее владельцем в пользование перевозчику, что подтверждается определяющими признаками фактических правоотношений: договором регулируются возмездные взаимоотношения между владельцем инфраструктуры и перевозчиком, при этом интерес сторон состоит главным образом в извлечении прибыли (не совместная деятельность и, следовательно, не организационные отношения, так как у каждой стороны имеется различный имущественный интерес); прибыль извлекается благодаря удовлетворению интереса неопределенного круга третьих лиц - клиентов, заключающегося в предоставлении им возможности осуществить бронь, приобрести билет в максимально комфортных для них условиях, предполагающих вариативность (онлайн и офлайн разными легальными способами: наличными, банковской картой, QR-кодом; при этом с удобным меню, где отчетливо видны даты, время, стоимость, свободные места, типы/классы всех рейсов, их отличительные особенности и т. п.); место исполнения обязательства - объект транспортной инфраструктуры (офлайн и онлайн).
Исследуя данные соглашения, мы видим, что владелец инфраструктуры принимает на себя ряд обязательств: по бронированию, продаже, возврату/обмену билетов, по изменению забронированной пассажиро- и грузовместимости, по обеспечению своевременной и безопасной посадки пассажиров, постоянной охраны точки отстоя и отправления транспортных средств, хранения и последующего размещения грузов и багажа на подаваемые принципалом транспортные средства, проверки наличия у пассажиров и грузоотправителей соответствующих билетов перед отправлением, по консультированию клиентов по всем организационным вопросам, связанным с перевозкой пассажиров, грузов, багажа по обслуживаемым маршрутам. Также он обязуется производить отметки в путевой документации о фактическом времени прибытия и отправления транспортных средств, вести контроль над соблюдением времени прибытия и отправления транспортных средств, регулярно предоставлять всю имеющуюся информацию перевозчику. Сюда же может быть включена обязанность владельца инфраструктуры выделить помещение на его территории в пользу перевозчика для осуществления деятельности по продаже и бронированию билетов непосредственно представителями перевозчика.
При выполнении своих обязательств владелец транспортной инфраструктуры несет соответствующие расходы в связи с обслуживанием принадлежащей ему территории (высокая стоимость непосредственно самой земли, используемой под кассы, склады и паркинг; содержание зданий, сооружений, специального оборудования и интернет-сайта; частичная компенсация оплаты труда кассиров, грузчиков, уборщиков, технического персонала, IT-специалистов и иных задействованных в содержании объекта транспортной инфраструктуры сотрудников и т. д.). На стоимость билета и бронирования пассажировместимости и провозной емкости для лица, бронирующего и (или) покупающего билет, это никак не влияет.
Цена подобного договора, как правило, устанавливается в процентном отношении к стоимости проданного, забронированного билета (например, 20 % с каждого билета).
Таким образом, договор между владельцем транспортной инфраструктуры и перевозчиком по поводу бронирования и продажи билетов является смешанным имущественным договором, а именно: договором о предоставлении транспортной инфраструктуры ее владельцем в пользование перевозчику с элементами агентского договора и договора эскроу.
Необходимо отметить, что в договорах код-шеринга и букинг-нота по пассажирским перевозкам, где речь также не идет о соглашениях между владельцами транспортных инфраструктур, становится затруднительным соблюсти правило, закрепленное в ч. 2 ст. 429 ГК РФ, согласно которому формы предварительного и основного договора должны быть идентичными, в то время как заключить предварительный договор в форме кассового чека (билета) представляется нерациональным либо вовсе невозможным, поскольку в рамках подобного предварительного договора сторонам не удастся отразить в полной мере свои законные интересы и ожидания. Напомним, что форма договора перевозки пассажира (кассовый чек, билет) прямо установлена в абз. 1 ч. 2 ст. 786 ГК РФ, а также в п. 2 ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 20, ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»1, ч. 1 ст. 105 Воздушного кодекса Российской Федерации2. Аналогичное правило, на наш взгляд, косвенно подразумевается и в ст. 177 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации3.
Итак, по таким соглашениям владельцы транспортных инфраструктур принимают на себя обязательство не отдавать определенную вместимость фактически задействованного в интересующем рейсе транспортного средства третьим лицам. Можно сказать, что бронирование фактически означает закрепление за заинтересованным лицом пассажирского сидения на абстрактном транспортном средстве на конкретном рейсе, а в случае с грузовыми перевозками – закрепление за заинтересованным лицом объема грузовместимости (провозной емкости) на абстрактном транспортном средстве на конкретном рейсе.
В доктрине обоснованно выдержала критику и заслуженно нашла отклик в действующем законодательстве концепция, предложенная С.Ю. Морозовым (2009: 113) и состоящая в следующем. Перевозочный процесс, осложненный использованием сразу нескольких объектов транспортной инфраструктуры, принадлежащих разным владельцам, сам по себе предполагает, что первоочередной владелец транспортной инфраструктуры заключает со всеми последующими (сопредельными) владельцами транспортных инфраструктур соответствующие организационные (неличные неимущественные) договоры, направленные на обеспечение имущественных правоотношений между первоочередным владельцем транспортной инфраструктуры и перевозчиком, закрепленных организуемым договором перевозки.
Понятие транспортной инфраструктуры и договоров между ее владельцами, а также процедура их заключения более подробно описаны нами ранее по отношению к перевозкам на всех видах транспорта (Бурдин, 2025а: 197–198), лишь с тем различием, имеется ли в специальном законодательстве императивная норма права, обязывающая владельцев транспортных инфраструктур заключать такие соглашения и устанавливающая порядок их заключения. Тем не менее даже в случае отсутствия такой нормы подобные договоры на практике заключаются именно в указанном порядке, поскольку последний является наиболее рациональным и удобным для самих участников перевозочного процесса.
Примечательными в контексте исследуемой проблемы представляются положения, закрепленные в абз. 4 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»4, содержание которых, на наш взгляд, наиболее верно: корректно сформулирован порядок заключения соглашений, перечислены их существенные условия и правильно определена связь таких соглашений с имущественным железнодорожно-инфраструктурным договором (теория обязательств с неимущественным содержанием).
Аналогичная норма есть и в специальном законодательстве, посвященном перевозкам на морском транспорте, чего нельзя с определенностью сказать о перевозках на воздушном транспорте. В частности, речь идет о ч. 2 ст. 16 Федерального закона «О морских портах в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»5, где тем не менее не указано, кто обязан инициировать заключение организационного соглашения (не обозначен порядок). Воздушный кодекс и связанные с ним специальные нормативные правовые акты подобной нормы вовсе не содержат, за исключением лишь краткого упоминания в разделе II Приказа Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 821.
Вторым свойством соглашений о бронировании между владельцами транспортных инфраструктур выступает их безвозмездный характер. Отношения, регулируемые данным соглашением, не имеют никакой связи с оплатой выполненных работ (оказанных услуг). Владельцы транспортной инфраструктуры не осуществляют между собой взаимных расчетов, так как фактически оплата уже была произведена заинтересованной стороной – перевозчиком – в рамках имущественных правоотношений между перевозчиком и первоочередным владельцем транспортной инфраструктуры. Передача имущества также не происходит, поскольку у каждого владельца транспортной инфраструктуры остаются три основных права: владение, пользование и распоряжение. Таким образом, нельзя рассматривать данный договор как имущественный и соотносить его с возмездными договорами (возмездное оказание услуг, возмездное выполнение работ, перевозка, аренда и т. д.) (Бурдин, 2025а: 200), хотя мы и видим обратное в актуальной судебной практике2.
Третий ключевой признак – тождественность интересов участников договора – означает, что по данному договору владельцы транспортных инфраструктур устанавливают общую единую цель, которую они достигают совместными усилиями, вкладывая финансовые и (или) трудовые ресурсы. Исходя из того положения, что организационный договор априори является безвозмездным, следует, что основной интерес не может быть связан с извлечением прибыли.
Многие классики цивилистической мысли указывали, что обязательство вполне может носить для сторон сугубо нравственную ценность (Пассек, 1893: 16), и потому частное право призвано охранять не только имущественные, но и духовные интересы каждого человека (Покровский, 1998: 137). Наш современник В.Е. Карнушин смело дополняет: «Регулирование нематериальных благ – это показатель цивилизованности и духовного развития обществ» (2016: 81).
Ранее мы уже приводили несколько явных житейских примеров, убедительно доказывающих существование обязательств с неимущественным содержанием, не связанных с имущественным оборотом: последняя и единственная фотография покойного родственника, договоренности по содержанию домашнего питомца и т. п. (Бурдин, 2024а: 191). Здесь же следует дополнительно обозначить несколько мыслей уже применительно к организационным обязательствам, связанным с имущественным оборотом.
Обобщая мысли, выраженные классиками, и сопоставляя их с нашим мнением о сущности обязательств с неимущественным содержанием (Бурдин, 2024а), можно заключить следующее. Стороны в обязательствах с неимущественным содержанием, связанных с имущественным оборотом (одна из двух разновидностей), при осуществлении совместной деятельности либо вовсе не преследуют какую-либо имущественную цель (цель не приобретение материальных благ, а, например, духовный рост и поддержание доброго имени), либо лишь косвенно касаются ее, поскольку так или иначе направлены на обеспечение имущественного интереса, ведь они оба – неличный неимущественный и имущественный интересы – существовать друг без друга автономно не могут.
Употребляя такие понятия, как стремление к духовному росту и поддержанию доброго имени (репутации), мы подразумеваем, что для участников организационных договоров имеет значение не какое-либо материальное обогащение, а именно сам факт осуществления конкретной совместной деятельности, исходя из своих моральных принципов и личных соображений. В обоснование этой идеи можно вспомнить известное паломничество дореволюционной России: как христианские паломники из разных уголков страны проделывали огромный и тяжелый путь, чтобы добраться до Афона и располагающихся на этой священной земле монастырей. Известно, что и тогда так или иначе существовали безвозмездные договоренности между транспортными организациями относительно таких перевозок, при этом руководители этих организаций преследовали единые цели в поддержании Русской православной церкви, распространении веры, а также исходили из банальных соображений улучшения имиджа и деловой репутации. Из этого примера, конечно, можно сделать разные выводы: транспортные организации безвозмездно способствовали перевозочному процессу либо в соответствии со своими реальными моральными убеждениями, либо в надежде на более «мягкое» отношение к ним со стороны компетентных органов (государственный девиз «самодержавие, православие, народность»), либо в целях рекламы для будущих продаж и прибыли, либо для поддержания хороших отношений с другими транспортными организациями. Однако в любом случае отрицать объективное существование таких интересов (организационные обязательства, связанные с имущественным оборотом и не связанные с ним) невозможно.
Заключительными признаками являются долгосрочность правоотношений, закрепленных организационным договором, письменная форма такого договора, а также автономия воли всех его участников (Бурдин, 2024а: 194).
Таким образом, договоры между владельцами транспортных инфраструктур при продаже билетов и бронировании пассажирских мест являются организационными, в связи с чем не могут быть квалифицированы в качестве имущественного обязательства.
В завершение, перед тем как сформулировать авторское определение исследуемого понятия, нельзя не уделить внимание упомянутой идее секундарных прав, на которой настаивает Д.С. Федотова применительно к бронированию в рамках код-шеринга и букинг-нота1.
Исторически понятие Gestaltungsrechte (в отечественной цивилистике принято переводить как «секундарные права», «преобразовательные права», «права ожидания», «условные обязательства») было впервые введено немецким исследователем Э. Зеккелем в 1903 г. в публикации Die Gestaltungsrechte des burgerlichen Rechts в сборнике Festgabe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin zum 50 jährigen dienst-jubiläum ihres vorsitzenden, des wirklichen geheimen rats, Richard Koch и трактовалось как особая категория гражданских субъективных прав, где праву одной стороны соответствует не юридическая обязанность второй стороны, а лишь его связанность выбором кредитора, который праве требовать исполнения такого выбора (Зеккель, 2007). Таким образом, секундарные права рассматривались ученым в качестве одностороннего волеизъявления – односторонней сделки, направленной не на вещь или чье-либо поведение, а на другое субъективное право (создание, изменение, прекращение правоотношений в одностороннем порядке).
В литературе верно отмечается, что секундарные права не сумели закрепиться в отечественной науке и были убедительно опровергнуты большей частью ученых, хотя дискуссии по этому поводу не прекращаются2. Соглашаясь с М.М. Агарковым (1940: 67–74), подчеркнем, что, на наш взгляд, так называемые секундарные права фактически являются проявлениями правоспособности, а сами односторонние волеизъявительные действия – юридическими фактами. Иными словами, секундарные права в действительности – известные субъективные гражданские права в их традиционном понимании (Агарков, 1940: 73).
В связи со сказанным правильной представляется позиция С.Ю. Морозова (2011), заключающаяся в том, что бронирование пассажиро- и грузовместимости для лица, в пользу которого эта бронь производится, является преимущественным субъективным правом требования, позволяющим обеспечить закрепление за конкретным субъектом забронированную вместимость на абстрактном транспортном средстве на определенном рейсе в обозначенный будущий период.
Все это позволяет сформулировать определение договора между владельцами транспортных инфраструктур при продаже билетов и бронировании пассажирских мест: это соглашение, по которому два и (или) несколько владельцев транспортных инфраструктур принимают на себя обязательства по осуществлению совместной деятельности по поводу продажи билетов и бронирования пассажирских мест, направленной на организацию систематического исполнения обязанностей перевозчика, возникших из имущественных договоров между перевозчиком и владельцем транспортной инфраструктуры в рамках перевозочного процесса. Данное определение следует закрепить в подразделе к гл. 40 ГК РФ «Организация перевозок», введение которой предлагалось нами ранее (Бурдин, 2025б: 146).