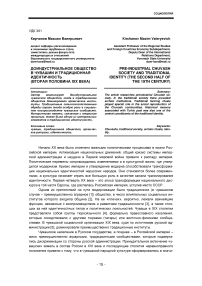Доиндустриальное общество в Чувашии и традиционная идентичность (вторая половина XIX века)
Автор: Кирчанов Максим Валерьевич
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует доиндустриальное чувашское общество, когда в традиционном обществе доминировали архаические институты. Традиционные сельскохозяйственные обряды играли тогда особую роль в социальном воспроизводстве чувашских сообществ. Историческая память, связанная с тюркским прошлым, также была одним из центральных элементов в традиционной идентичности.
Чуваши, традиционное общество, архаические ритуалы, идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/14939396
IDR: 14939396 | УДК: 391
Текст научной статьи Доиндустриальное общество в Чувашии и традиционная идентичность (вторая половина XIX века)
Начало ХХ века было отмечено важными политическими процессами в жизни Российской империи. Активизация национальных движений, общий кризис системы имперской администрации и неудачи в Первой мировой войне привели к распаду империи. Политические перемены сопровождались изменениями и в культурной жизни, где утвердился модернизм. Кризис империи и утверждение модерна способствовали трансформации национальных идентичностей нерусских народов. Они становятся более современными, а культура начинает играть все большую роль в качестве канала транслирования идентичности. Первая четверть ХХ века – это эпоха трансформации национального дискурса в той части Европы, где распалась Российская империя, уступив место СССР.
Одним из препятствий на пути модернизации было традиционное (в чувашском случае – преимущественно аграрное [1]) общество, в число влиятельных социальных институтов которого входила община [2]. На ее «плечах», вероятно, лежали важнейшие функции, связанные с воспроизводством и развитием традиционности [3], а также стоящих за ней идентичностных типов и политических лояльностей. Чуваши в XIX столетии представляли собой группы тюркоязычного [4], формально православного населения, которые соседствовали с другими тюрками (татары) или восточно-финскими сообществами. В чувашской социальной организации XIX века, судя по источникам русской администрации [5], доминировали преимущественно традиционные институты.
Чувашское население в Русском государстве, а позднее – в Российской империи – жило преимущественно аграрными, традиционными сообществами, которые подвергались дискриминации со стороны русской администрации. Принудительное включение чувашских земель в состав России в XVI веке и последующие столетия неравноправного положения привели к тому, что в чувашской народной культуре сформировались в значи- тельной степени негативные представления о русских. Это находит свое отражение в некоторых чувашских народных выражениях, а именно: ««Ачасем макарсан, асту, макар-ха, вырăса парса, тесе хăратна» («При плаче детей пугали: если будешь плакать, русскому отдам»), «Ан шарла, вырăс пур» («Молчи, есть русский»), «Вырăс юрласан, тăман, думар тухать» («Русский запоет - жди пургу»), «Выраса ятна ан кала» («Русскому не скажи имени»), «Хёрёх чурече, пёр алак - вырас кёресрен харатап» («Сорок окон, одна дверь - боюсь прихода русского») [6].
Традиционным социальным институтом среди чувашей, подавляющее большинство которых составляло крестьянство [7], была и семья [8], которая являлась составной частью общины, воспроизводя на микроуровне устоявшиеся традиционные социальные и культурно-религиозные ритуалы и процедуры. Чувашское традиционное общество не было исключением. Роль общины в его рамках была также очень велика. Община нередко функционировала как сообщество, которое стремилось четко очертить и ограничить свою географию. В 1760-е годы русский путешественник И.И. Лепехин, например, констатировал, что «…каждая деревня имеет свою особливую ограду, которая околицей называется и состоит из жердей… она служит на такой конец, чтобы скотина без пастуха не могла выйти из деревни и попортить их пашни, которые близ самих деревень находятся...» [9].
Община доминировала в жизни локальных чувашских сообществ до начала ХХ столетия, будучи основной организационной формой существования и функционирования чувашских групп. В подобной ситуации на протяжении длительного времени в регионах, населенных чувашами, преобладали традиционные отношения, а сами чуваши нередко воображались как народ в значительной степени архаичный. В частности, С.М. Михайлов и вовсе утверждал, что «чуваши вообще представляют пример скромности, покрываемой большим невежеством, и замечательны неопрятностью жизни» [10]. Кроме этого, С.М. Михайлов подчеркивал, что «чуваши не очень опрятны, но ныне год от году они стараются соблюдать в избах и посуде чистоту» [11]. Основой существования общины была коллективная собственность на землю и, как результат, зависимость от нее отдельных представителей того или иного чувашского сообщества. Именно община занималось периодическим пересмотром земельных наделов, перераспределением пахотных земель, лугов, пастбищ и прочих угодий. Община играла разнообразные нормативные и регулятивные роли, принимая решения относительно проведения сельскохозяйственных работ, регулируя освоение ландшафта (строительство дорог и мостов).
Община была институтом, который в значительной степени способствовал преобразованию аграрного ландшафта. Именно усилиями общины на территориях, населенных чувашами, шел процесс возведения мостов и строительства дорог. Строительство мостов было коллективным действием, которое через исполнение особых песен давало возможность подчеркнуть, что мост построен именно чувашами. В частности, известна песня строителей мостов - «Савай дапакансен юрри». Это вело к тому, что община становилась и тем фактором, который способствовал установлению более тесных связей между отдельными чувашскими сообществами.
Община регулировала и отношения в аграрной хозяйственной сфере между ее отдельными членами. В частности, зафиксированы случае передачи имущества, как правило скота, от одного члена общины другим. При этом самому акту передачи придавалось сакральное значение, что подчеркивает функционирование общины именно как традиционного сообщества. Предполагалась, что отказ от имущества (дар молодняка с отела -«пăру тумалла парни») в пользу других членов общины приведет к росту благополучия и удачи отказавшегося. На протяжении длительного времени в среде чувашского населе- ния сохранялась приверженность к архаичным обрядам [12], унаследованным от дохристианского периода истории.
Кроме того, община была и сообществом верующих. Поэтому некоторые наиболее крупные общины выступали инициаторами строительства православных церквей, беря на себя обязательства по их содержанию. Традиционное общество чуваш было христианским с некоторыми языческими пережитками [13]. Чувашское язычество, как и чувашский язык, испытали мощное влияние со стороны раннего дотюркского финно-угорского субстрата [14], хотя именно древнетюркские элементы [15] доминировали в процессе генезиса и дальнейшего развития собственно чувашской традиционной версии идентичности. Чувашское дохристианское язычество было достаточно развитой религиозной системой. До настоящего времени дошли, в частности, тексты языческих молитв, обращенные к различным богам, например: «Эй, пĕтĕм тĕнчене çуратнă Ама! Санран пулни пурте усалла, пурте аван, даванпа эпир сана яланах тивёдлипе чуклетпёр» («О, Мать, сотворившая всю вселенную! Все, что от тебя произошло, полезно и хорошо: поэтому мы всегда по-должному приносим тебе жертвы») [16].
Среди наиболее ярких пережитков традиционного общества, которые среди чувашских крестьян наблюдались еще в начале ХХ века, макрообряды типа «чÿк» (в русском произношении - «чюк» [17]). Эти обряды совершали и крещенные чуваши. В ряде случаев доходило до избиения верующих христиан-чувашей, которые выступали против этих церемоний. Обряды типа «чÿк» разделяются на «учук», «чÿк от пожаров», «суха учук» (чюк пашне), «чÿк от града». В самом общем плане макрообряды этого типа представляли коллективные моления с возможными жертвоприношениями. Например, обряд «уй чÿк» проводился после массовых обрядовых мероприятий «çимĕк», посвященных духам умерших предков или сельскохозяйственным работам. Обряд имел массовый характер и именовался «халах чук».
Во время обряда в жертву приносился ягненок, разные части которого надлежало варить в разных чанах. Непосредственно после завершения обряда старики собирали и сжигали кости. В течение трех дней, которые следовали за обрядом, кололи трех баранов - за урожай, здоровье и от пожаров. После совершения обряда учук, проводившегося в июне, наступало время çинçе, связанное со строгим запретом на сельскохозяйственные работы. Обряд «халăх сăри» проводился весной, в «минкун энри» (неделю минкун) [18]. В ходе обряда чуваши просили дождя, уберечь от болезней, дать хороший урожай. Женщины на этот обряд не допускались. Мужчины варили «сăри» (пиво). Обряд «пысăк учук» с периодично- стью в 9, а позднее в 13 лет проводился в месяц «çурла» («месяц серпа») и был тесно связан с «çумăр чÿк» – обрядом, призванным вызвать дождь.
Различные формы, уровни и проявления традиционности отражены и в первых чувашских текстах, в частности – написанных Никифором Охотниковым [19]. Охотников отразил особую роль традиционности в жизни чувашского крестьянства. Одну из центральный ролей в социальной организации играла религия. Среди чувашских крестьян доминировала традиционная идентичность, одним из системообразующих элементов которой являлся именно религиозный взгляд на мир. В частности, именно в рамках религиозной картины миры объяснялись такие явления природы, как дождь и молнии. Последние в религиозном воображении чувашского крестьянства доминировали как молнии, при помощи которых «бог преследовал дьявола» [20].
В рамках подобного восприятия мира предполагалось, что наилучшим средством против молний являлось «парное молоко от черной коровы». С другой стороны, подобная религиозность чувашского крестьянства не может оцениваться как исключительно православная или в более широком плане – христианская. Она носила преимущественно традиционный характер, о чем, например, свидетельствует то, что чуваши нередко могли пренебрегать внешней стороной христианского ритуала. В частности, по воспоминаниям и этнографическим публикациям Н. Охотникова [21], «ужинать мы садились безо всякой молитвы, и никто не творил крестного знамения, но это не было небрежностью. Мы по обычаю предков только произносили слова: “Господи, не оставь”», что, вероятно, свидетельствовало о синкретическом характере традиционной чувашской культуры, одновременном сосуществовании и софункционировании в социальной жизни на микроуровне христианского и более раннего – языческого – элемента.
В начале 1850-х гг. С.М. Михайлов отмечал, что среди чувашей немало номинальных христиан в силу того, что «большая часть чуваш не знает доселе, для чего созданы храмы господни, а по наущениям ворожцов-жрецов думают, что храмы поставлены для притеснения их» [22]. Смешанный, гетерогенный характер чувашской культуры описывал и Иван Яковлев, который подчеркивал, что многие чуваши «были крещены в православие», но при этом сохраняли языческие традиции, «оставаясь грубыми язычниками» [23]. Аналогичные тенденции фиксировались и в более ранних работах о чувашах, написанных С.М. Михайловым [24], который констатировал наличие многочисленных суеверий, в том числе – веру в колдовство. Принудительная христианизация [25] не привела к искоренению традиционной веры, но, наоборот, стимулировала религиозный дуализм, проявлявшейся в том числе и в сохранении на протяжении длительного времени религиозно маркированных социальных традиций среди чувашей и в развитии чувашской антропонимики [26], системы имен, которая в одинаковой степени испытывала на себе влияние как христианских, так и языческих традиций.
Именно поэтому в рамках традиционной чувашской культуры имели место два процесса, связанных с трансформацией идентичности. Первый состоял в формировании среди чувашского населения концепта «Тăван çĕршыв» [27], который был в большей степени традиционной, выверенной в религиозной системе координат категорией, практически не связанной с светскими государственными институтами, представленными русской имперской администрацией. Второй процесс проявился в складывании религиозного синкретизма. Именно в рамках подобных тенденций Николай-чудотворец – образ, явно привнесенный русским влиянием, – в традиционной чувашской идентичности трансформировался в «могущественнейшего злого бога, которые посылает ушные болезни всех видов» [28].
Сосуществование дуализма в чувашской культуре XIX века подтверждается и свидетельствами Н. Охотникова о том, что в одной деревне могли одновременно проживать как крещеные, так и некрещеные чуваши. Причем и те, и другие могли верить в существование злых духов [29]. При этом первые нередко могли оставаться формальными христианами, сохраняя значительную часть традиционных обычаев, преимущественно в быту, например – при совершении погребальных обрядов [30]. Обычными членами местного общества могли являться и женщины-знахарки, а номинально крещенные чуваши верили в существование богов, в том числе и злых, к числу которых относились ирих и киреметь.
Кроме этого, чувашская деревня, описываемая Н. Охотниковым, постепенно переставала быть исключительно чувашской, так как среди ее жителей могли оказываться русские и татары. Чувашский исследователь Г.А. Николаев определяет чувашскую деревню как поликонфессиональную [31]. В начале 1860-х годов, комментируя специфику положения татар и чувашей, С.М. Михайлов подчеркивал, что «чуваши живут хуже татар» [32]. Татары становились своеобразными «жертвами» чувашей в серен – третий день пасхи, когда чуваши, вооружившись прутьями, ходили по деревне, просили у встречных денег и били их в случае отказа. С другой стороны, именно татары в определенной степени содействовали национальной активизации чувашей. Н. Охотников, например, вспоминал, что среди его первых учителей был татарин, а чуваши «могли не только свободно понимать татарскую речь, но даже и объясняться по-татарски» [33]. В ситуации одновременного существования различных тюркских групп, экономического и административного доминирования русских и делало свои первые шаги чувашское национальное движение.
В подобном виде чувашское общество, точнее, отдельные локальные группы чувашского населения существовали в Российской империи до начала ХХ века. Несмотря на начавшееся в 1870–1880-е гг. чувашское национальное движение, аграрное население практически не было затронуто значительными социальными изменениями. В этой ситуации задачи трансформации чувашского доиндустриального общества отодвигались на неопределенную хронологическую перспективу, хотя первые чувашские националисты не только внесли вклад в изучение и идеализацию национальных традиций, но и указывали на необходимость отказа от наиболее архаичных элементов чувашского крестьянского уклада.
Проект создания модернистской нации, основанной на ломке традиционных аграрных институтов, был реализован значительно позднее, будучи связанным с теми социальными и экономическими переменами и трансформациями, которые стали возможны благодаря принудительной модернизации в рамках авторитарной советской модели развития.
Ссылки:
-
1. Денисова Н.П. Обычное право чувашской крестьянской общины // Этнография чувашского крестьянства. Чебоксары, 1987. С. 76–100.
-
2. Денисова Н.П. Общинные традиции в хозяйственно-бытовой жизни чувашского крестьянства (вторая половина XIX – начало XX века) // Вопросы традиционной и современной культуры и быта чувашского народа. Чебоксары, 1985. С. 3–38.
-
3. Миннияхметова Т. Традиционные обряды закамских удмуртов: структура, семантика, фольклор. Тарту, 2003.
-
4. Калинин И.К. Восточно-финские народы в процессе модернизации. М., 2000. С. 64.
-
5. Денисова Н.П. Источники для изучения социальной организации чувашей в первой половине XIX века // Исследования по истории Чувашии периода феодализма. Чебоксары, 1986. С. 64–72.
-
6. Изоркин А.В. Пĕр суя юбилей зинчен? Вырăссем Атăлăн сылтăм енчи чăвашсемпе тузи зармăссене парăн-тарни 450 зул зитрĕ // Хыпар. 1996. Декабрĕн 25.
-
7. Кузнецов И.Д. Очерки по истории чувашского крестьянства. Чебоксары, 1958 ; 1969. Т. 1–2.
-
8. Денисова Н.П. Семья в обычном праве чувашей // Вопросы материальной и духовной культуры чувашского народа. Чебоксары, 1986. С. 112–144.
-
9. Лепехин И.И. Дневниковые записи путешествия по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 годах. СПб., 1771. С. 138.
-
10. Михайлов С.М. Предания чуваш // Михайлов С.М. Труды по этнографии и истории русского, чувашского и марийского народов / предисл., коммент. В.Д. Димитриева. Чебоксары, 1972. С. 25–31.
-
11. Михайлов С.М. Краткое этнографическое описание чуваш // Там же. С. 70–96.
-
12. Вышеславцев А. Похоронные и поминальные обряды некрещеных чувашей // Известия Русского географического общества. 1884. Т. ХХ. С. 274–279.
-
13. Денисов П.В. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959.
-
14. Meszaros D. A csuvas ösvallás emlekei. Budapest, 1909.
-
15. Денисов П.В. Древнетюркские элементы в религиозно-мифологических представлениях чувашей // Вопросы традиционной и современной культуры и быта чувашского народа. Чебоксары, 1985. С. 39–59.
-
16. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Казань ; Чебоксары, 1928. Вып. 1. С. 186.
-
17. Салмин А.К. Макрообряды типа чюк // Традиционное хозяйство и культура чувашей. Чебоксары, 1988. С. 72–83.
-
18. Тимофеев Г.Т. Тăхăръял (Сĕве тăршшĕнчи чăвашсем). Шупашкар, 1972.
-
19. Денисов П.В. Никифор Михайлович Охотников (очерк жизни и деятельности) // Вопросы истории дореволюционной Чувашии. Чебоксары, 1984. С. 3–30.
-
20. Охотников Н. Записки чувашина о своем воспитании // Земля Улыпа / сост. В. Захаров, Ю. Айдаш. М., 1980. С. 44–64.
-
21. Охотников Н. Приволжские чуваши (этнографический очерк) // Симбирские губернские ведомости. 1893. № 31, 52.
-
22. Михайлов С.М. Как управлять чувашами // Михайлов С.М. Труды по этнографии и истории… С. 172–173.
-
23. Яковлев И.Я. Воспоминания / подгот. текстов О.П. Яковлево и др. ; ред. Г.Н. Пчелов и др. Чебоксары, 1983. С. 20, 24.
-
24. Михайлов С.М. О музыке чуваш // Михайлов С.М. Труды по этнографии и истории… С. 38–42.
-
25. Таймасов Л.А. Христианизация чувашского народа в первой половине XIX века. Чебоксары, 1992.
-
26. Петров А.Л. Из истории чувашских дохристианских имен // Вопросы традиционной и современной культуры и быта чувашского народа. Чебоксары, 1985. С. 60–77.
-
27. Кудряшов Г.Е. Динамика полисинкретической религиозности. Опыт историко-этнографического и конкретносоциологического исследования генезиса, эволюции и отмирания религиозных пережитков чувашей. Чебоксары, 1974. С. 53.
-
28. Охотников Н. Мана пăхса ÿстерни // Чăваш литератури. Октябрьти революцичченхи тапхăр. Хрестомати / М.Я. Сироткин пухса хатĕрленĕ. Шупашкар, 1951. С. 56–76.
-
29. Акимова Т.М. Материалы по культу йĕрĕха у саратовских чуваш // Труды Нижневолжского областного научного общества краеведения. Саратов, 1929. Вып. 1.
-
30. Каховский Б.В. Погребальный обряд чувашского языческого населения // Современные социальные и этнические процессы в Чувашской АССР. Чебоксары, 1978. С. 118–146.
-
31. Николаев Г.А. Поликонфессиональная деревня Среднего Поволжья во второй половине XIX – начале ХХ века: «свои» и «чужие» // Чувашский гуманитарный вестник. 2010. № 5. С. 138–159.
-
32. Михайлов С.М. Краткое этнографическое описание чуваш. С. 83.
-
33. Денисов П. Никифор Охотников. Очерк жизни и творческой деятельности. Чебоксары, 1986. С. 25.