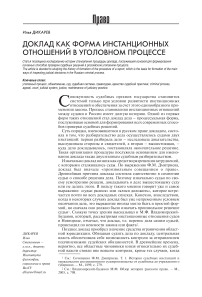Доклад как форма инстанционных отношений в уголовном процессе
Автор: Дикарев Илья Степанович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 10, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию истории становления процедуры доклада, послужившей основой для формирования основных способов проверки судебных решений в российском уголовном процессе.
Уголовный процесс, обжалование, суд, судебная система, правосудие, единство судебной практики
Короткий адрес: https://sciup.org/170166088
IDR: 170166088
Текст научной статьи Доклад как форма инстанционных отношений в уголовном процессе
С овокупность судебных органов государства становится системой только при условии развитости инстанционных отношений и обеспечения за счет этого единообразного при -менения закона. Процесс становления инстанционных отношений между судами в России имеет долгую историю. Одной из первых форм таких отношений стал доклад дела — процессуальная форма, послужившая основой для формирования всех современных спосо бов проверки судебных решений.
Суть порядка, именовавшегося в русском праве докладом, состо-яла в том, что разбирательство дела осуществлялось судами двух инстанций: первая разбирала дело — исследовала доказательства, выслушивала стороны и свидетелей, а вторая — вышестоящая, — куда дело докладывалось, постановляла окончательное решение. Такая организация процедуры послужила основанием для имено -вания доклада также двухэтапным судебным разбирательством.
Изначально доклад возник как средство разрешения затруднений, с которыми сталкивались суды. По выражению Ф.М. Дмитриева, доклад был вначале «произвольным совещанием о праве». Древнейшая причина доклада состояла единственно в сомнении судьи о способе решения дела. Поэтому изначально судьи по сво ему усмотрению решали, докладывать о деле вышестоящему суду или не делать этого. В пользу такого мнения говорит уже и самое выражение: «судьи рклися» или «ялися доложить», которое встре-чается почти во всех докладных списках. Конечно, впоследствии, когда в некоторых случаях доклад был уже непременным условием окончания дела, это выражение иногда могло быть и простой фор мой, но сначала оно должно было означать произвольное решение судьи1. Схожую точку зрения высказывал и М.Ф. Владимирский -Буданов, который, рассматривая инстанционные отношения судов в Новгороде, отмечал, что доклад, т.е. перенос дела самим судьей, происходил по неясности закона или факта2.
ДИКАРЕВ Илья
Позднее доклад приобрел значение средства ограничения област-ной юрисдикции. Обязывая судить дела по докладу, центральная власть обеспечивала себе возможность контроля за отправлением подчиненными судейских обязанностей. В древнейшие времена, вероятно, все областные чиновники князя относительно их судеб ной власти стояли вне всякого контроля, кроме тех случаев, когда на них приносилась жалоба. По мере появ-ления в правительстве государственного взгляда на управление это положение, естественно, должно было измениться. Само собой разумеется, что надзор за областным судом и расправою должен был начаться с судей низшего разряда, ибо ограничить их власть было легче: они не были первыми поверенными лицами князя1. Таким образом, крепнущая госу-дарственная власть более и более сосре доточивала у себя право пересмотра как меру подчинения себе местных судебных органов, ранее от нее не зависящих2.
В определенном смысле доклад можно рассматривать как показатель незрелости судебной системы. В условиях отсутствия иерархической судебной системы обеспе чение единообразной, соответствующей воле законодателя судебной практики было крайне затруднено. Единственным способом контроля за судопроизводством было непосредственное участие в приня тии решения. Двухэтапное судебное раз -бирательство было призвано компенсиро вать отсутствие развитых инстанционных отношений между судами различных уров -ней, не позволявшее осуществлять эффек-тивное судебное управление. Не случайно уже самые ранние кодифицированные нормативные акты Руси содержат предпи -сания о разрешении дел судьями из числа высших сановников на основе докладов, подготовленных нижестоящими судами.
Так, Новгородская судная грамота3 (ст. 20, 21) предусматривала, что судебное разбирательство на основании подготов ленного судьями доклада завершалось решением, которое выносилось в при сутствии суда высшей инстанции. Этот высший суд проходил трижды в неделю в покоях новгородского владыки в при сутствии коллегии, в которую входили по одному боярину и по «житьему человеку» с каждого конца Великого Новгорода. Ход судопроизводства фиксировался дьяками, а судьи нижестоящей инстанции удосто - веряли составленные документы своими печатями.
Положения Новгородской судной гра моты, касавшиеся процедуры доклада, получили развитие в более поздних памятниках русского права. В частности, московские князья, занимаясь кодифика цией законодательства, широко пользо вались новгородским и псковским зако нодательством (известно, например, что для Ивана III в 70-х гг. XV в. был специ-ально изготовлен сборник новгородско двинских актов). Поэтому нет ничего уди -вительного в том, что доклад был воспри нят московским законодательством.
Разрешение дел посредством доклада предусматривалось составленной в XV в. Записью о душегубстве4 (ст. 9), согласно которой лиц, происходящих из деревень удельных князей Московского стана, судили «волостели», докладывая своему князю, если будет в Москве; если же князя в Москве нет, докладывали великому князю или большому наместнику.
В Судебнике 1497 г.5 докладу были посвя-щены несколько статей. Наместники и «волостели», не наделенные полномочием рассматривать особо важные дела, были не вправе принимать решения о выдаче холопа или рабы, а также выдавать правые (в отношении своего господина), беглые или отпускные грамоты без утвержде ния вышестоящей инстанции (ст. 20 Судебника). «Недельщику» запрещалось без обращения в вышестоящую инстан цию отдавать на поруки или подвергать «продаже» воров, находящихся у него под арестом (ст. 34 Судебника).
Стремление усилить центральную власть за счет ограничения полномочий мест ных, в т.ч. судебных, органов, отчетливо заметно и в период правления Ивана IV Грозного.
В этот период посредством доклада обе спечивалась передача в руки центрального суда особо опасных для власти дел: обяза-тельное обращение по докладу устанавли валось при разборе дел о холопах, татях, разбойниках, лихих людях1.
Судебником 1550 г.2 устанавливалось, что по определенной категории дел (как правило, по наиболее тяжким преступле-ниям) местные суды после проведения тщательного исследования преступления обязаны были составлять доклады, кото рые представлялись в центральные судеб -ные органы — великому князю и Боярской думе. Эти последние и разрешали («вер-шили») дела по своему усмотрению на основании письменных материалов и без участия сторон.
Рассмотрение дела по докладу предпола-гало исследование судьями вышестоящего суда всех материалов дела, зафиксирован -ных в судном списке — своеобразном про -токоле, где фиксировались результаты раз бирательства нижестоящего суда. Решение вышестоящего суда записывалось на обо ротной стороне судного списка и являлось основанием для выдачи стороне, выиграв шей спор, правой грамоты.
Двухэтапный порядок судебного раз -бирательства придавал специфику проце дуре обжалования судебных решений, что выражалось, в частности, в возможности оспаривания в вышестоящем судебном месте судного списка, представлявшего собой, по определению И.Д. Беляева, «те бумаги, в которых прописывалось судеб ное дело в том порядке, в каком оно произ водилось, со всеми допросами тяжущихся и их свидетелями и показаниями»3.
Разрешение дела по докладу могло вклю -чать в себя деятельность одновременно 3 инстанций. Так было, например, в тех слу-чаях, когда дело с докладом поступало к государю: «Государь сначала или судил во второй инстанции лично, или предостав лял суд свой боярам; но это последнее рас -сматривалось сначала только как поруче ние, а потому суд бояр и не составлял для областных жителей особой инстанции. Всякий раз, когда доклад был представлен какому нибудь боярину, последний, рас смотрев его, сообщал свое мнение госу дарю. Государь произносил решение, а боярин прикладывал только свою печать к докладному списку, утверждая его таким образом по государеву слову»4.
В истории судопроизводства средне вековой России был период, когда зако нодатель отказался от доклада по целым категориям уголовных дел.
В XVI в. в результате реформ Ивана IV Грозного повсеместно появляются выбор ные органы - губные и земские избы, постепенно вытеснявшие «кормленщи ков». Одной из причин реформы стала неспособность наместников справиться с набиравшей обороты преступностью, пре жде всего разбоями и кражами. Проблема стояла настолько остро, что именно необ ходимость проведения в жизнь жесткой карательной политики стала одной из основных причин возникновения инсти тута губных старост. Соответственно исто -рическому моменту перестраивалась и организация работы судебных органов: в их руках сосредоточились все основные процессуальные функции, а деятельность осуществлялась ex officio .
Губным старостам вменялось в обязан ность по получении вести, что разбойники разбили то или другое село или деревню, тотчас, не дожидаясь предъявления исков, гнаться за разбойниками и ловить их не только в своем округе, но и в других окру гах. С целью предупреждения разбоев губ -ным старостам дозволялось также задер живать и всех проезжих подозрительных людей («необычайных и незнаемых»5). Компетенция губных властей простира -лась не только на поимку преступников, но также на суд над разбойниками (позд нее также - над татями, убийцами и под жигателями) и даже на заведывание тюрь мами6.
Нет ничего удивительного в том, что законодатель, следуя наметившейся пара дигме развития судопроизводства, счел необходимым в целях процессуальной экономии отказаться от сложных меха низмов проверки правильности судебных решений. Упрощение процесса выражалось не только в запрете обжалования приговоров губных органов, но и в отказе от системы двухэтапного судебного раз -бирательства.
Как отмечал В.А. Линовский, в самом начале устройства следственного процесса приговор первой инстанции, даже осужда ющий преступника к смертной казни, при -водился в исполнение ею самой без пере смотра высшей инстанцией. В Уставной книге Разбойного приказа, в которой опи-сывается порядок движения уголовных дел, нигде не говорится об их пересмотре высшей инстанцией. Так же и в Соборном уложении ничего не сказано о том, чтобы решения губных старост пересматрива лись в Разбойном приказе1. Более того, ст. 14 Медынского губного наказа 1555 г. прямо запрещала посылать на утвержде ние в Разбойный приказ и Боярскую думу приговоры по делам, рассмотренным в губных избах: «А списков в разбойных и в татиных делах старостам и целовальникам на Москву к боярам к докладу не посы лати, а вершити им разбойные и татиные дела по сему наказному списку»2. Только по одной позиции губная изба должна была отчитываться перед Разбойным при казом: согласно ст. 9 Белозерской губной грамоты 1539 г. изба обязывалась извещать приказ о количестве конфискованного имущества, оставшегося после удовлетво рения исков потерпевших3.
Впрочем, законодатель отчетливо осо знавал, что меры, предпринимавшиеся в целях борьбы с охватившими страну разбоями, все же носили чрезвычайный характер и являлись исключением из общего правила, в связи с чем так и не решился окончательно отказаться от про цедуры доклада по уголовным делам.
Сложившаяся к этому времени система двухэтапного судебного разбирательства зарекомендовала себя вполне положи тельно, а потому получила свое развитие не только в светском законодательстве — судебниках и Соборном уложении, но также и в Стоглаве — сборнике постанов -лений церковно земского собора, состо явшегося в 1551 г. по инициативе Ивана IV Грозного.
Во времена правления царя Феодора Иоанновича (1557—1598 гг.) дела по прежнему поступали по докладам при казных судей в Боярскую думу. Доклад делался начальником того места, из кото рого он поступал, т.е. первоприсутствую-щим приказа. Законы XVI и XVII вв. не содержат указаний на то, какие именно дела должны были непременно направ ляться в Думу на доклад. По государствен -ным преступлениям воеводам поручалось лишь производство сыска: вершить дела своей властью они не могли и были обя заны докладывать дела государю.
Процедура двухэтапного судебного разбирательства глубоко укоренилась в российском уголовном процессе, оказав заметное влияние на дальнейшее развитие форм судопроизводства.
Есть все основания полагать, что вошед-ший со временем в практику уголовного судопроизводства порядок утверждения приговоров вышестоящими судебными местами сформировался именно на основе процедуры двухэтапного судебного разби рательства.
Концепция двух порядков — старого доклада и утверждения приговоров — едина — судебное разбирательство вклю чает два этапа: на первом исследуются обстоятельства дела, на втором прини мается или утверждается окончательное решение. Разница состоит лишь в том, что при двухэтапном судебном разбиратель стве вышестоящие судебные места выпол няли значительно больший объем работы, ведь им приходилось самим разрешать представленные по докладу дела. Переход от доклада к новому порядку стал важным шагом на пути совершенствования аппа рата государственного управления, по скольку позволил разгрузить вышестоя щие судебные инстанции, освободив их от выполнения функций местных судебных органов, и одновременно обеспечить всю полноту контроля за деятельностью ниже стоящих судов.