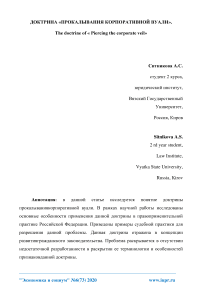Доктрина «Прокалывания корпоративной вуали»
Автор: Ситникова А.С.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 6-2 (73), 2020 года.
Бесплатный доступ
В данной статье исследуется понятие доктрины прокалываниякорпоративной вуали. В рамках научной работы исследованы основные особенности применения данной доктрины в правоприменительной практике Российской Федерации. Приведены примеры судебной практики для разрешения данной проблемы. Данная доктрина отражена в концепции развитиягражданского законодательства. Проблема раскрывается в отсутствии недостаточной разработанности в раскрытии ее терминологии и особенностей признаковданной доктрины.
Корпоративная вуаль, правовая доктрина, законодательство ответственность, предпринимательская деятельность корпорация
Короткий адрес: https://sciup.org/140252632
IDR: 140252632 | УДК: 004.02:004.5:004.9
Текст научной статьи Доктрина «Прокалывания корпоративной вуали»
Правовая доктрина: в Российской федерации это очень значимая часть юридической практики. В последнее время правовая доктрина стал важной частью разрешения судами дел. Правовая доктрина не является источником права, поэтому нет чёткого определения и сведения по денному и общепризнанномуопределению.
Именно такие же указанные мною выше сложности возникают по поводу доктрины о «снятии корпоративной вуали» или по другому «проникающей ответственности».
Прокалывание корпоративной вуали это юридическая концепция, предусматривающая наложение ответственности по требованию корпорации на ее акции.
Родиной доктрины снятия корпоративной вуали или в оригинале «piercing the corporateveil» является Великобритания. Точкой отсчёта принято считать дело Solomonv. Solomon 1897 г., в котором кредиторы пытались взыскать долги общества с одного из акционеров. Тогда суд отказал в иске, мотивировав своё решение независимостью юридического лица от его учредителей и участников. На протяжении XX века позиция судов Англии по вопросу ответственности в корпоративном праве постепенно менялись.
Считается, что к середине XX века доктрина достигла своего расцвета и стала признаваться судами, а уже четверть века спустя суды вновь скептически оценили её. Параллельно с этим доктрина развивалась в ряде европейских стран и США. В сентябре 2014 года в рамках поправок в ГК РФ данный институт получил своё законодательное развитие.
Прокалывание корпоративной вуали является частным случаем так называемой проникающей ответственности в корпоративном праве, который позволяет установить ответственность участников по долгам общества, материнской компании по долгам дочерней. Применение рассматриваемой доктрины обычно ограничено случаями недобросовестного поведения или злоупотребления правами. В разных странах данный вид ответственности применяется к разным видам юридических лиц. В США, например, она не применяется к партнёрствам некоммерческим организациям, а в Австрии наоборот существует возможность её применения как в отношении обществ, так и товариществ. В России норма о проникающей ответственности (ст. 53.1 ГК РФ) является общей для всех юридических лиц.
Ст. 53.1 ГК РФ закрепила ответственность ряда субъектов за убытки, причинённые юридическому лицу по вине этих субъектов. К ним относятся члены коллегиального органа управления, лица, которые уполномочены действовать от имени организации, а также способные фактически оказывать влияние на принятие решений. Кроме того, стоит отметить ст. 105 ГК РФ в старой редакции об ответственности по обязательствам дочерних компаний (которая сейчас фактически вложена в ст. 53.1 ГК РФ), а также ст. 10 ФЗ «О банкротстве» о субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Проникающая ответственность в корпоративном праве России, даже несмотря на принятие поправок, остаётся неразработанным институтом корпоративного права. Ст. 10 распространяется на узкий пласт правоотношений, связанных с банкротством, а ст. 53.1 имеет узкое применение, поскольку вопрос об ответственности может быть поднят только самим юрлицом или его учредителями (участниками), что, в свою очередь, означает, что кредиторы не могут в данном случае эффективно защитить свои интересы. Кроме того, не получила пока применения эта норма и на практике. Хотя ещё в 2012 году Высший Арбитражный Суд принимал решение, которое, казалось, станет толчком в развитии института проникающей ответственности в корпоративном праве (№ 16404/11 от 24 апреля 2012 г). В данном деле было признано, что задолженность фактически подконтрольного юридического лица может быть взыскана с юридического лица, этот контроль осуществляющего.
Сложность адаптации институтов проникающей ответственности в корпоративном праве также связана с трудностями доказывания. Кредиторам, к примеру, надо доказывать как минимум две группы обстоятельств для снятия корпоративной вуали. Во-первых, связь между юридическим лицом-должником и лицами, способными, оказывать влияние на него. В этом контексте особенно остро стоит вопрос об определении реальной возможности влияния, в зависимости от доли в капитале общества, а также иных фактических обстоятельств, позволяющих оказывать воздействие на деятельность юридического лица. Во-вторых, необходимо доказать причинно-следственную связь между действиями лица и убытками юридического лица, что также представляется достаточно трудоёмким процессом. Кредитору предстоит доказать, что действия лица были недобросовестными, не соответствовали стандарту «разумного коммерсанта». А когда мы говорим о критериях добросовестности, то всегда большую роль будет играть усмотрение конкретного судьи, рассматривающего дело.
Одним из первых таких дел в России, где была «сорвана корпоративная вуаль», стало дело ЮКОСа. С тех пор российский бизнес прошел долгий путь, набивая шишки на многочисленных попытках рейдерских захватов, оказания давления с помощью ресурсов правоохранительных органов и т. д. Многоступенчатые корпоративные структуры, в том числе с использованием офшоров, призванные замаскировать истинных владельцев бизнеса, стали применяться повсеместно. Соответственно, вуалей, которые только и ждут, чтобы их сорвали квалифицированные юристы, хватит на всех на долгие годы вперед.
Не так давно Высший арбитражный суд РФ уже официально применил термин «срывание корпоративной вуали» в своем Постановлении по делу «Парекс Банка» (Постановление ВАС РФ от 24 апреля 2012 года № 16404/11).
Российское законодательство о банкротстве также значительно преобразилось и теперь позволяет срывать корпоративные покровы для фактического взыскания долгов компаний-банкротов с их бенефициаров. В том числе и теневых владельцев, не имеющих официального отношения к бизнесу.
Инструментом для этого является субсидиарная ответственность лиц, осуществлявших фактический контроль над должником. Ее суть заключается в возможности возложить на таких лиц ответственность по неисполненным обязательствам должника. Совершенно логичная конструкция в ситуации, когда отделить бизнес компании от ее бенефициаров невозможно.
Один из самых громких примеров «срыва корпоративной вуали» с помощью субсидиарной ответственности за последние годы подарило дело о банкротстве Межпромбанка. По его обязательствам к субсидиарной ответственности в сумме более 75 млрд. рублей был привлечен бывший член Совета Федерации Сергей ПУГАЧЕВ.
Это дело примечательно тем, что бенефициар не имел юридически прямого отношения к Межпромбанку. Однако на основе косвенных доказательств (в основном свидетельских показаний сотрудников банка) было установлено, что ПУГАЧЕВ контролировал его через сложную цепочку владения, на конце которой находился подконтрольный ему новозеландский траст. Кроме того, ПУГАЧЕВ непосредственно принимал решения по всем ключевым вопросам управления банком, ставил банка, где проводил встречи с сотрудниками.
Конкурсному управляющему банка даже удалось добиться в Высоком суде Англии наложения ареста на дорогостоящее имущество ПУГАЧЕВА за рубежом. То есть был не только найден теневой бенефициар банка, но и выполнены фактические эффективные шаги по взысканию долгов с него.
Такие примеры, на первый взгляд, должны вселять оптимизм в любого, кто столкнется на практике со взысканием долгов с бизнеса, имеющего запутанные схемы корпоративного контроля (в том числе тянущиеся за рубеж).
Но, к сожалению, возможность призвать к ответу истинного владельца компании на практике может быть реализована лишь в редких случаях. Как показывает практика, большинство судов готово детально разбираться в офшорной структуре владения организации-банкрота только с подачи государственных органов либо крупных предпринимателей.
В остальных случаях ожидать от судьи достаточной глубины погружения в вопросы корпоративного владения не приходится. Потому что, для начала, он обычно одновременно ведет десятки дел (в каждом из которых есть своя история) с поджимающими процессуальными сроками, вредными представителями сторон и вечным недостатком времени.
В том числе и по этим причинам в завершенных процедурах банкротства удовлетворяются лишь в среднем 5-6% требований кредиторов, включенных в реестр. Компании-банкроты оказываются брошены на растерзание ее владельцами без активов или с минимальным их количеством. А сами нечистые на руку бенефициары прикрываются (часто успешно) конструкцией юридического лица как щитом.
Российское правоприменение постепенно поворачивается лицом к уже не новым, но прекрасно отлаженным в зарубежном праве конструкциям вроде «срыва корпоративной вуали». Тенденция налицо - за 2018 год, по статистике, удовлетворялась почти половина заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности.
Конечно, большинство из них - довольно простые процессы: директор или участник примитивно повыводил имущество из ООО или просто не подал вовремя заявление о банкротстве этого ООО (что является формальным основанием для субсидиарки). Но можно доказать причастность к управлению и через условного водителя-любовницу-приятеля-родственника-подчиненного и т. п. Конечно, без грамотных юристов вряд ли получится, но часто оно того стоит.
Понятно, что это влечет определенный перекос, профанацию самой модели ограниченной ответственности в ООО или АО. Там ведь смысл в том, чтобы предприниматель мог разумно рисковать, но при срабатывании рисков ответственность несло юридическое лицо. Потому что предпринимательская деятельность по определению рискованная. Если не будет права на риск - не будет предпринимательства, не будет бизнеса.
Однако на практике слишком часто рискуют неразумно, а нередко это не риск, а заранее запланированный кидок. Поэтому неизбежно, что общество, законодатель и правоприменители вырабатывают инструменты противодействия. Перестанут бизнесмены намеренно и незаконно уходить от долгов - и оснований для «проколов корпоративной вуали» не будет.
Для нормального предпринимательского климата необходимо, чтобы нельзя было безнаказанно обмануть кредиторов и оставить их ни с чем. Независимо от того, какие сложные схемы владения бизнесом были избраны недобросовестными бенефициарами.
Таким образом, несмотря на законодательное развитие доктрины снятия корпоративной вуали в России, в правоприменительной практике эта идея ещё не в полной мере нашла своё отражение и реализуется в практике, что каждый раз создаёт сложности для стороны, чьи интересы были нарушены.
Список литературы Доктрина «Прокалывания корпоративной вуали»
- Крылов В.Г. Доктрина снятия корпоративной вуали в странах общего права: опыт Великобритании и США // Гражданское право. 2013. № 4. С. 20-23.
- Ксенофонтов К.Е. Снятие корпоративной вуали в международных инвестиционных спорах // Вестник федерального бюджетного учреждения «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации». 2013. № 6. С. 69-75.
- Лазаренкова О.Г. Злоупотребление корпоративными правами: некоторые теоретические и практические аспекты // Юрист. 2016. № 24. С. 31-36.
- Татаринова Е.П. «Становление предпринимательской правосубъектности женщин в конце ХIХ - начале ХХ века» // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 5-2 (55). С. 173-175.