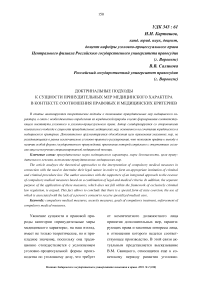Доктринальные подходы к сущности принудительных мер медицинского характера в контексте соотношения правовых и медицинских критериев
Автор: Карташов И.И., Саликова В.В.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы юриспруденции и правоприменения
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются теоретические подходы к толкованию принудительных мер медицинского характера, в связи с необходимостью определения их юридической природы в целях формирования соответствующего института уголовного и уголовно-процессуального права. Автор солидаризируется со сторонниками комплексного подхода к сущности принудительных медицинских мер, основанного на сочетании юридического и медицинского критериев. Дополнительно аргументируется обособленная цель применения указанных мер, не укладывающаяся в рамки исключительно уголовно-правового регулирования, что позволяет прийти к выводу о наличии особой формы государственного принуждения, применение которой сопряжено с отсутствием согласия лица на получение специализированной медицинской помощи.
Принудительные меры медицинского характера, меры безопасности, цели принудительного лечения, исполнение принудительных медицинских мер
Короткий адрес: https://sciup.org/143168847
IDR: 143168847 | УДК: 343
Текст научной статьи Доктринальные подходы к сущности принудительных мер медицинского характера в контексте соотношения правовых и медицинских критериев
Уяснение сущности и правовой природы категории «принудительные меры медицинского характера», на наш взгляд, имеет не только теоретическое, но и прикладное значение, поскольку она традиционно отождествляется с усложнением уголовно-процессуальной формы производства по уголовному делу, что требует от компетентного должностного лица принятия дополнительных мер, гарантирующих права и законные интересы лица, в отношении которого ведется соответствующее производство. В этой связи актуальным представляется высказывание В.М. Савицкого, относящееся еще к советскому периоду развития уголовно- процессуальной науки, о том, что отсутствие упорядоченной терминологии, расплывчатость легальных формулировок того или иного понятия снижают «информативные возможности закона, отрицательно сказываются на правоприменительной практике и порождают нескончаемые и бесплодные споры в теории» [1, с. 23]. Сказанное в полной мере применимо к понятию «принудительные медицинские меры», находящемуся на стыке правовой и медицинской наук. Именно этот фактор, по мнению И.Н. Введенского, обостряет необходимость четкого легального определения пределов принудительного лечения, назначаемого, в отличие от обычной практики, «не врачом, а юристом, являясь при этом практическим мероприятием, осуществляемым в определенных жизненных ситуациях и имеющим совершенно конкретное клиническое содержание» [2, с. 5].
Анализ специальной литературы позволяет констатировать отсутствие единого подхода к пониманию сущности рассматриваемой дефиниции, несмотря на многолетние исследования данной проблемы, предпринимаемые как в медицинской, так и в юридической науке. Так, часть специалистов акцентирует внимание на отличии медицинских мер от уголовного наказания, приводя сущностные признаки последнего [3, с. 152]. При этом нивелируется их медицинское значение с усилением правовой составляющей, которая проявляется в применении судом мер государственного принуждения на основании уголовного закона в строго установленной процессуальной форме. Однако даже при такой трактовке не отрицается, что их применение с точки зрения об- щего целеполагания направлено на улучшение психического состояния лица [4, с. 67]. Заметим, что подобный подход является отражением позиции Верховного Суда РФ, который в п. 2 Постановления Пленума от 7 апреля 2011 г. № 6 [5] разъяснил судам, что цели применения принудительных мер медицинского характера отличаются от целей применения наказания, поскольку заключаются в излечении или улучшении психического состояния лица, а также предупреждении совершения им новых, предусмотренных уголовным законом общественно опасных деяний. С учетом указанной позиции высшей судебной инстанции в науке уголовного права, как правило, выделяют исключительно легальные признаки принудительных мер медицинского характера, в числе которых: 1) исчерпывающий перечень названных мер, закрепленных в уголовном законе (ст. 99 УК РФ); 2) возможность их применения к ограниченному кругу лиц, а именно к лицам, совершившим общественно опасные деяния, в состоянии невменяемости; к лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; к лицам, совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости; 3) возможность назначения принудительных медицинских мер только при условии, что психическое расстройство связано с возможностью причинения лицом иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ).
Иной подход, который можно обозначить как компромиссный, предполагает сочетание правового и медицинского критериев при определении сущности принудительных медицинских мер. Наряду с приведенными выше уголовноправовыми признаками, в этом случае выделяют содержательную сторону медицинского лечения, которую формируют соответствующие медицинские манипуляции, клиническое наблюдение, диагностические и восстановительные мероприятия [6, с. 161–164]. При этом соответствующие меры именуются «медикосудебными» [7, с. 295]. Позволим себе солидаризироваться с данной позицией по следующим причинам. Во-первых, комплексный подход к моделированию дефиниции «принудительные медицинские меры» позволяет сочетать их правовую и медицинскую природу. Это важно, поскольку игнорирование последней основано, на наш взгляд, исключительно на том, что основания и порядок реализации данных мер предусмотрены действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством [8, с. 124]. Однако этот неоспоримый факт не может служить причиной игнорирования содержательной стороны мероприятий, проводимых на основании принятого судебного решения. Во-вторых, достижение обозначенных в уголовном законе целей применения принудительных медицинских мер, в качестве которых, как уже было отмечено, выступают излечение или улучшение психического состояния лица, а также предупреждение совершения им новых общественно опасных деяний, возможно только с учетом эффективности оказываемой ему медицинской помощи. В-третьих, нельзя согласиться с тем, что регламентация принудительных медицинских мер является прерогативой исключительно уголовных отраслей российского права. Например, виды психиатрической помощи и порядок ее оказания, в том числе и в рамках принудительного лечения, регламентируются разд. IV Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [9]. Общие права лиц, получающих медицинскую помощь, в том числе и психиатрическую, регламентируются значительным массивом нормативно-правовых актов в области здравоохранения [10]. Полагаем, что при конструировании дефиниции «принудительные медицинские меры» акцент необходимо делать не на отрасли права, регламентирующей их применение, а на принудительности такового, то есть отсутствии волеизъявления лица на осуществление специальных медицинских манипуляций. В рамках уголовного права соответствующие меры применяются на том основании, что лицом нарушены уголовно-правовые запреты, то есть совершено деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания, которое по состоянию здоровья к данному лицу применено быть не может. В этой связи, на наш взгляд, показательна позиция Ю.К. Якимовича, который отрицает уголовно-правовую природу рассматривае- мых мер именно на том основании, что их применение не направлено на достижение целей уголовного закона, которые применительно к наказанию определены в ч. 2 ст. 43 УК РФ как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений [11, с. 11]. При этом уголовно-процессуальная форма реализации принудительных медицинских мер связана с серьёзностью государственного принуждения, а также необходимостью констатации в судебном решении факта совершения общественно опасного деяния лицом, в отношении которого таковое применяется.
С точки зрения сущности и уголовноправовой природы принудительных медицинских мер интерес представляет позиция В.А. Пимонова, который относит их к числу мер безопасности, поскольку, по его мнению, основной целью их применения является именно медицинская помощь лицам, совершившим общественно опасные посягательства и находящимся в опасном состоянии, обусловленном психическим расстройством. Автор не относит данные меры к числу альтернатив уголовному наказанию, поскольку они применяются «без учета наличия или отсутствия вины» [12, с. 225]. Подобный подход детализируется А.Ю. Коптяевым с учетом законодательного опыта ФРГ, Англии, Швеции и Нидерландов, где принудительные медицинские меры являются обособленным уголовно-правовым институтом и признаются последствием совершения общественно опасного деяния лицом, страдающим психическим заболеванием, что исключа- ет учет категории «вина» при помещении такого лица в психиатрическую больницу [13, с. 34–36]. Можно предположить, что отнесение рассматриваемой группы мер к числу обеспечивающих безопасность основано на том, что лицо, помещаемое в психиатрический стационар по судебному решению, изолируется от общества, находится под постоянным наблюдением, что лишает его возможности причинить вред как себе, так и иным лицам. Таким образом, потенциально путем применения принудительных медицинских мер обеспечивается безопасность неограниченного круга лиц. Однако с учетом специфической цели их применения, обозначенной выше, полагаем, что безопасность является лишь одним из компонентов, определяющих сущность данного вида государственного принуждения. Наличие психического расстройства, требующего лечения, в данном случае первично, поскольку общественная опасность лица вызвана именно им, то есть субсидиарна по отношению к факту наличия заболевания.
Именно такой подход, на наш взгляд, явился причиной наличия в науке уголовного процесса третьей трактовки исследуемого понятия, в основе которой лежат преимущественно медицинские критерии детерминации данного вида государственного принуждения. В частности, А.А. Хомовский, опираясь на исследования в области психиатрии, подчеркивает отсутствие у лечебных мероприятий уголовно-правовой составляющей, акцентируя внимание на том факте, что по решению суда лицу оказывается именно медицинская помощь с целью восстановления его здоровья либо купирования острого состояния в случа- ях, не поддающихся полному излечению [14, с. 4–5]. Примечательно и то, что сторонники указанной позиции в качестве аргумента приводят отсутствие отрицательной оценки содеянного со стороны государства, что выражается в отсутствии у лица судимости, «гибкости» сроков помещения в специализированное медицинское учреждение, которые зависят от медицинских показаний, наличии возможности пересмотра судебного решения не в рамках внутрисистемного контроля, а при появлении к тому фактических оснований, в качестве которых выступают все те же медицинские критерии [15, с. 14].
Повторимся, что, разделяя приведенную выше компромиссную позицию, полагаем, что сущность принудительных медицинских мер необходимо определять, исходя из сочетания юридического и медицинского критериев. Существенным образом отличаясь от уголовного наказания, они, на наш взгляд, образуют особую форму государственного принуждения, состоящую в принудительном лечении невменяемых, а также вменяемых лиц, совершивших общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом. Детерминирующими признаками таких мер являются как правовые (возможность применения их к определенному кругу лиц, при наличии оснований и в порядке, предусмотренном уголовным и уголовнопроцессуальным законодательством), так и медицинские (наличие психического заболевания, являющегося потенциально опасным как для самого лица, так и для окружающих).
В этой связи предлагаем определять принудительные меры медицинского ха- рактера как меры государственного принуждения, применяемые в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, в отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние, предусмотренное нормами Особенной части УК РФ, страдающих психическими расстройствами, как исключающими, так и не исключающими вменяемость, в целях улучшения их психического состояния, а также обеспечения их безопасности и безопасности иных лиц.
Список литературы Доктринальные подходы к сущности принудительных мер медицинского характера в контексте соотношения правовых и медицинских критериев
- Савицкий В. М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии / В. М. Савицкий; под ред. А. Я. Сухарева. М.: Наука, 1987. 288 c.
- Аменицкий Д. А. Душевнобольные правонарушители и принудительное лечение / Д. А. Аменицкий, И. Н. Введенский, М. З. Каплинский, Е. А. Лисянская [и др.]; под ред. и с предисл. П. Б. Ганнушкина. М.: Изд-во НКВД, 1929. 114 с.
- Батанов А. Н. Иные меры уголовно-правового характера - самостоятельный институт российского уголовного законодательства? / А. Н. Батанов // Общество и право. 2011. № 5. С. 150-154.
- Шпынова Е. В. Принудительные меры медицинского характера: теоретические и правоприменительные проблемы / Е. В. Шпынова // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4. С. 65-72.
- О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 г. № 6 (в ред. от 03.03.2015 г.) // Справ.-прав. система "КонсультантПлюс".
- Дорогин Д. А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: правовые позиции судебных органов: монография / Д. А. Дорогин. М.: РГУП, 2017. 232 с.
- Романовский Г. Б. Биомедицинское право в России и за рубежом: монография / Г. Б. Романовский, Н. Н. Тарусина, А. А. Мохов [и др.]. М.: Проспект, 2015. 368 с.
- Долгополов К. А. Применение иных мер уголовно-правового характера: теоретические аспекты / К. А. Долгополов, Г. Б. Магомедов // Власть Закона. 2017. № 1. С. 117-124.
- О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 (в ред. от 19.07.2018 г.) // Справ.-прав. система "КонсультантПлюс".
- Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (в ред. от 07.03.2018 г.) // Справ.-прав. система "КонсультантПлюс".
- Ленский А. В. Производство по применению принудительных мер медицинского характера / А. В. Ленский, Ю. К. Якимович. М.: Юристъ, 1999. 48 с.
- Пимонов В. А. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с общественно опасными посягательствами средствами уголовного права / В. А. Пимонов. М.: Юрлитинформ, 2007. 336 c.
- Коптяев А. Ю. Производство о применении принудительных мер медицинского характера: дис. … канд. юрид. наук / А. Ю. Коптяев. Тюмень, 2010. 196 с.
- Хомовский А. А. Производство по применению принудительных мер медицинского характера: методическое пособие / А. А. Хомовский; науч. ред. Н. Д. Рахунов. М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1974. 118 c.
- Шагеева Р. М. Проблемы применения принудительных медицинских мер в уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук / Р. М. Шагеева. Уфа, 2005. 238 с.