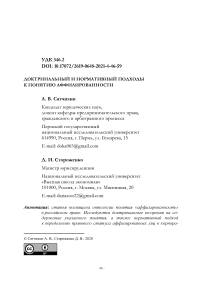Доктринальный и нормативный подходы к понятию аффилированности
Автор: Сятчихин А.В., Стороженко Д.И.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена онтологии понятия «аффилированность» в российском праве. Исследуются доктринальные воззрения на содержание указанного понятия, а также нормативный подход к определению правового статуса аффилированных лиц в корпоративном, антимонопольном, банкротном и налоговом законодательствах. Несмотря на закрепление понятия «аффилированные лица» в гражданском законодательстве, основания возникновения аффилированности, а также правовые последствия аффилированности конкретизируются в отраслевом законодательстве. Данное положение свидетельствует об отсутствии унифицированного понятия «аффилированность» в российском праве. Стоит признать, что расширение признаков аффилированности как отношений правовой связанности «размывает» указанное понятие в российском праве. Неопределенность и очевидная недостаточность правового регулирования понятия «аффилированность» демонстрирует отсутствие исчерпывающего правового регулирования деятельности лиц в рамках отношений, складывающихся внутри группы компаний. Универсализация понятия «аффилированность» в российском законодательстве не представляется возможной. Предлагается устанавливать аффилированность лиц непосредственно в правоприменительной деятельности, применяя функциональный подход к анализу возможности лица влиять на субъектов гражданских правоотношений.
Аффилированность, аффилированные лица, взаимосвязанные лица, взаимозависимые лица, группа лиц
Короткий адрес: https://sciup.org/147236821
IDR: 147236821 | УДК: 346.2 | DOI: 10.17072/2619-0648-2021-4-46-59
Текст научной статьи Доктринальный и нормативный подходы к понятию аффилированности
В ысказываясь о проблематике современных исследований аффилированности в отечественной цивилистике, А. В. Габов утверждает, что «основная дискуссия о необходимости регулирования отношений аффилированности, ее понятия, признаков и последствий просто отложена»1.
Представители современной отечественной цивилистики однозначно высказываются о недостаточности существующего в российском законодательстве понятийного аппарата для регулирования отношений групп компаний. Давая характеристику позиций ученых-цивилистов, отметим, что необходимость в модернизации понятийного аппарата, являющегося предметом настоящего исследования, возникает в рамках нескольких смежных подотраслей права, в связи с чем целесообразно рассмотреть подходы, касающиеся аффилированности лиц, имеющиеся в антимонопольном, корпоративном и банкротном законодательствах.
В доктрине корпоративного права справедливо отмечается, что «в российском законодательстве имеются лишь отдельные попытки регулирования права концернов (или холдингов), которые не основаны на каком-либо едином, продуманном подходе»2. В обоснование своей позиции Е. А. Суханов описывает процесс утверждения изменений в Гражданский кодекс Россий- ской Федерации3, в рамках которого произошло изъятие развернутых положений об аффилированности из статьи 53.2 ГК РФ с последующим восстановлением норм о материнских и дочерних компаниях в статье 105, а также установлением ответственности лиц, уполномоченных совершать волеизъявления от имени юридических лиц, в статье 53.1 ГК РФ.
В качестве обоснования недостаточности существующего законодательного регулирования взаимосвязи участников гражданского оборота И. С. Шиткина указывает на необходимость правового регулирования экономической зависимости хозяйствующих субъектов, не обладающих статусом юридического лица, но по сути представляющих единый бизнес4. В поддержку данной позиции Р. Т. Мифтахутдинов и А. И. Шайдуллин отмечают, что «регулирование отношений связанности и контроля является подлинной ахиллесовой пятой корпоративного и банкротного права России, ибо в этой сфере отсутствует какая-либо системность подходов»5.
Исследуя корпоративную природу взаимосвязи, И. С. Шиткина приходит к выводу, что аффилированность является исключением из правила о невозможности преодоления внешней границы корпоративной структуры юридического лица6. Действительно, в соответствии с установлениями правовых позиций высших судебных инстанций, наличие обстоятельств, свидетельствующих об общности экономических интересов, допустимо через подтверждение не только юридической, но и фактической аффили-рованности7.
Кроме того, при характеристике аффилированности в рамках корпоративных правоотношений исследователи акцентируют внимание на процессе формирования воли юридического лица. В частности, А. В. Ефимов пишет о том, что «правовые последствия аффилированности юридических лиц в ос-
А. В. Сятчихин, Д. И. Стороженко _________________________________________________ новном находят выражение на уровне деятельности органов юридических лиц по формированию воли»8.
Давая характеристику понятию «аффилированность», А. В. Габов указывает, что через это понятие «законодатель пытается описать потенциально конфликтогенную связь двух и более субъектов, которая может повлиять на отношения одного из субъектов такой “связанности” с третьими лицами, с которыми, в свою очередь, связан другой субъект “связанности”, на права и обязанности таких третьих лиц»9.
В научной дискуссии, посвященной положениям антимонопольного регулирования и сфере противодействия коррупции, аффилированность характеризуется через смежные подотрасли права. С учетом этого ученые-цивилисты констатируют расширение данного понятия в указанной сфере. Например, Т. А. Терещенко и Е. А. Ганюшин отмечают, что «в связи с неопределенностью понятия “аффилированность” сформировалась обширная судебная банкротная и налоговая практика, и на уровне экономической и административной коллегий Верховного Суда РФ признана возможность установления аффилированности не в соответствии со строгими правилами закона и его буквальным текстом, а на основе фактических обстоятельств дела, что важно при выявлении аффилированности как формы личной заинтересованности во внесудебной практике»10.
Исследуя роль аффилированности, О. С. Соколова утверждает, что «аффилированность как форма проявления коррупциогенных правоотношений с участием лиц, выполняющих публично значимые функции в органах власти и подведомственных организациях, является особым инструментом диагностики конфликта интересов»11. Также Д. А. Петров указывает на возможность применения для целей антимонопольного законодательства понятия «аффилированность» в широком смысле, что наиболее ярко проявляет себя при проведении антимонопольных расследований12.
Данная позиция представляется обоснованной, поскольку имплементация расширительного толкования понятия «аффилированность» и перечня лиц, соответствующих признакам аффилированности, из банкротного права в смежные отрасли является характерной для современной практики тенденцией. К примеру, из Методических рекомендаций по вопросам организации антикоррупционной работы в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих следует, что о факте личной заинтересованности и связанности должностных лиц с иными лицами свидетельствует их совместное проживание, совместное обучение и прохождение военной службы, совместный отдых и др.13
Развитие понятия аффилированности в рамках института несостоятельности в России характеризуется его имплементацией из антимонопольного законодательства с последующим расширением данного понятия через «фактическую аффилированность». Именно при разрешении обособленных споров в рамках дел о банкротстве судебная практика начала вырабатывать критерии, свидетельствующие о фактической взаимосвязи лиц.
Научная дискуссия в контексте установления значения понятия «аффилированность» в рамках несостоятельности связана с определением и разграничением степени взаимного контроля лиц. В научных исследованиях аффилированность классифицируется на простую, которая характеризует непосредственное влияние одного субъекта на другого субъекта, и сложную, которая возникает как связь между несколькими лицами и осуществляется через общее для всех контролирующее лицо14. В настоящий момент данный подход находит свое отражение в судебной практике15. Кроме того, исследователи выделяют личную и организационную формы зависимости16. Личная форма зависимости характеризуется наличием единого лица, входящего в состав органов управления, подконтрольных организаций, а организационная форма зависимости представляет собой процедурную особенность принятия решений, ставящую волеизъявление коллективного лица в зависимость от волеизъявления его конкретного члена (группы лиц)17. На наш взгляд, при классификации взаимосвязи лиц внутри группы оптимальным является разделение ее на «горизонтальную», учитывающую взаимоотношения равных субъектов внутри группы, и «вертикальную», учитывающую отношения контроля и подчинения18.
Специфика развития правоприменительной практики по делам о банкротстве состоит в поглощении понятием «аффилированность» понятия «контролирующее должника лицо»19. Неконтролируемое расширение понятия аффилированности происходит за счет его расширительного судебного толкования, в то время как понятие «контролирующее должника лицо» урегулировано законодательством о банкротстве. На наш взгляд, смешение данных понятий недопустимо, поскольку актуальная правоприменительная практика ориентирована на дифференциацию деятельности лиц внутри групп компаний в зависимости от степени их взаимного влияния. Сами по себе отношения аффилированности не порождают отношений контроля и, как следствие, не влекут за собой надлежащей ответственности в рамках хозяйственной деятельности корпорации.
Отмечая несовершенство нормативного регулирования, ученые-цивилисты выдвигают предложения, направленные на улучшение российского законодательства. Так, указывая на недостатки понятийного аппарата, характеризующего взаимосвязь в корпоративных правоотношениях, Д И. Степанов предлагает «взамен имеющей довольно узкое применение на практике конструкции “основное – зависимое общество” (ст. 67.3 ГК РФ)... ввести в корпоративное право и законодательство более универсальную категорию “контролирующее – подконтрольное лицо”»20.
Е. А. Суханов утверждает, что «невозможно и нецелесообразно создавать как специальное гражданско-правовое понятие аффилированности, так и единое понятие аффилированности, которое было бы общим для всего законодательства в целом, поскольку широкое и последовательное применение правил об аффилированности способно “похоронить” как таковую конструкцию юридического лица»21.
В свою очередь И. С. Шиткина указывает на межотраслевой характер данного понятия и утверждает, что общее понятие аффилированности необходимо закрепить в ГК РФ, при этом подразумевая возможность конкретизации данного понятия в отраслевых нормативно-правовых актах в зависимости от целей правового регулирования22.
Таким образом, в научном юридическом сообществе единогласно признается необходимость модернизации и унификации понятия «аффилированность» для определения вида связанности участников гражданского оборота. С. С. Алексеев пишет, что «правоотношение всегда является известной связью, указывающей, что конкретные участники занимают по отношению друг к другу определенное положение, то есть “связаны” друг с другом»23. Необходимость в установлении понятия «аффилированность» и приведении его в соответствие с современными реалиями обусловлена возникновением различных правовых последствий такой взаимосвязанности лиц.
Действующее российское законодательство содержит в себе широкий спектр нормативно-правовых актов, затрагивающих вопрос регулирования взаимосвязи между участниками гражданского оборота. Непосредственно об аффилированности упоминается в статье 53.2 ГК РФ, которая отсылает к понятийному аппарату статьи 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»24 (далее – Закон о конкуренции).
В Законе о конкуренции аффилированные лица – это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В частности, аффилированными юридическому лицу признаются:
-
1) член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
-
2) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
-
3) лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
-
4) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
-
5) если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансовопромышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.
Аффилированными физическому лицу, ведущему предпринимательскую деятельность, являются:
-
1) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
-
2) юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
В корпоративном законодательстве в качестве альтернативы понятию «аффилированность» используется понятие «заинтересованность», содержащееся в статье 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-ственностью»25 (далее – Закон об ООО), а также в статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»26 (далее – Закон об АО).
В отечественном законодательстве заинтересованность выражается:
-
1) в связи обществ через акционеров (участников), которые владеют (либо распоряжаются акциями (долями) общества на иных основаниях) 50 и более процентами уставного капитала обоих обществ;
-
2) связи обществ через исполнительные и наблюдательные органы;
-
3) связи обществ через лиц, не занимающих посты в исполнительных и наблюдательных органах обществ, но уполномоченных соглашением или договором давать обществу обязательные для него указания либо совершать от имени общества юридически значимые действия;
-
4) связи обществ через отношения родства и свойства с упомянутыми выше лицами.
В налоговом законодательстве наличие взаимосвязи между участниками оборота характеризуется как взаимозависимость лиц. Статья 105.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации27 содержит в себе перечень критериев, необходимых для установления взаимозависимости лиц. Обобщая нормативные критерии, отметим, что лица признаются взаимозависимыми в случае, если особенности отношений между ними могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц.
Особенностью нормативного регулирования, присущего налоговому законодательству, является прямое указание законодателя на полномочие суда признавать лиц взаимозависимыми по основаниям, прямо не предусмотренным в пункте 2 статьи 105.1 Налогового кодекса РФ. Наличие прямого указания на допущение усмотрения суда необходимо в связи с потребностью в установлении «круга таких операций налогоплательщика, в отношении которых существует риск их совершения на коммерческих или финансовых влияющих на цену условиях, отличных от тех, которые бы имели место в отношениях между независимыми друг от друга контрагентами, действующими самостоятельно и на строго предпринимательских началах, то есть в своих собственных экономических интересах»28. Тем самым налоговое законодательство и соответствующая судебная практика нацелены на избежание уклонения от налогообложения, снижения налогооблагаемой базы.
В статье 19 Федерального закона «О несостоятельности (банкротст-ве)»29 (далее – Закон о банкротстве) указывается на категорию заинтересованных лиц. В эту категорию включены:
-
1) лица, которые входят в одну группу лиц с должником; лица, которые являются аффилированными должнику;
-
2) лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, члены совета директоров;
-
3) иные лица, имеющие возможность определять действия должника.
Указанный подход является широким, поскольку содержит в себе подходы к установлению взаимосвязи между лицами, характерные для антимонопольного и корпоративного законодательства.
Кроме того, Закон о банкротстве вводит дефиницию «контролирующее должника лицо». В силу статьи 61.10 Закона о банкротстве «под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий»30. Данная категория характерна исключительно для банкротного права, однако взаимосвязь между лицами в рамках контроля по делам о банкротстве может быть построена исходя из правоотношений, регулируемых корпоративным, трудовым, конкурентным и иными отраслями права.
При определении понятия «контролирующее должника лицо» наличие временно́ го ограничения периода влияния такого лица на деятельность должника устанавливается с целью привлечения первого к субсидиарной ответственности. Чтобы привлечь лицо к субсидиарной ответственности в рамках банкротства, необходимо установить, что лицо совершало противоправные деяния, которые в конечном счете привели предприятие к банкротству. Сам по себе период влияния лица на деятельность должника не имеет правового значения. Значимым юридическим обстоятельством в данном случае является момент совершения определенного действия, приведшего к банкротству должника.
Кроме того, законодатель предусмотрел наличие презумпции контроля лица над должником, которая характеризуется формальными признаками контроля:
-
1) руководством должника или членством в исполнительном органе должника;
-
2) правом распоряжаться 50 и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо правом назначать (избирать) руководителя должника;
-
3) правом извлекать выгоду из недобросовестной деятельности лиц, имеющих или имевших право действовать от имени должника.
Наблюдая развитие содержания понятия «контролирующее должника лицо», мы отмечаем рост числа лиц, подпадающих под привлечение к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве: «от 4 при принятии
Закона “О несостоятельности (банкротстве)” до 15 в связи с изменениями, внесенными в законодательство о банкротстве Федеральным законом “О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” и в Кодекс Российской Федерации об административных правона-рушениях»31. При оценке в научной литературе существующий перечень лиц, действия которых могли повлиять на несостоятельность должника, назван чрезмерно раздутым32.
Таким образом, следует отметить отсутствие единого универсального понятия «аффилированность» в российском законодательстве. На сегодняшний день для установления взаимосвязи между участниками гражданского оборота законодателем используются различные подходы, учитывающие специфику взаимосвязи, а также цели ее установления для различных правоотношений.
Аффилированность является «каучуковым» понятием, которое не должно сводиться к определению возможности одного лица влиять на поведение другого, то есть контролировать его. Между тем цивилисты не придерживаются единого мнения относительно нормативного закрепления понятия «аффилированность» в российском законодательстве. Позиция о необходимости законодательного закрепления универсального определения аффилированности представляется нецелесообразной, поскольку требует комплексной разработки соответствующих критериев взаимосвязи. В свою очередь, разработка таких критериев позволит недобросовестным участникам гражданского оборота исключать соответствующие «маркеры» аффилированности из структуры правоотношений, что повысит латентность злоупотреблений.
Кроме того, возможность анализа правоотношений необходимо оставить на уровне судебной практики, поскольку возложение обязанностей по установлению злоупотреблений в рамках конкретных правоотношений должно быть произведено на основании комплексной и компетентной оценки всех обстоятельств дела, являющихся предметом судебного разбирательства.
Представляется необходимым установление ограничений, направленных на сдерживание экстенсивного роста категории «аффилированность» в отечественном законодательстве. Дальнейшее расширение сферы примене- ния данного понятия оказывает негативное воздействие на развитие механизмов «прокалывания корпоративной вуали», а также на определение механизма организации деятельности и роли каждого из участников внутри группы компаний, поскольку не позволяет эти роли дифференцировать.
Разрабатывая решение для развития института аффилированности в российском законодательстве, необходимо отказаться от целостного заимствования данного института из зарубежного права. В настоящий момент отечественное право столкнулось с несоответствием понятия «аффилированность», существующим в англо-саксонском праве и принятым в современной доктрине концепции автономии воли юридического лица как субъекта гражданских правоотношений.
Следует отметить, что на сегодняшний день при определении аффилированности необходимо придерживаться функционального подхода, учитывающего возможность любого субъекта гражданского права оказывать влияние на деятельность иных лиц. Для развития понятия «аффилированность» за основу нужно принять подход, существующий в антимонопольном законодательстве и учитывающий дифференциацию отношений взаимосвязи и контроля между членами, состоящими в одной группе лиц.
Список литературы Доктринальный и нормативный подходы к понятию аффилированности
- Алексеев С. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 3: Проблемы теории права: курс лекций. М.: Статут, 2010. 781 с.
- Габов А. В. Проблемы определения отношений аффилированности // Государство и бизнес в системе правовых координат: моногр. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М., 2014. 230 с.
- Голубцов В. Г. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц: эволюция законодательных подходов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. Вып. 48. C. 248-273. DOI: 10.17072/ 1995-4190-2020-48-248-273.
- Городулин К. В. Правовой статус аффилированных лиц по российскому законодательству: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 181 с.
- Григораш И. В. Зависимые юридические лица в гражданском праве: опыт сравнительно-правового исследования. М.: Волтерс Клувер, 2007. 184 с.
- Гутников О. В. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве: общие новеллы и недостатки правового регулирования // Предпринимательское право. 2018. № 1. C. 48-60.
- Ефимов А. В. Влияние аффилированности на компетенцию органов юридических лиц: проблемы квалификации принятия решения о совершении сделки зависимым юридическим лицом // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 10. C. 77-86.
- Карелина С. А. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) корпораций: новеллы и тенденции // Право и бизнес. 2018. № 2. C. 41-45.
- Кокорин И. В. Все кредиторы равны, но некоторые равнее других. К вопросу о субординации корпоративных займов при банкротстве в России, Германии и США // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 2. C. 119-137.
- Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве: моногр. / К. М. Беликова, А. В. Габов, Д. А. Гаврилов [и др.]; отв. ред. М. А. Егорова. М.: Юрид. дом «Юстицинформ», 2015. 656 с.
- Корпоративное право: учеб. курс: в 2 т. / Е. Г. Афанасьева, В. А. Вай-пан, А. В. Габов и др.; отв. ред. И. С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с.
- Мифтахутдинов Р. Т., Шайдуллин А. И. Понижение в очередности (субординация) требований контролирующих должника или аффилированных с ним лиц в российском банкротном праве. Научно-практический комментарий к Обзору судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. Приложение к ежемесячному журналу. 2020. № 9 (спецвыпуск). 137 с.
- Петров Д. А. Отношения связанности (аффилированности) как родовое понятие в сфере антимонопольного регулирования // Конкурентное право. 2018. № 4. C. 12-15.
- Соколова О. С. Скрытая аффилированность как инструмент диагностики конфликта интересов в сфере противодействия коррупции // Современное право. 2019. № 9. C. 35-39.
- Степанов Д. И. Проблемные вопросы корпоративного законодательства о группах компаний и холдингах // Закон. 2016. № 5. C. 67-86.
- Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с.
- Терещенко Т. А., Ганюшин О. Е. Аффилированность: эволюция понятия в российском праве // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2016. № 4. C. 32-42.
- Шиткина И. С. Правовое регулирование экономической зависимости // Хозяйство и право. 2010. № 8 (403). C. 29-47.