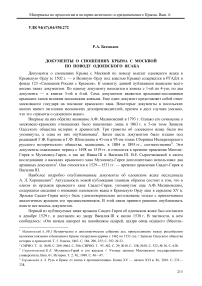Документы о сношениях Крыма с Москвой по поводу одоевского ясака
Автор: Беспалов Р.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются документы конца XV - первой трети XVI вв. о сношении крымских ханов с великими московскими князьями по поводу выплаты дани с «одоевских городов». Эти выплаты являлась пережитком самостоятельных отношений князей новосильского дома с Крымским ханством, которые существовали до конца XV в. Затем, после вхождения Новосильско-Одоевского княжества в состав Русского государства, великие московские князья еще некоторое время были вынуждены выплачивать одоевский ясак крымским ханам.
Восточная европа, xv век, xvi век, крымское ханство, великое княжество московское, новосильско-одоевское княжество, ярлыки крымских ханов, ясак
Короткий адрес: https://sciup.org/14118092
IDR: 14118092 | УДК: 94(47).04:930.272
Текст научной статьи Документы о сношениях Крыма с Москвой по поводу одоевского ясака
Документы о сношениях Крыма с Москвой по поводу выплат одоевского ясака в Крымскую Орду (с 1502 г. — в Великую Орду под властью Крыма) содержатся в РГАДА в фонде 123 «Сношения России с Крымом». К моменту данной публикации выявлено всего восемь таких документов. По одному документу находится в книгах с 1-ой по 4-ую, по два документа — в книгах 5-ой и 6-ой. Семь документов являются ярлыками-посланиями крымских ханов великим московским князьям. Еще один документ представляет собой ответ московского государя на послание крымского хана. Некоторые документы в посольских книгах имеют заголовки московских делопроизводителей, причем в двух случаях указано, что это «грамоты о одоевском ясаке».
Впервые на них обратил внимание А.Ф. Малиновский в 1793 г. Однако его сочинение о московско-крымских отношениях было напечатано лишь в 1863 г. в 5-ом томе Записок Одесского общества истории и древностей. Три грамоты об одоевском ясаке были им упомянуты, а одна из них опубликована1. Затем шесть документов было издано под редакцией Г.Ф. Карпова и Г.Ф. Штендмана в 41-ом и 95-ом томах Сборника Императорского русского исторического общества, вышедших, в 1884 и 1895 гг., соответственно2. Эти документы охватывают период с 1498 по 1519 гг. и относятся к времени правления Менгли-Гирея и Мухаммед-Гирея, а так же Ивана III и Василия III. В.Е. Сыроечковский в своем исследовании о вассалах крымского хана Мухаммед-Гирея дополнительно использовал два архивных документа3. Они относятся к 1529—1531 гг. — времени правления Саадет-Гирея и Василия III.
Наиболее подробно опубликованные документы об одоевском ясаке исследовала А. Л. Хорошкевич4. Актуальность новой публикации главным образом состоит в том, что в одном из ярлыков крымского хана Саадет-Гирея, упомянутом еще А.Ф. Малиновским, содержатся сведения о взимании одоевского ясака в Крымскую Орду еще в середине XV в. Ярлыки Саадет-Гирея могут быть удовлетворительно истолкованы только с привлечением аналогичных ярлыков его предшественников. В этой связи принято решение опубликовать вместе все восемь документов.
Первый из публикуемых ниже ярлыков Саадет-Гирея об одоевском ясаке был составлен в декабре 1529 г. и доставлен ко двору Василия III к июлю 1530 г. В частности, в нем сообщалось: «О т начала напере д на покойнико в ц(а)рей, ц(а)ря о т ца н(а)шего (Менгли-
Гирея — Р. Б. ) и ц(а)ря дяди н(а)ше г (о) (Нур-Довлата — Р. Б. ), въ упокойниковы х лета, да еще и в великаго ц(а)ря деда н(а)ше г (о) въ Ази-Гиреевы ц(а)ревы, его же сарая пребыва н (и)е в раю имеетца, времена, старому нашему слузе Ба к шеишу, и его детемъ на всякои го д со всяки м бо л ши м посло м , к Рязани которые городы тяну т , с Одоева города тысяча а л ты н моско в скими деньгами жалова н (и)я твоего и м шло»5.
Итак, по словам Саадет-Гирея, при Хаджи-Гирее (был крымским ханом в 1441— 1466 гг. с перерывами), Нур-Довлате (был крымским ханом в 1466—1469 гг. с перерывами и в 1475—1476 гг.) и Менгли-Гирее (был крымским ханом в 1467—1515 гг. с перерывами), ханскому слуге Бакшеишу и его детям с «одоевских городов» ежегодно причитались определенные выплаты. Согласно ярлыку Менгли-Гирея 1498 г., Бакшеиш был одоевским дарагой. Выплаты с Одоева составляли 2000 алтын в год: 1000 алтын предназначалась крымскому хану, а другая 1000 алтын — самому Бакшеишу6.
В ярлыке 1498 г. выплаты названы «ясаком», иначе «пошлиной». В ярлыке 1508 г. доля Менгли-Гирея называется «поминками» или «городовыми поминками», а доля Бакшеиша — «ездом»7. По мнению А.Л. Хорошкевич, в данном случае термин «поминки» соответствуют «ясаку», а термин «езд» — «даражской пошлине»8.
Словом «езд» в русском языке обозначалась плата за поездку по административным и судебным делам9. Из ярлыка 1508 г. становится известным, что кроме своей доли (в тысячу алтын) дараге Бакшеишу, его слугам и их коням также причитался «корм» с одоевских волостей. Из речей Ивана III следует, что в 1503 г. Бакшеиш приезжал с тремя слугами, у них на четверых могло быть до десяти или более коней. Их «корм» составляли продукты питания, включавшие в себя: курицу, хлеб, соль, заспу (крупу) и овес для коней10.
В ярлыке 1498 г. термины «ясак» и «пошлина» явно приравниваются друг к другу. В ярлыках 1515 и 1519 гг. снова видим термины: «пошлина», «одоевская пошлина», «пошлина с Одоева»11. В ярлыках 1518, 1529 и 1531 гг. те же выплаты названы «одоевским годовым взимком», «взимком с Одоева с города» или просто «взимком», который выплачивался «на всякий год»12. Московская сторона отчасти переняла крымскую терминологию. В ответе Ивана III 1500 г. выплаты с Одоева названы «податью» или «пошлиной», а в заголовках московского делопроизводителя к ярлыкам 1519, 1531 гг. — «одоевским ясаком», что приравнивалось к терминам тех же ярлыков «пошлина» и «взимок». Не имея оригиналов крымских ярлыков сложно судить о точности их средневекового перевода на русский язык, но в переведенных документах терминами «ясак», «пошлина», «подать» и «взимок» обозначалось одно и то же.
По мнению А. Л. Хорошкевич, термин «ясак» соответствовал известному из источников термину «выход», обозначавшему одынскую дань13. В докончании рязанских князей 1496 г. плата в Орду обозначена термином «выход», а плата касимовскому царевичу названа «ясаком»14. То есть выплаты татарам названы двумя разными терминами. Так или иначе, одоевский ясак (подать, пошлина, взимок) представлял собой дань татарам.
В ярлыках Менгли-Гирея 1498 г. и Саадет-Гирея 1531 г. номинал одоевского ясака указан в «денгах» 15. В 1500 г. Иван III писал Менгли-Гирею, что отчина одоевских князей пуста, поэтому они вынуждены были платить дараге Бакшеишу тем, чем жаловал их за службу сам Иван III16. В ярлыке Саадет-Гирея 1529 г. уточнено, что речь идет о «московских денгах»17. Не располагая последним источником, Е.И. Колычева, как оказывается, справедливо переводила 2000 алтын (12000 денег) в 60 московских рублей 18. Однако до перехода на московскую службу князья новосильского дома не могли выплачивать дань в московской монете. До первой трети XV в. в Новосильско-Одоевском княжестве широкое обращение имели джучидские денги19. На литовской службе новосильские князья и их бояре получали вознаграждение пражскими грошами, а так же в натуральном выражении20. Московская же монета в их владения почти не проникала. Местные дани собирались шкурками бобров и куниц, медом, но также и грошами21. То есть в верховьях Оки пражские гроши были в ходу. В последней трети XV в. одоевский ясак в эквиваленте 12000 московских денег (2000 алтын или 60 рублей московских денег) равнялся 2400 пражских грошей (40 коп или 24 рубля пражских грошей) или 7200 крымских денег (1200 алтын крымских денег)22.
Проблемы политической истории, затронутые в документах об одоевском ясаке, выходят далеко за рамки одоевско-крымских отношений, и включают в себя также вопросы взаимоотношений Литвы, Москвы, Крыма, Одоева, а в некоторой степени и Рязани. Из текста ярлыков следует, что после распада Золотой Орды «одоевские города» (по всей видимости, вся территория Новосильско-Одоевского княжества) попали в вассальную зависимость от ее преемника Крымской Орды23. Данные документы в совокупности с рядом других опубликованных ранее источников позволяют существенно уточнить статус Новосильско-Одоевского княжества в середине — второй половине XV в.
Как известно, в конце июля 1427 г. князья новосильского дома во главе с великим князем Юрием Романовичем Одоевским присягнули в верности великому князю литовскому Витовту и заключили с ним договор о своей службе Литве. Договор предусматривал возможность его расторжения в случае несоблюдения его условий со стороны литовского господаря, но также и возможность его продления (возобновления) в случае смерти одного из контрагентов. В 1432 г. литовско-новосильский договор 1427 г. разделился на две ветви: литовско-воротынскую, представленную далее договорами 1432, 1442 и 1483 гг., и литовско-одоевскую, представленную далее договорами 1432, 1459 и 1481 гг.24 В историографии уже отмечалось, что литовско-новосильские договоры имели высокий межгосударственный статус, а территория Новосильско-Одоевской земли не входила в состав Великого княжества Литовского25. Тем самым она отличалась от других русских земель, попавших под власть литовских господарей в XIV — начале XV вв.
Русские земли Великого княжества Литовского сохраняли зависимость от Крымской Орды. Крымские ханы своими ярлыками жаловали великим литовским князьям подчиненные Крымской Орде русские земли, с которых литовская сторона была обязана выплачивать дань. В случае прекращения выплат татары были вправе применить силу26. Одоев в этих ярлыках-пожалованиях не упомянут. Следовательно, великие литовские князья не имели отношения к выплатам одоевского ясака в Крымскую Орду.
Из источников известны попытки великих литовских князей взять ярлык-пожалование на Одоев. 22 июня 1432 г. представители новосильского княжеского дома в качестве великих князей заключили договор с великим князем литовским Свидригайлом27. Однако к октябрю 1433 г. Свидригайло помог царевичу Сеид-Ахмеду прийти к власти в Крыму28. По всей видимости, новый крымский хан выдал Свидригайлу обычный ярлык-пожалование на русские земли Великого княжества Литовского 29. Кроме того, 1 мая 1434 г. Свидригайло писал гроссмейстеру Немецкого ордена: «царь передал нам этих [князей] Одоева и их землю и собственноручно записал»30. Фактически он сообщал о ярлыке-пожаловании на Одоевскую землю, которой по цареву повелению, якобы, стал владеть. Ранее он упоминал об Одоевских как о «Großfürsten» — великих князьях. Теперь же величал их титулом «Fürsten» — просто князьями. Лишь вследствие неустойчивости власти Сеид-Ахмеда в Крыму, а также в результате скорого крушения власти Свидригайла, в будущем упомянутый ярлык-пожалование Сеид-Ахмеда не имел продолжения31.
Несмотря на то, что в середине XV в. действовали договоры 1442 и 1459 гг. о службе князей новосильского дома Литве, к тому времени у литовского господаря по-прежнему не было ярлыка на Одоев. В начале 1470-х гг. Казимир IV предпринял новую попытку взять такой ярлык в Крымской Орде. В посольстве к Панам Раде Великого княжества Литовского в 1506 г. крымский хан Менгли-Гирей вспоминал: «А до мене приехал от брата нашого Казимира, короля, воевода троцкии пан Богдан Андрушкович, а с ним Ивашенцо. Отца нашого ярлык з собою принесли. О Киев и о Смолнеск, и о иных городех ярлык взяли. И в том ярлыку нашом от короля, брата нашого, жадали о резанские городы, о Одоев. И в нашом ярлыку вписали»32. Текст этого ярлыка-пожалования, выданного в 1472 г. или в 878 г. х. (май 1473 г. — май 1474 г.) сохранился33. К прежнему ярлыку-пожалованию Хаджи-Гирея в нем действительно добавлено: «rezeńskie państwo, Perejasław w głowach», но Одоев в ярлыке-пожаловании Менгли-Гирея не упомянут34.
В этой связи некоторую сложность представляет собой осмысление требования Саадет-Гирея о взимании дани «к Рязани которые городы тянут, с Одоева города». А. Ф. Малиновский полагал, что здесь речь идет о дани с рязанских городов и отдельно о дани с города Одоева35. Однако, судя по документам предыдущего времени, Бакшеишу и его детям причиталась только дань с Одоева. Грамот о рязанском ясаке в посольских книгах не имеется36. Эту фразу можно понять и таким образом, что к 1529 г. Одоев административно был подчинен Рязани. В таком случае, запись в ярлыке Менгли-Гирея начала 1470-х гг. «rezeńskie państwo, Perejasław w głowach» по умолчанию могла бы включать в себя и Одоев. Однако такое предположение не согласуется с источниками. К началу 1425 г. великие рязанские князья находились на литовской службе, тогда как князья новосильского дома находились в союзе с Москвой37. В конце июля — начале августа 1427 г. великие рязанские князья (переяславский и пронский) и великий князь новосильский практически одновременно заключили договоры с Витовтом о своей службе Литве38. Однако это были отдельные друг от друга договоры. После смерти Витовта политические пути рязанских и новосильских князей разошлись. Новосильские в 1432 г. возобновили договор с Литвой, а рязанские оказались в союзе с Москвой. В московско-рязанском договоре 1434 г. было записано: «А ([если] — Р. Б.) новосилские кн(я)зи добьют челом тобе, великому кн(я)зю (московскому — Р. Б.), и мне (великому князю рязанскому — Р. Б.) с ними взяти любовь по тому ж»39. То есть московский и рязанский князья рассматривали Новосильско-Одоевскую землю в качестве субъекта самостоятельных межгосударственных отношений, и не подразумевали, что Одоев может «тянуть» к Рязани. После смерти великого князя Ивана Федоровича Рязанского, его малолетний сын князь Василий в 1456-1464 гг. находился под московской опекой40. В то же время новосильские князья находились на литовской службе. В литовско-новосильских договорах (литовско-воротынском и литовско-одоевском) 1442, 1459 гг., заключенных по «Витовтову докончанию» 1427 г., было закреплено право новосильских князей на самостоятельные сношения с великим князем московским и великими рязанскими князьями (переяславским и пронским)41. Такая же статья содержалась в аналогичных литовско-новосильских договорах 1481, 1483 гг.42 Никаких источников, прямо говоривших бы о подчиненности Одоева Рязани в XV в. не имеется.
Поскольку в ярлыках-пожалованиях крымских ханов великим литовским князьям Одоев не упоминался (до начала 1470-х гг. в них не упоминалась и Рязань), то литовские господари не владели Одоевом, не обязаны были собирать дань с «одоевских городов» и выплачивать ее в Крым. Следовательно, крымские ханы своими ярлыками-пожалованиями возлагали эту функцию непосредственно на «большого», то есть старшего князя новосильского дома. С одной стороны такие ярлыки, видимо, предписывали новосильским князьям выплачивать в Крым ежегодную дань, но с другой — закрепляли за ними их исконную вотчину и давали иммунитет от посягательства на их землю иных русских и литовских князей. Тем самым, самостоятельные новосильско-ордынские отношения определяли территориальный суверенитет Новосильско-Одоевской земли47.
Как заметил М.М. Кром, Вильно так и не смогло инкорпорировать Новосильско-Одоевскую землю в состав Великого княжества Литовского48. Ситуация изменились после перехода новосильских князей на московскую службу в конце XV в. В историографии уже отмечалось, что в отношениях с Литвой Иван III не раз подчеркивал суверенность новосильских князей49. Позиция московского государя имела все основания, поскольку территория Новосильско-Одоевского княжества не входила в состав Великого княжества Литовского, а дань с «одоевских городов» непосредственно выплачивалась в Крымскую Орду. Необходимой предпосылкой для вмешательства Ивана III в политику князей новосильского дома стало его сближение с Менгли-Гиреем в 1470-х — 1480-х гг. Получив в союзники крымского хана, Иван III должен был отвечать его интересам. В 1487—1493 гг. он регулярно информировал Менгли-Гирея о своих военных и политических успехах в верховьях Оки и о переходе князей новосильского дома со своей вотчиной на московскую службу50.
27 июня 1492 г. в Москву прибыл крымский посол Мерека. После окончания посольских дел Менгли-Гирей просил отпустить его «на Новосиль»51. Вместе с Мерекой был некто Давлет-Яр52. Так звали старшего сына одоевского дараги Бакшеиша. Можно думать, что именно у Девлет-Яра были даражские дела в Новосиле. Вероятно, хан рассчитывал возобновить отношения Крыма с Новосильско-Одоевским княжеством. Правда, дело затягивалось. Мерека и прибывшие с ним люди были отпущены в Крым только в апреле 1495 г.53 Тем временем, по московско-литовскому договору 1494 г. новосильские князья со своими вотчинами были закреплены за Москвой54.
На рубеже XV—XVI вв. в новосильско-крымских отношениях произошел окончательный перелом. В августе 1498 г., Менгли-Гирей направил Ивану III ярлык, в котором сообщал, что князья «одоевских городов» уклоняются от уплаты установленной по старине пошлины (ясака). Из послания следует, что крымский хан по-прежнему рассматривал область «одоевских городов» в качестве отдельной административнотерриториальной единицы, которая имела свои отношения с Крымской Ордой. Но поскольку теперь князья «одоевских городов» служили Ивану III — союзнику Менгли-Гирея, то
Бакшеиш не решился применить силу, а просил московского государя быть посредником, чтобы уладить дело миром55.
Послы Менгли-Гирея были задержаны в Москве на полтора года, поэтому ответ Ивана III последовал только в апреле 1500 г. Московский государь сообщал, что одоевским князьям платить нечем, поэтому он выплатил Бакшеишу одоевскую подать из своих средств, и просил Менгли-Гирея больше не посылать дараг в Одоев56.
В конце 1514 г. Менгли-Гирей вспоминал, что передал Ивану III целый ряд городов, среди которых был и Одоев57. По всей видимости, речь идет о ярлыке-пожаловании на Одоев, которым ранее не раз пытались завладеть великие литовские князья. Вероятно, московский государь получил его из рук крымского хана в самом начале XVI в. Как заметила А.Л. Хорошкевич, вхождение в состав Русского государства прежних данников Крыма превратило русского государя в лицо, ответственное за сбор их же пошлин в пользу крымского хана и его дараг58. По мнению К.В. Базилевича, после присоединения Одоева к Москве Иван III стал платить за одоевских князей их дань в Крым59. Однако из ярлыка Менгли-Гирея 1508 г. следует, что Иван III платил не свои деньги, он посылал своих людей к одоевским князьям и, взяв с них ясак, отсылал его в Крым вместе с дарагой Бакшеишем. О том же Менгли-Гирей просил и Василия III60. По мнению А. Л. Хорошкевич, упразднение должности дараг произошло в 1518 г., поскольку в шертной грамоте Мухаммед-Гирея, определявшей его мирные отношения с Москвой, содержалась статья: «а дарагам и пошлинам даражским и иным пошлинам никак не быти»61. Однако эта статья возобновляла аналогичную статью московско-крымского договора 1475 г., которая касалась только прежней территории Великого княжества Московского62. Одоев же не был освобожден от ордынской тяготы. Выплаты предполагались и далее, о чем ходатайствовал Мухаммед-Гирей через послов, которые привезли в Москву утвержденную шертную грамоту в мае 1519 г.
Тем не менее, перемены для Одоева были весьма существенными. Ранее крымские дараги забирали одоевский ясак непосредственно у старшего одоевского князя или у старшего князя новосильского дома. Так было во время нахождения новосильских князей на литовской службе и некоторое время после их перехода со своей землей на службу к московскому государю. Затем Иван III ограничил их во внешних сношениях, в том числе в контактах с Крымом. Для этого ему пришлось взять на себя роль посредника для выплат одоевской дани в Крымскую Орду, от него стала зависеть их полнота и регулярность. Так для крымских ханов непосредственные отношения с князьями «одоевских городов» потеряли всякий смысл. Сами же новосильские князья утрачивали возможность сношений с Крымской Ордой как элемент прежней самостоятельности.
Одоевские дараги ездили в Москву каждый раз, когда туда отправлялся «большой» (старший) крымский посол. Однако далеко не всегда они везли с собой особое напоминание хана об одоевском ясаке. Так, в 1503 г. дарага Бакшеиш был в Москве, и, видимо, получил свою одоевскую пошлину без особого послания хана к московскому государю 63. Вероятно, ему достаточно было какого-то удостоверительного знака о том, что он являлся одоевским дарагой.
В появлении в посольских делах ханских ярлыков-посланий о выплатах с Одоева имеется закономерность. Ярлык-послание 1498 г. был связан с нарушением выплат одоевского ясака и содержал просьбу их возобновить. Затем до смерти Ивана III в 1505 г. московско-крымские отношения и выплаты с Одоева не нарушались. В начале правления Василия III отношения Москвы с Крымом осложнились из-за отношений Москвы с Казанью 64. К тому же в московско-крымские отношения стала вмешиваться Литва. Польский король Сигизмунд I надеялся вернуть себе русские земли, которые ранее были подчинены Великому княжеству Литовскому, а к 1503 г. отошли к Москве65. Он добился от Менгли-Гирея того, что в июле 1507 г. крымские войска напали на белёвские, одоевские и козельские места. Однако князья новосильского дома совместно с воеводами Василия III успешно отразили татарский набег 66. В августе 1508 г. был заключен договор Менгли-Гирея с Василием III на тех же условиях, как было при Иване III. Как следствие, в Москву был послан ярлык с просьбой о возобновлении выплат одоевского ясака67. В мае 1512 г. «по наводу» Сигизмунда I был совершен набег крымских татар на Белёв, Одоев, Воротынск и Алексин68. Эти события стали предпосылкой к новой московско-литовской войне 15121514 гг.69 С наступлением потепления в московско-крымских отношениях, в 1515 г. Мухаммед-Гирей прислал в Москву очередной ярлык с просьбой о выплате одоевского ясака70. В августе 1517 г. крымские татары по навету Сигизмунда I напали на Тулу и волость Беспуту. Князья новосильского дома участвовали в отражении их набега71. В следующем году между Москвой и Крымом завязались переговоры о мире, который удалось заключить в 1519 г. Параллельно летом 1518 и вначале 1519 гг. стороны вновь контактировали по поводу одоевской дани72. В 1525 г. Василий III заключил мир с ханом Саадет-Гиреем и его наследником Саин-Гиреем. Однако другие царевичи не обязались соблюдать мир и в свою очередь боролись за власть в Крыму. Осенью 1527 г. Ислам-Гирей совершил очередной, хотя и неудачный набег на московские украины73. Осенью 1529 г. между Москвой и Крымом завязались переговоры о мире, но вскоре были прерваны новыми раздорами. Мир был заключен только в ноябре 1531 г.74 Одновременно в 1529-1532 гг. крымская сторона вела переговоры с Москвой о «поминках» (регулярных подарках царю и его окружению), а также был поднят вопрос об одоевском «взимке» 75.
В этой связи можно думать, что выплаты с Одоева прерывались в годы нарушения мирных отношений Москвы с Крымом. С восстановлением же мира крымская сторона каждый раз надеялась возобновить их и направляла в Москву соответствующие ярлыки об одоевском ясаке, которые и отразились в посольских книгах.
Нарушение мира между Москвой и Крымом было выгодно литовской стороне, которая стремилась вернуть себе русские земли, ранее входившие в состав Великого княжества Литовского. В июле 1507 г., в декабре 1513 г., в июне 1514 г., в октябре 1520 г. и так вплоть до 1535 г. при заключении мира крымские ханы выдавали Сигизмунду I ярлыки-пожалования, аналогичные ярлыкам XV в. Они фиктивно жаловали Литве прежние земли в верховьях Оки: Мценск, Любутск, Тулу, Берестей, Ретань, Козельск, Волкону, Спаш76. Литовская сторона также рассчитывала вернуть на литовскую службу и князей новосильского дома. Этот вопрос рассматривался, например, в 1520 г.77 Однако сама Новосильско-Одоевская земля никогда ранее не принадлежала Литве, и крымские ханы не обещали ее королю Сигизмунду I.
Вопросы о назначении того или иного одоевского дараги находились в ведении крымских ханов, которые «жаловали» своим слугам право взимать одоевскую пошлину и получать с нее свою долю. Еще В.Е. Сыроечковский заметил, что в Крымской Орде традиционно соблюдался принцип наследственности ханского пожалования. В одной из своих грамот Мухаммед-Гирей писал: «и которых хоти не стало будет, и мы теми месты детей их или братью их жалуем, или кто роду их будет»78. В этой связи, несмотря на перемены власти в Крымской Орде, взимание одоевского ясака на долгие десятилетия стало привилегией одного и того же семейства. Оно хотя и не обладало княжеским достоинством, но служило при дворе, относились к числу «добрых» (знатных) слуг царя, и в этой связи занимало высокое положение в среде крымской знати.
Одоевский дарага Бакшеиш в ярлыках Саадет-Гирея назван Кара-Бакшеишем (Черным Бакшеишем). Вероятно, это его полное имя, которое в других случаях попросту сокращалось. Бакшеиш был долгожителем, и занимал свою должность при Хаджи-Гирее, Нур-Довлате и Менгли-Гирее79. Сохранились сведения о его поездках в Москву в 1498— 1500, 1503, 1508—1509 гг.80 После его смерти Менгли-Гирей пожаловал одоевскую пошлину его сыну Девлет-Яру (до 17 апреля 1515 г.)81. Возможно, Бакшеиш умер еще до нарушения московско-крымских отношений, и его сын Девлет-Яр занял должность одоевского дараги до мая 1512 г. К июлю 1518 г. Девлет-Яр погиб от рук своего же слуги. Тогда Мухаммед-Гирей пожаловал одоевскую пошлину его младшему брату Алди-Яру. Последний ездил за ясаком, например, в 1519 и 1532 гг.82 В поездке второй половины 1518 г. его замещал племянник Илеман83, а в 1529—1530 гг. — еще один сын Бакшеиша — Нан84.
По мнению В.Е. Сыроечковского, Бакшеиш, а также и его дети были сокольниками85. Так, из посольства 1503 г. Бакшеиш вез Менгли-Гирею красного кречета86. Однако в 1498 г. кречетов должен был привезти вовсе не Бакшеиш, а Хозя Магамет, который обычно и выполнял подобные поручения87. В 1515 г. одной из задач «молодого человека» Девлет-Чара (или Давлет-Яра?) было выбрать и привезти в Крым белого ястреба, но его нельзя уверенно отнести к сыновьям Бакшеиша88. В 1518 г. белого же ястреба должен был привезти Илеман89. В 1519 г. Алди-Яр тоже ездил за кречетами. В московском подзаголовке ханской грамоты он назван «сокольником». Однако основной задачей Алди-Яра в этой поездке было взимание одоевского ясака. С ним же в Москву отправился другой человек Менгли-Гирея, который в ханской грамоте прямо назван «сокольником»90. Также обратим внимание на то, что в 1503 г. Бакшеиш привез в Москву ярлык о доставке хану краковского сыра91. Однако вряд ли его деятельность можно связать с кухней хана. У крымских ханов были и другие слуги, доставлявшие в Крым охотничьих птиц и другие товары. Поэтому можно думать, что соколиная охота все же не была основным занятием семейства Бакшеиша. Его представители выполняли и куда более важные посольские поручения. Так, в 1503 г. Менгли-Гирей предлагал Ивану III расспросить Бакшеиша по важному делу92. В августе 1516 г. некий Алди-Яр (вероятно, сын Бакшеиша) был гонцом к Сигизмунду I93. В апреле 1521 г. у Сигизмунда I находился гонец Мухаммед-Гирея Илеман94.
Само взимание дани с русских земель для Крымской Орды было важным государственным делом. Об этом свидетельствует и оформление ярлыков-посланий об одоевском ясаке. Несмотря на то, что они дошли до нас лишь в переводных копиях, в их текстах сохранились сведения об удостоверявших их знаках. Четыре из семи ярлыков 1498, 1508, 1515, 1519 гг. были скреплены «синим нишаном». Из них три 1508, 1515, 1519 гг. также были запечатаны «жиковиной». Три других 1518, 1529, 1531 гг. были запечатаны только «жиковиной» (Табл. 1).
Таблица 1. Удостоверительные знаки крымских ханов на ярлыках об одоевском ясаке
|
Год составления ярлыка |
Синий нишан |
Жиковина |
|
1498 |
+ |
— |
|
1508 |
+ |
+ |
|
1515 |
+ |
+ |
|
1518 |
— |
+ |
|
1519 |
+ |
+ |
|
1529 |
— |
+ |
|
1531 |
— |
+ |
М.А. Усманов пришел к выводу, что в золотоордынской, а затем и в крымской традиции большие квадратные печати (нишаны) золотого и синего цветов прилагались к наиболее важным документам государственного значения95. Жиковина представляла собой небольшую перстневую печать миндалевидной формы и оставляла оттиск белых букв на черном фоне. Печать такой формы имели только джучиды96. Поскольку представители семейства Бакшеиша служили при дворе крымских ханов и пользовались их особым расположением, то на выданных им ярлыках устойчиво появляется личная перстневая печать хана. Из удостоверения ярлыков 1498—1519 гг. выпадает только ярлык 1518 г., что, видимо, было связано с исключительными обстоятельствами: когда погиб дарага Девлет-Яр, сменивший его брат Алди-Яр не смог поехать в Москву, а поехал племянник Алди-Яра (сын Девлет-Яра). Статус посланника за одоевским ясаком оказался ниже предыдущих, и выданная ему грамота не была удостоена синего нишана. Удостоверения Саадет-Гирея 1529 и 1531 гг. уже явно не придавали аналогичным ярлыкам-посланиям государственного значения, а предполагали лишь личную просьбу хана. Примечательно, что Саадет-Гирей уже не настаивал на выплате ханской доли в тысячу алтын, которая к тому времени, по всей видимости, ушла в прошлое. Он просил выплатить его слугам лишь их долю, называя ее «пожалованием» московского государя. Чтобы не нарушать мир, Василий III был вынужден идти на уступки и платить слугам хана одоевскую дань в тысячу алтын московскими деньгами. В контексте иных «поминков», направлявшихся Василием III в Крым, одоевский «взимок» уже можно рассматривать не в качестве обязательной дани, а в качестве части средств, предназначенных для замирения ордынцев.
К сожалению, далеко не все посольские книги о дипломатических сношениях Москвы с Крымом опубликованы. Архивные книги 123 фонда РГАДА, начиная с 6-ой и далее, еще и не достаточно изучены. В этой связи можно думать, что в них могут содержаться еще невыявленные документы об одоевском ясаке. В этой связи мы не можем ответить на вопрос: когда притязания Крыма на одоевский ясак были прекращены окончательно? Тем не менее, публикуемые здесь ярлыки Саадет-Гирея являются важнейшим дополнением к шести известным ранее документам. Они помогают приоткрыть завесу прошлого над историей Новосильско-Одоевского княжества и одновременно освещают этап постепенного освобождения «одоевских городов» от ордынской зависимости.
Приложение
Публикация документов об одоевском ясаке
В публикации приняты следующие правила. Текст разделен на слова, предложения и абзацы, введена современная система пунктуации. Знаки в виде точки посередине строки не отмечаются. Имена собственные начинаются с большой буквы. Пропущенные буквы в сокращенных словах вносятся в строку и заключаются в круглые скобки. Выносные буквы печатаются курсивом. Буквы, отсутствующие в современном алфавите, заменены на соответствующие им современные буквы, за исключением буквы «i». Буквы, обозначающие числа и цифры, заменены на современные цифры. В начале строки ставится знак |. В начале листа и оборота листа ставится его номер, заключенный в квадратные скобки.
№1.
Около июля-августа 1498 г.
Ярлык крымского хана Менгли-Гирея великому князю московскому Ивану III
| [л. 293] Менли-Гиреево слово. Великому кн(я)зю Ивану, брату моем у , | много покло н . И з старины одое в ски х городо в кн(я)зи, по стари | не к на м , что давали ясаку тысячю а л ты н , а дарагамъ | другую тысячю а л ты н давали, по тои по ш лине да | рагу и х Ба х шеиша посла л есми. Ка к сесь писа н ясакъ | н(а)шъ две тысячи а л ты н пошлину н(а)шу бе з убыто ч но | и дати на м не похотя т , и ты бы взя в на ни х , да да л . Мои м | здоро в (i)емъ и твои м , брата мое г (о), здоровiе м хоти м свыше | учинити дело свое. А одое в ски х кн(я)зеи, Ива н в голо | ва х , и лю ди его учну т лычити, самъ свое крепкое сло | во мо л ви в , спо л на, что сеи писано, Ба х шеишу взя в | ши, вели ш (ь) о т дати, бра т ство твое ведае т . Мо л вя, | съ сини м нишано м ярлы к посла л есми.
РГАДА, фонд 123 «Сношения России с Крымом», оп. 1, кн. 1, л. 293. Грамота ранее публиковалась: СИРИО. Т. 41. №58. С. 269.
Примечание: А. Л. Хорошкевич датировала ярлык 9 июля 1498 г. на основании ярлыка Менгли-Гирея об отправке крымских послов Казимира и Хозяша, с которыми в Москву прибыл и Бакшеиш: 9 июля, суббота, 903 г. х. (в дате число не совпадает с днем недели)97. Грамота об одоевском ясаке, как и многие другие из этого посольства, не имеет даты. Среди дел посольства есть грамота, датированная 23 августа, суббота, 903 г. х. (в дате число не совпадает с днем недели, а 903 г. х. заканчивался 18 августа 1498 г.)98.
№2.
Не позднее начала апреля 1500 г.
Ответ великого князя московского Ивана III крымскому хану Менгли-Гирею
Заголовок в посольской книге: [л. 42] А се мо л вити ц(а)рю кн(я)зю Ивану опосле все х де л
| Княз(ь) велики велел тебе говорити: писал еси к нам | въ своеи грамоте съ своим ч(е)л(ове)к(о)мъ с Бакшеишем | о Одоевских кн(я)зех: что которую тебе по | дать давали, и они бы тебе и н(ы)не по тому же | ту подат(ь) давали. Ино одоевских кн(я)зеи болших | не стало, а отчина их пуста. А иные кн(я)зи одоев | скiе99 намъ служат, наши слуги, мы | их кормим и жалуем их своим жалованiемъ. А иных || [л. 42 об.] кн(я)зеи одоевских жереб(ь)и за нами. И что тебе дава | ли и твоему ч(е)л(ове)ку, ино их яз же темъ жаловалъ, | а имъ нечего давати, отчина их пуста. А и н(ы)не | твоего ч(е)л(ове)ка яз же пожаловал, а им нечего дава | ти. И ты бы одоевским кн(я)з(е)мъ вперед свою пош | лину отложил, да и дараг бы еси их к ним не посылал | по свою пошлину, меня деля.
РГАДА, фонд 123 «Сношения России с Крымом», оп. 1, кн. 2, л. 42 — 42 об. Грамота ранее публиковалась: СИРИО. Т. 41. №64. С. 306.
Примечание: В грамоте содержится ответ Ивана III на послание Менгли-Гирея, направленное в Москву еще в 1498 г. вместе с послами Казимиром и Хозяшем. Крымские послы были задержаны и находились в Москве еще в октябре 1499 г., когда туда прибыл посол Ази-Халиль, через которого Менгли-Гирей просил отпустить всех его послов в Крым100. Грамота не имеет даты. Направлена в Крым вместе с посольством князя Ивана Семеновича Кубенского, которое переправилось через Угру 24 апреля 1500 г.101
№3.
Накануне сентября 1508 г.
Ярлык хана Менгли-Гирея великому князю московскому Василию III
Заголовок в посольской книге: [л. 10 об.] А се ц(а)р(е)ва ж грамота
| Мен-Гиреево ц(а)р(е)во слово. Великому кн(я)зю Васи л (и)ю, братоу | моему, слово н(а)ше то. В сяков же го д писа л есми к тебе | в свое м ярлыке з Бакшаише м : которые н(а)ши городовые по | минки, да и Бакшаишу, которое ему иде т езду, то еси | къ на м присла л . А и з старины при велико м кн(я)зе Iване, по тому ж | с одоевски х кн(я)зеи, которые посылали к на м н(а)ши поминки, | и тому Бакшаишу что на по до вши шло102, посыла л та м , да | взявши тамо, да з Бакшаишо м к на м посыла л . И ты бы | н(ы)н(е)ча, бра т мои, по старине, что на м иде т с Одоева, без ущерба, | собравши сполна, присла л к на м с наши м ч(е)л(ове)ко м з Бакшаишо м . | А и в сяко в же го д сполна не дали, не по тому прислали. И | н(ы)не бы по старине, собравъ бы еси, да з Бакшеишо м к на м при || [л. 11] сла л еси. Да сколко на м , собравъ с Одоева, пошлешь з Бакшаишо м , | и ты бы то написа л на списо к , да то т списо к к на м прислалъ | с свои м посло м , которои к на м с Магме д шою поиде т . А Бакшаишо | во, коне м его и ему, кормъ с Одоевски х волостеи. Та к ведая, | чтобы еси ему и коне м его кормъ дава л досыти. Молвя, жи | ковиною запечата в , [с] сини м нишано м ярлы к посла л есми.
РГАДА, фонд 123 «Сношения России с Крымом», оп. 1, кн. 3, л. 10 об. — 11. Грамота ранее публиковалась: Малиновский А. [Ф.] Историческое и дипломатическое собрание дел… С. 392. №22; СИРИО. Т. 95. №2. С. 29.
Основание для датировки: Грамота не имеет даты. В посольских делах находится среди ярлыков хана Менгли-Гирея, составленных к началу сентября 1508 г. Прибыла в Москву с посолом Магомедшой 27 октября того же года103.
№4.
Июль 1515 г. (921 г. х.)
Ярлык хана Мухаммед-Гирея великому князю московскому Василию III
Заголовок в посольской книге: [л. 30] А се грамота о одое в скомъ ясаку
Ма г ме д -Гире | ева ц(а)рева сь его посломъ сь Янчурою:
|| [л. 30 об.] Великiе Орды велико г (о) ц(а)ря Мегме д -Гиреево ц(а)ре | во слово. Брату моему великому кн(я)зю Ва | си л (и)ю Iвановичю. Слово н(а)ше то: Бакше | ишева с(ы)на Девле т -Яра, по о т ца своего по жалованiю, | ка к его о т (е)цъ н(а)шъ пожалова л , и я з его пожалова л о до | евскою пошлиною. А и напере д того Девле т -Я р | на о т ца н а шего и на н(а)ше дело е з дилъ, и з де бы | бы л у на с . И мы бы з бо л шимъ с свои м посло м послали | к тебе. При о т це н(а)ше м , которую ему пошлину | с Одоева давали, и ты б и н(ы)не ему веле л ту | пошлину давати. Мо л вя, к тебе, к брату | своему, сю грамоту посла л есми, да и слово м есми к тебе Янчуре дувану наказа л говорити. | Мо л вя, съ сини м нишаномъ, жиковиною запеча | тав, грамоту посла л есми, лета девя т со т , | дватца т (ь) перваго, iю л (я) м(е) с (я)ца.
РГАДА, фонд 123 «Сношения России с Крымом», оп. 1, кн. 4, л. 30 — 30 об. Грамота ранее публиковалась: СИРИО. Т. 95. №10. С. 158.
Примечание: Грамота прибыла в Москву 31 августа 1515 г. с послом Янчурой дуваном104.
№5.
Около июля 1518 г.
Ярлык хана Мухаммед-Гирея великому князю московскому Василию III
Заголовок в посольской книге: [л. 155 об.] А се трепа грамота ц(а)р(е)ва к великому кн(я)зю с Кудааро м же:
| Великiе Орды велико г (о) ц(а)ря о т Мегме д -Ги | реа ц(а)ря, брату моему великому кн(я)зю Васил(и)ю Ивановичу, мно г (о), мно г (о) покло н . Слово | н(а)ше то. И з начала къ брату к своему | к тебе о добре коли пошле м бо л ше г (о) свое г (о) | посла, и мы завсе к тебе покойника Де | вле т -Ара посылали. И н(ы)не Девле т -Ара дьа | во л ски м навоженiе м ч(е)л(ове)къ е г (о) поколо л . А бра т у не г (о) меншеи есть, и о н с те м , которои у не г (о) | брата уби л , той крови для н(а)ше г (о) двора || [л. 156] береже т , и о н за те м не поше л к тебе. И мы | брата е г (о) бо л шо г (о) с(ы)на к тебе послали. И ты б | оди н белои ястре б присла л к на м с те м с н(а)ши м | паро б ко м с Ылемано м , которои к тебе сю н(а)шу | грамоту привезе т . Да пожалова л бы еси, | одое в скои годовои взимо к присла л , ка к еси | напере д то г (о) присылыва л . Мо л вя, жиковиною | запечата в , грамоту посла л есми.
РГАДА, фонд 123 «Сношения России с Крымом», оп. 1, кн. 5, л. 155 об. — 156. Грамота ранее публиковалась: СИРИО. Т. 95. №30. С. 522.
Примечание: Грамота не имеет даты. Послана вместе с посольством Кураяра, выехавшим из Крыма в конце июля 1518 г. и прибывшим ко двору Василия III 24 августа
1518 г.
№6.
Конец января 1519 г. (925 г. х.)
Ярлык хана Мухаммед-Гирея великому князю московскому Василию III
Заголовок в посольской книге: [л. 324] А се грамота семая ц(а)р(е)ва о одое в ско м ясаке:
| Великiе Орды велико г (о) ц(а)ря Мегме д -Гиреево | ц(а)р(е)во слово великому кн(я)зю Васи л (и)ю Иванови | чю, брату моему. Слово н(а)ше то. Беднои Ба | кшеише в с(ы)нъ Девле т -Яръ на Бо ж (ь)ю волю поше л . || [л. 324 об.] И мы пожаловали, н(ы)не сю грамоту взя в , поше л бра т | его меншеи Алди-Я р тою пошлиною его. И н(ы)не | у тебя у брата моего проше н (и)е мое то. Что | бедному Девле т -Яру шло твое жалова н (и)е, то | бы еси пожалова л , тому н(ы)не веле л дати, за н (е)же | мои да и твои, брата моего, холопъ и слуга. | И ты б сего моего слова инаково не учини л , дру ж бе | и бра т стве примета то. Да о се м же деле | и слово м есми тебе наказа л говорити болше | му своему послу Апаку кн(я)зю, та к бы еси, ведая, | вери л . Мо л вя, з жикови н ною печа(ть)ю с синимъ | нишано м грамоту посла л ес(м)и. Ле т (а) 925 ге н ва | ря м(е) с (я)ца в ысходе. Писа н в Кы р коре.
РГАДА, фонд 123 «Сношения России с Крымом», оп. 1, кн. 5, л. 324 — 324 об. Грамота ранее публиковалась: СИРИО. Т. 95. №36. С. 638.
Примечание: Грамота прибыла в Москву к концу марта 1519 г. с послом князем Апаком 106.
№7.
Декабрь 1529 г. (936 г. х.)
Ярлык хана Саадет-Гирея великому князю московскому Василию III
Заголовок в посольской книге: [л. 276] А се грамота ц(а)р(е)ва ж че т вертая:
| Великие Орды велика г (о) ц(а)ря силы нахо д ца Сааде т - || [л. 276 об.] Гиреево ц(а)рево слово. Брату моему великому кн(я)зю | Васи л (и)ю Ивановичу заповеди ц(а)ря ц(а)ре м слово то. | О т начала напере д на покойнико в ц(а)рей, ц(а)ря о т ца н(а)шего | и ц(а)ря дяди н(а)ше г (о), въ упокойниковы х лета, да еще | и в великаго ц(а)ря деда н(а)ше г (о) въ Ази-Гиреевы ц(а)ревы, | его же сарая пребыва н (и)е в раю имеетца, времена, | старому нашему слузе Ба к шеишу, и его детемъ | на всякои го д со всяки м бо л ши м посло м , к Рязани которые | городы тяну т , с Одоева города тысяча а л ты н | моско в скими деньгами жалова н (и)я твоего и м шло. | И н(ы)не Ба к шаишо в с(ы)нъ Алдыя р у меня во д воре жи | ве т . И ты б н(ы)нешнево году свое жалова н (и)е | ту тысячу а л ты н своего жалова н (и)я да л , а мы ся | печалуе м . А н(ы)не к тобе к брату моему поеха л бра т его Нанъ и даи б(ож)е доеха л , а ты б его не и з де | ржа л , отпусти л . И с Одоева з города то бы еси | взимо к веле л ему дати, да ко мне еси его | отпусти л .
И з начала то т взимо к бы л твое жалова н (и)е, | инако б еси не мо л ви л . Мо л вя, Алдыяра брата На | на к тобе посла л . Жиковиною грамоту запе | чата в , ле т (а) девя т со т три д ца т (ь) шестаго дека б ря м(еся)ца. Писана в Кы р коре.
РГАДА, фонд 123 «Сношения России с Крымом», оп. 1, кн. 6, л. 276 — 276 об. Грамота впервые упомянута А.Ф. Малиновским, затем использовалась В.Е. Сыроечковским, ранее не публиковалась.
Примечание: Грамота прибыла в Москву 16 июня 1530 г. с послом Ахмет-Уланом.
№8.
Конец 1531 г.
Ярлык хана Саадет-Гирея великому князю московскому Василию III
Заголовок в посольской книге: [л. 370] А се грамота ц(а)р(е)ва ж о одое в ско м ясаке:
| Великие Орды велико г (о) ц(а)ря Сааде т -Гиреево ц(а)р(е)во | слово. Брату моему великому кн(я)зю Васи л (и)ю Iвано || [л. 370 об.] вичу всеа Русiи запове д ншие слово то. Напере д | сего при о т це н(а)ше м Кара-Ба к шаишу одое в скои взимо к на всякой го д по тысячи а л ты н дене г жалова н (и)е | твое было. И после того в Магмет-Гиреевы ц(а)р(е)вы лета, которой человекъ у тобя был о том, и ты де | дав, о т пусти л еси. И н(ы)не в мои, брата твое г (о) леты, | по тому же обычею жалова л еси то т взимо к | тысячю а л ты н . Которои (к) тобе поеха л о ни х бити | чело м , тому бы еси да л , о т пусти л . Издавна то | та к твое жалова н (и)е, инако бъ еси не учини л . | Мо л вя, жиковиною запечата в , грамоту посла л | есми. Кара-Ба кша ишеву с(ы)ну, слузе своему, А л дi-Яро | ву брату, сею дорогою то т взимо к да л бы еси.
РГАДА, фонд 123 «Сношения России с Крымом», оп. 1, кн. 6, л. 370 — 370 об. Грамота использовалась В. Е. Сыроечковским, ранее не публиковалась.
Примечание: Грамота не имеет даты. Прибыла в Москву в начале апреля 1532 г. с послом Авельшихом.
Документы о сношениях Крыма с Москвой по поводу одоевского ясака
Documents about relations between the Crimean Khanate and Moscow over Odoyev’s tribute
Список литературы Документы о сношениях Крыма с Москвой по поводу одоевского ясака
- Сыроечковский В. Е. Мухаммед-Герай и его вассалы//Ученые записки Московского государственного университета. Вып. 61. История. Т. 2. М., 1940. С. 46-47
- Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец XV -начало XVI в. М., 2001. С. 235-238
- Колычева Е.И. Новосильско-Одоевская корпорация и судьбы ее представителей в XV в.//Сословия и государственная власть в России. XV -середина XIX вв. Международная конференция. Чтения памяти академика Л.В. Черепнина. Ч. I. М., 1994. С. 203
- Беспалов Р.А. Денежное обращение в верховьях рек Оки и Дона во второй половине XIV -первой трети XV века в контексте политической истории региона//Позднесредневековый город III: археология и история. Материалы III Всероссийского семинара. Ноябрь 2009 г. Тула, 2011. С. 84-97
- Беспалов Р.А., Казаров А.А. Клады и денежные комплексы первой трети XV века, обнаруженные в верховьях Оки, Дона и Десны в 2008-2011 годах (по результатам предварительного исследования)//Г ород Средневековья и раннего Нового времени: археология, история. Материалы IV Всероссийского семинара. Ноябрь 2011 г. Тула, 2013. С. 80-85
- Беспалов Р.А. Новосильско-Одоевское княжество и Орда в контексте международных отношений в Восточной Европе XIV -начала XVI веков//Средневековая Русь. Вып. 11. Проблемы политической истории и источниковедения. М., 2014. С. 257-326
- Беспалов Р.А. Литовско-одоевский договор 1459 года: обстоятельства и причины заключения//Istorijos šaltinių tyrimai T. 4. Vilnius, 2012. P. 46-50
- Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV -первой половины XVI в. М., 1995. С. 38-46
- Барвiньский Б. Два загадочнi ханьскi ярлики на рускi землi з другої половини XV столїтя//Iсторичнi причинки. Розвiдки, замiтки i материяли до iсториї України-Руси. Т. 2. Львiв, 1909. С. 16-21
- Флоря Б.Н. Орда и государства Восточной Европы в середине XV века (1430-1460)//Славяне и их соседи. Вып. 10: Славяне и кочевой мир. М., 2001. С. 183
- Трепавлов В.В. Большая Орда -Тахт эли. Очерк истории. Тула, 2010. С. 66-67
- Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV -начала XVI века. М., 1974. С. 85-111
- Кордт В.В. Материалы по истории русской картографии. Вып. 1. Карты всей России и южных ее областей до половины XVII века. Киев, 1899. Табл. XXIV
- Герберштейн С. Записки о Московии. В двух томах. Т. 1. М., 2008. С. 308-309
- Назаров В.Д. Тайна челобитной Ивана Воротынского//Вопросы истории. М., 1969. №1. С. 211
- Казакоў А.У. Невядомае даканчанне караля польскага i вялiкага князя литоўскага Казiмiра i князя Навасiльскага i Адоеўскага Мiхаiла Iванавiча 1481 г. С. 298-299; АЗР. Т. 1. №80. С. 100-101
- Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства (вторая половина XV века). М., 1952. С. 296
- Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева улуса XIV-XVI вв. Казань, 1979. С. 173-175