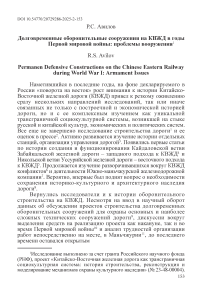Долговременные оборонительные сооружения на КВЖД в годы Первой мировой войны: проблемы вооружения
Автор: Авилов Р.С.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 2 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье на основании ранее неизвестных данных, выявленных в документах РГВИА, рассматривается проблема вооружения долговременных оборонительных сооружений, возводимых на Китайско-Восточной железной дороге в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. Впервые в отечественной историографии проведен анализ принципов артиллерийского и пулеметного вооружения блокгаузов на КВЖД. На материалах реализации конкретного военно-инженерного проекта изучена дискуссия Главного управления Генерального штаба, Главного военно-технического управления, Главного артиллерийского управления и командования Иркутского военного округа о поставках для возводимых блокгаузов закладных частей для артиллерийских систем и самой 3-дюймовой скорострельной пушки на капонирном лафете генерала Дурляхера, а также пулеметов. Особое внимание уделено роли военной неразберихи, царившей в главных управлениях Военного министерства в столице в годы войны, а также общей недооценке сотрудниками этих управлений важности КВЖД, как единственной стратегической железной дороги, обеспечивающей связь Европейской и Азиатской частей империи и безостановочные поставки поступающих через Владивосток грузов от союзников по Антанте.
Китайско-Восточная железная дорога, КВЖД, Иркутский военный округ, Первая мировая война, оборонительное строительство, Дальний Восток, Маньчжурия, блокгауз, А.А. Рахманов, А.Г. Фракман
Короткий адрес: https://sciup.org/149148357
IDR: 149148357 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-153
Текст научной статьи Долговременные оборонительные сооружения на КВЖД в годы Первой мировой войны: проблемы вооружения
Permanen Defensive Constructions on the Chinese Eastern Railway during World War I: Armament Issues
Наметившийся в последние годы, на фоне декларируемого в России «поворота на восток» рост внимания к истории Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) привел к резкому оживлению сразу нескольких направлений исследований, так или иначе связанных не только с построечной и экономической историей дороги, но и с ее комплексным изучением как уникальной трансграничной социокультурной системы, возникшей на стыке русской и китайской культур, экономических и политических систем. Все еще не завершено исследование строительства дороги1 и ее оценок в прессе2. Активно развивается изучение истории отдельных станций, организации управления дорогой3. Появились первые статьи по истории создания и функционирования Кайдаловской ветви Забайкальской железной дороги – западного подхода к КВЖД4 и Никольской ветви Уссурийской железной дороги – восточного подхода к КВЖД5. Продолжается изучение разворачивавшихся вокруг КВЖД конфликтов6 и деятельности Южно-маньчжурской железнодорожной компании7. Вероятно, впервые был поднят вопрос о необходимости сохранения историко-культурного и архитектурного наследия дороги8.
Вернулись исследователи и к истории оборонительного строительства на КВЖД. Несмотря на ввод в научный оборот данных об обсуждении проектов строительства долговременных оборонительных сооружений для охраны основных и наиболее сложных технических сооружений дороги9, дискуссии вокруг выделения средств на реализацию проекта как накануне, так и во время Первой мировой войны10 и анализ трудностей организации работ непосредственно на месте, в Маньчжурии11, до последнего времени оставался открытым вопрос о вооружении блокгаузов на КВЖД и системы обороны Хин-ганского тоннеля. При отсутствии в научном обороте данных, исследователи были вынуждены делать выводы о вооружении блокгаузов на основе анализа типов амбразур на опубликованных фотографиях сооружений12. Такой подход не давал возможности выяснить предполагавшиеся к установке системы вооружения, их количество, особенности монтажа и предусмотренный проектами характер использования.
Выявление новых документов, отложившихся в фондах Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) позволяет решить эту проблему, точно установив численность орудий и пулеметов, предположенных к установке как в целом, так и на каждом конкретном оборонительном сооружении. Таким образом, настоящая статья призвана дать ответ на вопрос о вооружении долговременных оборонительных сооружений КВЖД.
* * *
Обсуждавшееся после Русско-японской войны 1904–1905 гг. строительство долговременных оборонительных сооружений на КВЖД для защиты наиболее сложных и стратегически значимых инженерно-технических сооружений дороги, начало реализовываться на практике только в 1914 г. Оборонительные сооружения предполагалось возвести: у западного и восточного портала Хин-ганского тоннеля, рядом с виадуком его петли («петля Бочарова»), у железнодорожных мостов: через р. Нонни (западное и восточное укрепления), через р. Сунгари I (западное и восточное укрепления), через р. Сунгари II у ст. Лошагоу (укрепления северное и южное), через р. Муданьцзянь у ст. Эхо (укрепления западное и восточное) и на р. Лялинхэ у ст. Цайцзягоу (укрепления северное и южное). Назначение возводимых сооружений состояло в том, «чтобы дать возможность небольшими силами обеспечить вышеназванные железнодорожные технические сооружения от внезапного захвата или разрушения их противником»13.
Большую часть документов, раскрывающих проблему их вооружения, удалось выявить в делах Главного военно-технического управления (ГВТУ) Военного министерства (РГВИА. Ф. 802), которое координировало техническую составляющую работ по возведению оборонительных сооружений, и Главного управления Генерального штаба (ГУГШ) (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1), через которое проходила значительная часть переписки по строительству сооружений. Именно там была обнаружена копия «Основных указаний для производства изысканий по обеспечению фортификационными дол- говременными сооружениями важнейших технических сооружений Китайской Восточной железной дороги»14. Фактически – техническое задание на разработку проекта оборонительных сооружений на КВЖД. Оригинал этого документа (создан не позднее весны 1914 г.) к настоящему времени не обнаружен, однако достоверность подготовленной в аппарате ГУГШ в 1915 г. копии вопросов не вызывает.
В документе четко прописаны задачи, ставящиеся перед оборонительными сооружениями. Во-первых, «дать возможность небольшими силами обеспечить … железнодорожные технические сооружения от внезапного захвата или разрушения их противником»; во-вторых, «упомянутые фортификационные сооружения должны давать возможность отдалить позиции неприятельской артиллерии от прикрываемых ими железнодорожных сооружений и тем затруднить противнику повреждение сих последних железнодорожных сооружений артиллерийским огнем». Решение последней задачи требовало вооружения блокгаузов не только стрелковым оружием, но и артиллерией.
Таким образом, «Основные указания…» – это первый документ, в котором рассматривался вопрос о вооружении блокгаузов. Отмечалось, что оборона их должна достигаться по возможности ограниченным по численности гарнизоном, силой не свыше 1–2 взводов пехоты военного времени, при 2 или 4 пулеметах на каждое отдельное фортификационное сооружение. Артиллерийское вооружение этих сооружений предусматривалось, однако изначально было прописано, что оно может состоять только из полевых легких, горных или капонирных орудий, по расчету 2–4 орудия на каждую, подлежащую охране, железнодорожную техническую постройку (мост или портал Хинганского тоннеля). Распределение этих орудий между фортификационными сооружениями обоих берегов рек необходимо было сделать «в зависимости от местных условий; орудия и пулеметы желательно помещать преимущественно в самих фортификационных сооружениях». Последнее позволяло в максимальной степени защитить малочисленные артиллерию и пулеметы от обстрела неприятеля, так как сами сооружения предполагалось возводить из «жирного» (с увеличенным содержанием цемента) трамбованного бетона, а все пушечные и пулеметные амбразуры, а также ружейные бойницы прикрыть специальными броневыми заслонами15.
Впоследствии вопрос о вооружении блокгаузов несколько раз обсуждался при разработке проектов сооружений и их утверждении. 9 октября 1914 г. командующий войсками Иркутского военного округа генерал от артиллерии А.Н. Нищенков указывал начальнику ГУГШ, что «даже законченные укрепления сами по себе без уста- новки на них назначенных проектами орудий, пулеметов и прожекторов обеспечить Китайскую дорогу от покушений не могут…»16. К началу активного строительства весной 1915 г. итоговые данные были сведены в «Расчет орудий, пулеметов, орудийных снарядов, 3-х линейных винтовочных патронов, ручных гранат и прожекторов с запасом патронов к ним, необходимым для снабжения оборонительных сооружений» на КВЖД, сохранившийся в нескольких экземплярах в материалах переписки ГУГШ с Главным артиллерийским управлением (ГАУ) и ГВТУ17.
В качестве артиллерийской системы было решено остановиться на 3-х дюймовом скорострельном орудии образца 1900 г. на капонирной установке, то есть капонирном лафете генерала Дурляхе-ра. Причем изначально предполагалось, что установочных частей к орудиям (дуги, болты и т.п.) потребуется двойной комплект. С инженерно-технической стороны решение казалось оптимальным, так как, с одной стороны, в блокгаузы ставилась артиллерийская система, специально разработанная для использования в закрытых казематированных помещениях, с другой стороны, в ее основе лежала прекращенная производством 3-дюймовая полевая скорострельная пушка образца 1900 г., патроны к которой были идентичными с таковыми для более современной и массовой аналогичной пушке образца 1902 г., что полностью исключало проблемы с боеприпасами при любом развитии событий. В то же время именно это решение породило в ходе Первой мировой войны ряд трудностей, так как артиллерийская система в целом, и прежде всего, лафет, была одной из самых малопроизводимых в империи. В результате в условиях военного времени, когда все артиллерийские заводы в стране оказались перегружены заказами, решить проблему оперативного производства необходимого для вооружения блокгаузов количества орудий со станками оказалось невозможно. Сделать же заказ заблаговременно, еще до начала войны или в конце 1914 г. ГАУ, как явствует из отложившейся в делах ГУГШ переписки, просто забыло, потому что из ГУГШ об этом не напомнили.
Куда меньше проблем было с пулеметами Максима, которые производились в значительно больших количествах, и не требовали для установки каких-либо специальных закладных частей, вмуровываемых в перекрытия еще на стадии возведения оборонительного сооружения, то есть бетонных работ.
В целом, для вооружения сооружений обороны Хинганского тоннеля предполагалось использовать: 2 орудия, 4 пулемета и 3 прожектора – для западного укрепления, столько же – для восточного. Блокгаузы у виадука разъезда Петля артиллерией вооружать не предполагалось, ограничившись 4 пулеметами и 4 прожекторами.
По 2 орудия, 4 пулемета и 4 прожектора имела и значительная часть остальных блокгаузов: западное и восточное укрепление у моста на р. Нонни, западное и восточное укрепления на р. Сунгари I для охраны важнейшего железнодорожного моста в Харбине. Укрепления северное и южное на р. Сунгари II у станции Лошагоу для защиты моста имели аналогичное количество артиллерии и пулеметов, однако меньше прожекторов – 2 и 3 соответственно.
На р. Муданьцзянь у станции Эхо, где находился еще один важный мост, из двух укреплений на западном установка артиллерии не предполагалась, а решено было ограничиться только 2 пулеметами и прожекторами. В то же время восточное укрепление, при аналогичном количестве пулеметов и прожекторов предполагалось вооружить также 2 орудиями. Самыми слабыми на всей линии дороги были сооружения на р. Лялинхэ у станции Цайцзягоу. Ни на северном, ни на южном укреплении установка артиллерии вообще не предполагалась. На каждом из них считалось достаточным ограничиться 2 пулеметами и 2 прожекторами.
Таким образом, всего предполагалось иметь 18 орудий, 44 пулемета и 39 прожекторов. Численность гарнизона всех оборонительных сооружений определялась в 760 нижних чинов: 495 пехотинцев, 187 пулеметчиков и 78 прожекторных.
На каждое артиллерийское орудие предполагалось иметь запас в 300 снарядов, всего – 5 400, на каждый пулемет – 35 000 патронов, всего – 1 100 000, а также 420 патронов на каждую винтовку чинов гарнизона, то есть всего 319 200 патронов, а всего патронов (3-ли-нейная винтовка и пулемет Максима имели одинаковый патрон калибра 7,62 мм) – 1 419 200. Для работы прожекторов предполагался запас из патронов карбида и оксиженита, всего в 2574 и 1365 соответственно. Кроме того, для защитников блокгаузов предполагалось выделить 5200 ручных гранат18.
В первоначально определенную в 1 млн 200 тыс. руб. стоимость оборонительных укреплений КВЖД «стоимость орудий, пулеметов, прожекторов и боевых припасов, коими необходимо снабдить проектируемые укрепления», включена не была19. Это автоматически породило финансовые трудности уже на стадии строительства. Однако большая часть проблем оказалась все-таки организационно-технической. Трудности с организацией установки в оборонительные сооружения артиллерии начались практически сразу после того, как приступили к возведению самих блокгаузов, то есть в строительный сезон 1915 г. Они нашли подробное отражение в переписке ГУГШ с ГАУ и ГВТУ, штабом Иркутского военного округа, а так же с сами военными инженерами капитанами А.А. Рахмановым и А.Г. Фрак-маном20.
Находившийся временно в Петрограде капитан А.А. Рахманов, в рапорте от 24 апреля 1915 г., докладывал начальнику крепостного отдела ГВТУ военному инженеру генерал-майору И.А. Савримови-чу, что для установки в возводимых блокгаузах 3-дюймовых скорострельных орудий на капонирных лафетах генерал-лейтенанта Дур-ляхера, «при устройстве бетонных перекрытий желательно, одновременно с набивкой бетона подготовить места установки орудий». Для этого нужны были специальные закладные части оснований (стальные дуги и болты), которых в Маньчжурии не было и которые необходимо было выслать как можно быстрее. Рапорт получили в ГВТУ 27 апреля. В тот же день И.А. Савримович напомнил сотрудникам ГАУ, что «в настоящее время на линии КВЖД производятся, согласно положения Военного Совета от 7 мая 1914 г., работы по возведению фортификационных сооружений, где предположено установить 12 полевых 3-дюймовых скорострельных орудий на капонирных лафетах генерал-лейтенанта Дурляхера, и запросило ГАУ о высылке в Харбин и Иркутск, в распоряжение производителей работ, Капитанов А.А. Рахманова и А.Г. Фракмана «по одному комплекту установочных частей для 3 дм скорострельных пушек»21.
В свою очередь военный инженер А.Г. Фракман, тоже находившийся в Петрограде, 29 апреля 1915 г. информировал ГВТУ (документ был получен 1 мая), что в порученных ему постройках должны быть поставлены 9 капонирных установок системы генерала Дур-ляхера для семи 3-дюймовых скорострельных пушек. «Установочные части этих систем необходимо иметь заранее, т.к. они должны быть заделаны в бетонные конструкции сооружений, а потому прошу содействия в высылке если не всех частей, то хотя бы образцов или точных чертежей их»22.
В следующий раз И.А. Савримович просил ГАУ о высылке закладных частей 2 мая, напоминая, что еще 27 апреля ГВТУ«просило о высылке на ст. Харбин в распоряжение капитана Рахманова для образца хотя бы одного комплекта установочных частей для 3 дм. скорострельных пушек. Как ныне выяснилось для другого производителя работ» на линии КВЖД, А.Г. Фракмана, «также необходим хотя бы один комплект вышеупомянутых установочных частей или точные чертежи этих частей для образца при постройке оснований для орудий. Означенный второй комплект … подлежит высылке в г. Иркутск на имя инспектора инженерной части Иркутского военного округа, а за неимением установочных частей чертежи таковых – в Г.В.-Т.У. Сообщая об этом Г.В-Т.У. просит зависящих распоряжений по настоящему делу и о последующем не отказать уведомлением»23.
Однако свободных орудий указанного типа в стране просто не оказалось. 4 мая из ГАУ ответили, что, так как им не было известно о работах по возведению на линии КВЖД фортификационных сооружений, согласно положению Военного Совета от 7 мая 1914 г., «то распоряжений по заказу пушек и капонирных лафетов не делалось. В виду неимения в запасе установочных частей, таковые, в количестве 12 экземпляров, ныне заказываются Пермскому пушечному заводу»24. 6 мая, озадаченный происходящим И.А. Савримович, наложил на этом ответе резолюцию: «Просить дополнительно сообщить, когда можно ожидать изготовления закладных частей», что и запросили 7 мая у ГАУ. Впрочем, к этому времени оба инженера уже покинули столицу – 4 мая 1915 г. ГВТУ сообщило в ГУГШ, что 3 мая капитаны А.А. Рахманов и А.Г. Фракман отправились в распоряжение Командующего войсками Иркутского военного округа для продолжения фортификационных работ на линии КВЖД25.
Ответ из ГАУ в ГУГШ пришел только 15 мая, и гласил, что, так как ГАУ«не было известно о работах по возведению вышеупомянутых фортификационных сооружений, то распоряжений по заказу пушек и капонирных лафетов с установочными частями не делалось». В виду изложенного, ГАУ «просит поставить в известность Управление об означенных фортификационных сооружениях»26. Таким образом, в ГАУ уверяли, что вообще ничего не знают о возводимых сооружениях, что, вероятно, было правдой, т.к. первый выявленный исходящий из ГВТУ в ГАУ документ по этому вопросу датирован 27 апреля, а из ГУГШ – 4 июня 1915 г.27.
Однако И.А. Савримовича смущало не только это, но и то, что А.Г. Фракман запросил для 7 орудий 9 комплектов закладных частей и лафетов. Самое удивительное, что сведений о количестве предположенного к установке на оборонительных сооружениях КВЖД артиллерийского вооружения не оказалось и в ГВТУ, так как вся работа курировалась управлением генерал-квартирмейстера ГУГШ и инспектором инженерной части Иркутского военного округа, а велась военными инженерами на комиссионерском праве. В результате, было решено затребовать «сведения о том, какое именно в означенных сооружениях предполагается, по утвержденным проектам, установить артиллерийское вооружение», из Иркутска.
15 мая 1915 г. И.А. Савримович, пытаясь разобраться в происходящем, направил письмо в Иркутск на имя инспектора инженерной части Иркутского военного округа. Он указал, что в рапорте от 24 апреля 1915 г. А.А. Рахманов доложил, что в порученных ему постройках на линии КВЖД предположено установить 12 полевых 3-дюймовых скорострельных орудий на капонирных лафетах Дур-ляхера. «Так как при устройстве перекрытий желательно одновременно с набивкой бетона подготовить места установки орудий, то капитан Рахманов и просит о высылке в его распоряжение хотя бы одного комплекта установочных частей для образца, адресовав на станцию Харбин через коменданта станции».
И.А. Савримович писал в Иркутск, что независимо от изложенного А.Г. Фракман, рапортом 29 апреля № 109 донес, что в порученных ему постройках на КВЖД «должны быть поставлены девять капонирных установок системы генерала Дурляхера для семи 3-х дм скорострельных пушек. Ввиду изложенного, для выяснения неясности рапорта капитана Фракмана относительно разницы установок с количеством пушек и для необходимости своевременного заготовления артиллерийского вооружения, подлежащего установке в фортификационных сооружениях на линии Китайской Восточной ж.д., Г.В.Т. У. предписывает Вам безотлагательно донести, какое именно в означенных сооружениях предполагается, по утвержденным проектам, установить артиллерийское вооружение»28.
Инспектор инженерной части Иркутского военного округа, в свою очередь, не стал полагаться на имевшиеся в Иркутске документы, а запросил интересующие И.А. Савримовича данные непосредственно у военных инженеров-производителей работ. 10 июня 1915 г., капитан А.А. Рахманов из гарнизонного собрания г. Харбин писал начальнику штаба инспектора инженерной части Иркутского военного округа: «Согласно протоколов комиссии, производившей выбор мест и типов фортификационных построек на линии Китайской Восточной железной дороги, назначено к установке в постройках на западной части ее 12 орудий , причем для увеличения угла обстрела предположено на каждое орудие сделать по две установки , с тем чтобы по надобности можно было быстро переменить направление огня орудия. При этом необходимо, в отличие от нормального чертежа лафета, сделать при нем особые ходовые приспособления чтобы прислуга орудия могла без особых усилий и возможно быстро перетащить орудие по бетонному полу каземата на другое место и там закрепить на вторых установочных частях»29. К рапорту прилагалась ведомость количества полевых 3 дюймовых скорострельных орудий на капонирных лафетах Дурляхера, подлежащих установке в постройках на западной линии КВЖД, подписанная тем же капитаном А.А. Рахмановым. В ведомости указывалось, что для сооружений западного портала Хинганского тоннеля необходимо 2 орудия, для восточного портала – тоже 2, для сооружений у моста через р. Нонни (у Фурярди) – 4, и еще 4 – для блокгаузов защищавших мост через р. Сунгари I в Харбине. А поскольку число комплектов установочных частей было необходимо двойное против числа орудий, то составляло, соответственно: 4, 4, 8 и 8; всего 24 комплекта30.
На следующий день, 11 июня 1915 г., начальнику штаба инспектора инженерной части Иркутского военного округа был по- слан из Харбина рапорт и от капитана А.Г. Фракмана, который разъяснял, что «согласно проекту число орудий должно быть меньше числа установочных частей имея в виду перестановку орудий на нужные места. Это перемещение орудий на стационарных лафетах в тесных помещениях затруднительно, а в самом сильном из моих блокгаузов, где наиболее вероятна потребность стрельбы сразу по всем направлениям тем более трудна, так как приходится поворачивать орудие, имеющее в длину 9’6” в комнате шириною (на большей части) в 1,28’=8,96’, снабженной к тому же нарами. На основании изложенного прошу ходатайства о назначении в Южный блокгауз на Лошагоу одного добавочного орудия и всего, таким образом, на мои работы девяти (9) установочных частей и семи (7) орудий. Установочные части для заделки их в бетон желательно получить возможно скорее»31.
К рапорту прилагалась ведомость количества орудий и установочных частей, предназначенных к установке в строящихся блокгаузах на восточной и южной ветках КВЖД, – согласно утвержденного проекта и приложенных к нему соображений, подписанная тем же А.Г. Фракманом32. Только 4 из 7 возводимых им блокгаузов должны были иметь на вооружении артиллерию: блокгауз на южном берегу р. Сунгари II у Лошагоу – 2 орудия (с пометкой в примечаниях, что желательно – 3), восточный блокгауз на Северном берегу р. Сунгари II у Лошагоу – 1, западный блокгауз на северном берегу р. Сунгари у Лошагоу – 1 и блокгауз на западном берегу р. Муданьзянь у станции Эхо – 2. Соответственно, закладных частей для каждого из них требовалось: 3, 1, 1 и 4 комплекта. Остальные сооружения: блокгауз на южном берегу р. Лялинхэ у Цайцзягоу, блокгауз на северном берегу р. Лялинхэ у Цайцзягоу и блокгауз на восточном берегу р. Мудань-зянь у станции Эхо предполагалось вооружить только пулеметами. На подлинном рапорте Командующий войсками Иркутского военного округа генерал от инфантерии В.Е. Бухольц 22 июня 1915 г. оставил резолюцию: «Разрешаю увеличить вооружение у Лошагоу на р. Сунгари 2-й на одно орудие»33. Таким образом, число необходимых для вооружения блокгаузов орудий увеличилось незначительно, в то время как проблема закладных частей становилась все острее.
После этого копии рапортов с ведомостями, были немедленно направлены в Петроград, куда и прибыли в течение трех недель. Так, кружным путем, в ГВТУ получили сведения, что по проектам «в упомянутых выше сооружениях всего предположено установить 18 полевых 3-х дм. скорострельных орудий», а вместе с изменениями, предложенными А.Г. Фракманом и утвержденными Командующим войсками Иркутского военного округа – 19 орудий и 33 комплекта установочных частей. Вместе с ними были получены и копии рапортов военных инженеров вместе с цитированными выше ведомостями. Причем донесение инспектора инженерной части Иркутского военного округа стало первым документом, из которого в ГВТУ узнали, что «было бы желательно, – для возможности быстро снять орудие и перетащить его к месту второй установки, как об этом ходатайствует производитель работ капитан Рахманов, – на самых лафетах сделать особые ходовые приспособления»34.
Все эти данные начальник крепостного отдела И.А. Савримович из ГВТУ направил 1 июля 1915 г. ГУГШ, а также в ГАУ «для сведения и зависящих распоряжений об изготовлении вышеупомянутых орудий и установочных частей для сооружений» на линии КВЖД35. Пока ждали ответ из Иркутска, в столице сотрудники ГУГШ и ГАУ пытались разобраться, как выйти из сложившейся ситуации с отсутствующими закладными частями, без которых строительство долговременных оборонительных сооружений на КВЖД сталкивалось с серьезными проблемами. 4 июня 1915 г. уже исполняющий должность генерал-квартирмейстера ГУГШ генералмайор М.Н. Леонтьев напомнил ГАУ, что в связи с началом работ по возведению блокгаузов представляется весьма желательной высылка просимых ГВТУ «комплектов установочных частей 3 дм. скорострельных пушек, но если таковых нет, или если бы высылка их отразилась сколько-нибудь неблагоприятно на снабжении названными орудиями действующей армии», то ГУГШ просит «о срочной высылке всех подробных чертежей означенных установочных частей»36.
6 июня 1915 г. из ГАУ ответили в ГУГШ, что ГВТУ действительно, начиная с 27 апреля текущего года, просило о высылке «установочных частей для 12 полевых 3-дм. скорострельных орудий на капонирных лафетах», предположенных к установке на линии КВЖД. Однако горный департамент на запрос от 31 мая ответил, что «упомянутые установочные части могут быть изготовлены Пермскими пушечными заводами по цене 900 рублей за комплект и со сдачей их при заводе к 15 октября сего года». После чего повторили просьбу о предоставлении дополнительных сведений об оборонительном строительстве на КВЖД37.
9 июня 1915 г. из ГАУ, наконец, отправили в ГВТУ «2 экземпляра чертежей установочных частей для 3-дм капонирного лафета Генерал-Лейтенанта Дурляхера» и сообщили, что «заказанные Пермскому Пушечному Заводу 12 экз. установочных частей будут изготовлены примерно к 15 октября» текущего года. Впрочем, установочные части, судя по рукописной пометке на документе, были изготовлены на месяц раньше – к 12 сентября 1915 г.38 Кроме того, еще до получения в Петрограде иркутских данных, было решено прислушаться к предложению исполняющего должность гене- 162
рал-квартирмейстера ГУГШ М.Н. Леонтьева и отправить в Маньчжурию вместо закладных частей хотя бы точные чертежи, которые сначала 11 июня 1915 г. из ГАУ получили в ГВТУ, а затем отправили в Харбин39. Для качества возводимых сооружений это было далеко не лучшее решение, но другого в условиях артиллерийского голода времен Первой мировой войны просто не было. А 12 июня сведения об этом направили инспектору инженерной части Иркутского военного округа, а из ГАУ запросили еще 1 такой же чертеж – уже непосредственно для нужд ГВТУ40.
При этом ГАУ в лице начальника хозяйственного отдела генерал-майора Н.И. Петровского продолжало просить ГУГШ сообщить более подробные сведения о возводимых на линии КВЖД «укреплениях, их задаче, предполагаемом вооружении и снабжении боевым комплектом», а со своей стороны информировало, что представление об их заказе Пермским пушечным заводам вносится в Военный Совет41. 28 июня 1915 г. тот же Н.И. Петровский уведомил ГУГШ, что согласно положения Военного Совета от 18 июня 1915 г., состоявшемуся по представлении ГАУ «от 12 сего июня за № 3122 (секретно), Пермским пушечным заводам дан наряд на изготовление 12-ти экземпляров установочных частей для 3-дм. скорострельных пушек на капонирных лафетах системы Генерал-Лейтенанта Дур-ляхера», предположенных к постановке на линии КВЖД. Что же касается самих пушек и капонирных лафетов к ним, то распоряжение по их заказу со стороны ГАУ не было, так как ГВТУ «в своем ходатайстве о высылке установочных частей, вопроса о пушках и лафетах не возбуждает». После чего откровенно написал, что и требовать заказа орудий не стоит, поскольку в стране все мощности по производству артиллерии уже и так перегружены, причем, скорее всего, до окончания войны. Поэтому «в настоящее время заказ на упомянутые пушки и лафеты, без ущерба для данных уже заказов Пермским пушечным заводам по изготовлению 3-дм. полевых пушек, дать не представляется возможным»42.
К 9 сентября 1915 г. 12 комплектов закладных частей были готовы, и ГАУ запросило ГВТУ, куда их с Пермских пушечных заводов следует отправить. ГВТУ телеграфировало этот вопрос 13 сентября инспектору инженерной части Иркутского военного округа в Иркутск, а 26 сентября напомнило вопрос. Иркутску, естественно, пришлось запрашивать Харбин, так что ответ пришел только 30 сентября: «Из двенадцати экземпляров установочных частей семь прошу направить капитану Рахманову – станция Хинган и пять – капитану Фракману, станция Яомынь. Обе – Китайской дороги, что было немедленно сообщено ГАУ. 5 октября ГАУ сделало соответствующее распоряжение, уведомив ГВТУ, а 7 октября последнее поставило в известность Иркутск43.
Однако с прибытием первых комплектов закладных частей на КВЖД трудности не кончились, поскольку оказалось, что далеко не во всех блокгаузах толщина перекрытий позволяет ставить закладные части на болтах штатной длины. Возникла переписка о том, как такое стало возможным, и можно ли укоротить болты и крепить закладные части уже укороченными болтами. 27 июля 1916 г. военный инженер капитан А.А. Рахманов писал по этому вопросу в рапорте инспектору инженерной части Иркутского военного округа генерал-майору С.Н. Жданову.
«Доношу, что при выяснении (с подполковником Фракманом) вопроса об установочных частях для пушек оказалось следующее: во всех постройках возводимых на западной линии дороги полы в пушечных казематах проектированы на плоских перекрытиях толщиной 0,20 саж. по железным балкам, а на южной и восточной линиях – на плоских перекрытиях толщиной 0,40 саж. Такое разногласие не было замечено при составлении в 1913 году проектов Военным Инженером Полковником Пороховщиковым, и мной и проекты были утверждены.
Полковник Пороховщиков, по-видимому, руководствовался имевшимся у нас чертежом установки пушек на лафет Генерала Дурляхера для промежуточных капониров в крепостях, в которых толщина перекрытия указана в 2 ф. 10 дм = 0,405 с. Я же предполагал возможным установку орудий спроектировать на перекрытиях той же толщины, как и для всех других помещений в зданиях, т.е. 0,20 саж. При этом я считал, что прочность перекрытий будет вполне достаточной и при 0,20 саж. толщины, а выгодной является то, что помещения, приходящиеся под пушечными казематами, можно будет оставить высотой 1,50 саж. вместо 1,295 саж., что при общей тесноте в зданиях и при расположении людей на нарах в 2 яруса очень желательно. Присланные на порученные мне работы 7 комплектов установочных частей имеют болты длиной 0,444 саж. что соответствует толщине полов в промежуточных капонирах 0,405 саж. Для заделки установочных частей в полы толщиной 0,20 саж. необходимо болты укоротить, что вполне возможно сделать в Главных мастерских Китайской Восточной ж.д.».
Обратный вариант – подгонять толщину полов к длине болтов, вызвал бы уменьшение высоты ниже расположенных помещений на 0,206 саженей для казематов сразу 6 блокгаузов: западного (4 помещения общей площадью 10,35 квадратных саженей) и восточного (4; 10,43 квадратных саженей) порталов Хинганского тоннеля, западного (2; 6,20 квадратных саженей) и восточного (2; 6,80 квадратных саженей) берегов р. Нонни, западного берега Сунгари I (2;
7,20 квадратных саженей) и восточного берега Сунгари II (2; 6,92 квадратных саженей), то есть суммарно 47,90 квадратных саженей. Кроме того, увеличение толщины полов в пушечных казематах вызвало бы увеличение количества бетонной кладки, а значит и рост стоимости работ и материалов (цемента) по всем указанным объектам: на Хингане: на 4,26 кубических саженей на сумму за работу по договорам 639 руб. и за цемент – 676 руб. 81 коп., всего на 1 315 руб. 81 коп.; на западном берегу р. Нонни: на 1,27 кубических саженей, 165 руб. 10 коп. и 192 руб. 40 коп.; на восточном берегу р. Нонни: на 1,40 кубических саженей, 245 руб. и 212 руб. 38 коп., всего на р. Нонни (оба берега) 814 руб. 88 коп.; на Сунгари I: на 2,90 кубических саженей, 551 руб. и 416 руб. 15 коп. соответственно, всего на Сунгари I 967 руб. 15 коп. Всего же бетона 9,83 кубических сажени на сумму 3 097 руб. 84 коп.
Стоимость обрезки болтов для 7 полученных комплектов установочных частей была бы куда дешевле – 7х14х1руб.50коп. = 147 руб., а болты для остальных комплектов просто предполагалось заказать другой длины.
Однако при обсуждении этого вопроса А.А. Рахманов с А.Г. Фракманом так и не пришли к какому-либо одному определенному решению, а потому направили его на разрешение инспектору инженерной части Иркутского военного округа генерал-майору С.Н. Жданову, который в свою очередь переправил этот запрос в крепостной отдел ГВТУ, вместе с копией рапорта, где документы были получены 22 августа 1916 г., вместе с чертежом болта на синь-ке44.
Обсуждение этого вопроса было вынесено на заседание технического комитета ГВТУ, где в качестве временных членов были заслуженный профессор Николаевской инженерной академии военный инженер генерал-лейтенант В.П. Стаценко, от электротехнического отдела ГВТУ полковник В.К. Кочмержевский и совещательные члены: генерал-лейтенант А.И. Калишевский и от ГАУ – сам создатель лафета генерал-лейтенант Р.А. Дурляхов (сменивший немецкую фамилию Дурляхер на русскую из патриотических соображений).
«Рассматривая это дело генерал-лейтенант Дурляхов доложил Комитету, что толщина покрытия, вернее прочность его, должна быть рассчитана соответственно наибольшим усилиям в местах опор лафета на основание, а именно на задних катках 300 пуд. вниз (на оба катка), на переднем захвате 150 пуд. вверх. Таковы усилия при выстреле. Вес же системы около 65 пуд.», – что и было записано в Журнале технического комитета ГВТУ № 79 от 12 сентября 1916 г., направленном в копии С.Н. Жданову в Иркутск 18 сентября
1916 г.45. Решить, способны ли более тонкие перекрытия блокгаузов выдержать такую нагрузку или нет, было предоставлено самим военным инженерам. Последние, судя по результатам визуального осмотра автором закладных частей в одном из блокгаузов на Сунгари I, все-таки решили обрезать болты.
К вопросу об артиллерийском вооружении блокгаузов вернулись в середине осени 1916 г., когда из Иркутска в Петроград пришли очередные отчетные данные о ходе бетонных работ на возводимых объектах, из которых явствовало, что бетонирование практически завершено. По сути, недоделанным оставался только верхний, 4-й этаж, второго, 4-этажного, здания блокгауза у восточного портала Хинганского тоннеля, а также блокгауз № 1 у моста через р. Нонни на ее левом, восточном, берегу, где из предусмотренных по проекту четырех этажей и подвала, были построены только подвал и первый этаж46. Это означало, что вопрос с вооружением блокгаузов все-таки нужно решать, поскольку внутренняя отделка помещений была делом значительно более быстрым, а планировку местности, установку проволочных заграждений и боевых решеток вообще можно было производить практически в любое время. Высокую степень готовности возводимых сооружений подтвердил и лично осмотревший работы Командующий войсками Иркутского военного округа, генерал от инфантерии Я.Ф. Шкинский, телеграфировавший 7 ноября 1916 г. в ГУГШ о результатах осмотра. Он же в очередной раз напомнил о необходимости решения вопроса с вооружением этих укреплений орудиями и пулеметами, а также снабжением их прожекторами47.
Однако документы по вооружению блокгаузов и в ГУГШ, и в ГАУ, судя по всему, опять затерялись, поскольку 11 ноября 1916 г., при очередном докладе исполняющему должность начальника ГУГШ П.И. Аверьянову исполняющий должность генерал-квартирмейстера ГУГШ генерал-майор М.И. Занкевич сообщил, что по этому вопросу были сделаны не давшие к моменту доклада запросы в ГВТУ и ГАУ, а также, что 30 сентября текущего года «от Командующего войсками Иркутского военного округа запрошены подробные сведения относительно вооружения заканчиваемых укреплений». По получении ответа будет сделан запрос в ГАУ о заказе необходимого числа орудий и пулеметов48.
После получения 20 октября ответа от ГАУ, «что в настоящее время заказов на пушки и лафеты, без ущерба для данных уже заказов Пермским пушечным заводам по изготовлению 3-х дюймовых пушек, дать не представляется возможным», генерал-лейтенант П.И. Аверьянов сделал 15 ноября 1916 г. соответствующий доклад военному министру Д.С. Шуваеву. При этом запрошенные у Я.Ф. Шкинского сведения ко времени доклада еще не были получены, и их предполагалось доложить отдельно. «Читал. Сколько и какого потребно вооружения?» – оставил на документе резолюцию военный министр49.
В дальнейшем, с учетом развития ситуации на фронте, вопрос о поставке артиллерийских систем в Маньчжурию для монтажа на долговременных оборонительных сооружениях КВЖД, до начала революционных событий 1917 г. больше не поднимался. Несколько комплектов чертежей и 12 комплектов закладных частей были доставлены на КВЖД во второй половине 1915 г. При передаче уже построенных блокгаузов под юрисдикцию Заамурского округа Отдельного пограничного корпуса (ЗО ОПК) в мае 1917 г. в документах фигурировали только непосредственно бетонные сооружения, о наличии в них лафетов или орудий не упоминалось, а значит, они так и не были доставлены на КВЖД.
Не были доставлены для вооружения блокгаузов и пулеметы, о высылке которых неоднократно ходатайствовало командование Иркутского военного округа. Когда в начале февраля 1916 г. начальник 1-го хозяйственного отдела ГАУ в очередной раз обратился с этим вопросом в ГУГШ, исполняющий должность начальника ГУГШ генерал от инфантерии М.А. Беляев 7 февраля 1916 г. запросил начальника ГВТУ, следует ли отпустить 44 пулемета на станках для блокгаузов на КВЖД. «Прошу Ваше Превосходительство не отказать сообщить, – писал он, – каким серьезным обстоятельством вызвано это ходатайство, в то время, когда пулеметы настоятельно необходимы для Действующей Армии»50.
В ответ начальник ГВТУ военный инженер Генерального штаба генерал-лейтенант Г.Г. Милеант прислал письмо, содержавшее предельно сжатую справку по истории вопроса, сведения об отправке на КВЖД 12 комплектов закладных частей, невозможности заказать и отправить сами орудия и – ни слова о том, что дорога представляла собой важнейший стратегический путь сообщения, по которому в Европейскую Россию безостановочно перевозили колоссальные запасы военного имущества, поступавшие во Владивостокский порт от союзников по Антанте, и что любая серьезная диверсия на мостах КВЖД или в Хинганском тоннеле полностью остановила бы этот поток на неопределенный срок с катастрофическими для фронта последствиями. Само решение вопроса о пулеметах он оставлял на усмотрение М.А. Беляева, прося лишь уведомить «о последующем решении относительно пулеметов для дополнительного ответа командующему войсками Иркутского военного округа»51. Последний, зная о текущих нуждах фронта, посчитал выделение пулеметов для защиты КВЖД совершенно избыточным.
2 марта 1916 г. ГАУ, наконец, ответило крепостному отделу ГВТУ, что, согласно указаний ГУГШ, ходатайство «об отпуске 44 пулеметов на станках удовлетворению не подлежит». 9 марта 1916 г. эта информация была телеграфирована Г.Г. Милеантом командующему войсками Иркутского военного округа Я.Ф. Шкинскому52.
* * *
Таким образом, можно констатировать, что долговременные оборонительные сооружения, возводимые для защиты наиболее значимых технических сооружений КВЖД, предполагалось вооружить по последнему слову техники. Проект учитывал опыт противодиверсион-ной защиты, накопленный во время Англо-бурской войны 1899–1902 гг., Китайского похода русской армии 1900 г. и Русско-японской войны 1904–1905 гг. А в распоряжении защитников блокгаузов должно было оказаться не только ручное и станковое стрелковое оружие (винтовки и пулеметы), но и артиллерия. Причем специально разработанная для применения в закрытых казематированных сооружениях 3-дюймовая пушка на капонирном лафете генерала Дуляхера – орудие, оптимальное для использования в подобного рода сооружениях. В каждом сооружении предполагалось наличие солидного запаса артиллерийских боеприпасов и винтовочных патронов. Кроме того, гарнизон должен был иметь на вооружении солидный запас гранат. Возможность ведения ночного боя обеспечивалась наличием в каждом блокгаузе прожекторов.
В то же время, слабость имперской артиллерийской промышленности, не справлявшейся с производством нужного количества орудий даже в условиях мирного времени 1910–1914 гг. (несвоевременное поступление закладных частей к орудиям и самих орудий было самой частой причиной срыва сроков возведения береговых артиллерийских батарей, в том числе во Владивостокской крепости), изначально привела к решению об оптимизации (предельном сокращении) количества орудий в блокгаузах. В результате вместо 2–3 пушек предполагалось ставить одну, но со сложным техническим приспособлением для ее перемещения между амбразурами. Таким образом, уже на стадии проектирования инженерам пришлось пожертвовать требованиям военной науки в пользу реалий артиллерийской промышленности и финансовой экономии.
Начавшаяся Первая мировая война радикально ухудшила ситуацию. Наиболее подходящая для блокгаузов 3-дюймовая пушка на капонирном лафете генерала Дуляхера, как раз из-за лафета, оказалась одной из самых редких артиллерийских систем в империи. Производилась она в небольших количествах, на собственных складах ГАУ ее найти не сумело, вероятно, по причине общей неразберихи в органах военного управления. В результате к моменту начала в 1915 г. активной фазы строительных работ в ГАУ были уверены, что у них нет не только ни одного свободного орудия подобной системы для вооружения блокгаузов, но даже ни одного комплекта закладных частей, которые пришлось срочно заказывать на заводах в половинном от необходимого количестве, а в Харбин эти 12 комплектов прибыли в только осенью 1915 г. Что же касается самих орудий с лафетами, то их до начала революционных событий 1917 г. не удалось не только доставить, но даже заказать из-за перегруженности заводов.
И это притом, что необходимые 3-дюймовые орудия образца 1900 г. на капонирных лафетах Дурляхера в империи были. Их заказали для крепостей, строительство которых было приостановлено или изменено с началом военных действий и которые в течение 1915 г. вообще попали в руки неприятеля. Впоследствии, вместе со складами ГАУ, в распоряжение РККА попало 44 3-дюймовых орудия образца 1900 г. с лафетами Дурляхера и их закладными частями. Полностью исправными из них оказалось 32, каковые и были использованы для вооружения открытых одноорудийных позиций (ТАУТов) и трех двухорудийных полукапониров Киевского укрепленного района53. Таким образом, орудия и капонирные лафеты, пригодные для вооружения блокгаузов на КВЖД, имелись в избытке, но ГАУ умудрилось их просто потерять.
Избежать проблем с вооружением блокгаузов можно было тем же способом, что и трудностей в организации работ, а именно: своевременным финансированием. В случае поступления всех необходимых средств сразу, без растягивания на два транша, артиллерию либо доставили бы со складов из имевшихся запасов до начала неразберихи военного периода, либо – заказали на заводах еще в конце 1913 г., и тогда к 1915 г. закладные части орудий были бы гарантированно на строительных участках, а к концу 1916 г. в блокгаузах были бы смонтированы и сами артиллерийские системы. Однако этого не произошло. Постоянные трения между ГВТУ, ГАУ и ГУГШ лишь ухудшали ситуацию. Тем не менее, анализ документов показывает, что в случае благополучного для России окончания Первой мировой войны, блокгаузы были бы не только достроены, но и вооружены.