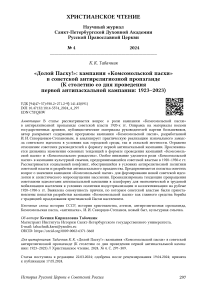«Долой Пасху!»: кампания «комсомольской Пасхи» в советской антирелигиозной пропаганде (к столетию со дня проведения первой антипасхальной кампании: 1923-2023)
Автор: Табачник К.К.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История русской церкви в советской России
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о роли кампании «Комсомольской пасхи» в антирелигиозной пропаганде советской власти 1920-х гг. Опираясь на материалы восьми государственных архивов, публицистические материалы руководителей партии большевиков, автор раскрывает содержание программы кампании «Комсомольской пасхи», разработанной И. И. Скворцовым-Степановым, и анализирует практическую реализацию изначального замысла советского идеолога в условиях как городской среды, так и сельской местности. Отражено отношение советских руководителей к формату первой антипасхальной кампании. Прослеживается динамика изменения основных тенденций в формате проведения кампаний «Комсомольской пасхи» и «Комсомольского рождества». Особое внимание уделяется роли «Комсомольской пасхи» в кампании культурной смычки, предпринимавшейся советской властью в 1920-1930-е гг. Рассматривается социальный конфликт, обострившийся в условиях антирелигиозной политики советской власти и разработки антипасхального празднества. Предпринимается попытка осветить вопрос о значении кампании «Комсомольской пасхи» для формирования новой советской идеологии и атеистического мироощущения населения. Проанализирована тенденция превращения советскими идеологами антипасхальной кампании в платформу для экономической и трудовой мобилизации населения в условиях политики индустриализации и коллективизации на рубеже 1920-1930-х гг. Выявлена совокупность причин, по которым советской властью были приостановлены попытки разработки кампании «Комсомольской пасхи» как главного средства борьбы с традицией празднования христианской Пасхи населением.
История ссср, история христианства, атеизм, антирелигиозная пропаганда, комсомольская пасха, «антипасха», и. и. скворцов-степанов, новый быт, культурная смычка
Короткий адрес: https://sciup.org/140308471
IDR: 140308471 | УДК: [94(47+57):930.2+271.2-9]:141.45(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_297
Текст научной статьи «Долой Пасху!»: кампания «комсомольской Пасхи» в советской антирелигиозной пропаганде (к столетию со дня проведения первой антипасхальной кампании: 1923-2023)
Октябрьский революционный переворот стал новой исторической вехой не только с точки зрения утверждения нового для российского общества политического строя. Первые десятилетия существования советской власти ознаменовались формированием нового мироощущения у населения, большая часть которого на момент 1917 г. исповедовала православно-христианские убеждения. Новому политическому режиму, призванному уничтожить на корню дореволюционные жизненные устои общества, требовалось искоренить религиозные убеждения из сознания населения, что представляло собой достаточно сложную задачу. Историки М. В. Шкаровский и Д. В. Поспе-ловский отмечали, что в годы Гражданской войны еще сохранялся высокий процент людей, не утративших религиозные воззрения. Данная тенденция подтверждается фактом активизации мирян в защите православных храмов с 1918 г. (см.: [Шкаров-ский, 2010, 76; Поспеловский, 1995, 53]).
Большая часть членов Российской коммунистической партии большевиков (далее также — РКП(б)) не питала иллюзий, признавая, что борьба с влиянием на общество конфессиональных институтов, особенно Русской Православной Церкви, должна проводиться длительным и поступательным путем. Так, например, Л. Д. Троцкий яростно критиковал тенденцию «лобовой атаки», господствовавшую в антирелигиозной политике периода Гражданской войны (Троцкий, 1923, 48).
С 1922–1923 гг. «чаша весов» в антирелигиозной полемике склоняется не столько к административным формам борьбы с Церковью, сколько к радикализации антирелигиозной пропаганды путем дискредитации церковных обрядов и праздников. Именно к 1920-м гг. относится проведение масштабного эксперимента по замене православных христианских обрядов «красными ритуалами» («октябринами», «красными свадьбами» и «гражданскими похоронами»). Цель данной статьи — рассмотреть аспект борьбы советской власти с празднованием верующей частью общества главных праздников русского православия — Пасхи и Рождества.
Несмотря на то, что в статье будет рассмотрен вопрос, касающийся в первую очередь разработки антирождественской кампании, невозможно не затронуть проблему попыток внедрения советской властью и кампании «Комсомольского рождества» как первой в истории попытки РКП(б) разработать антирелигиозный праздник с применением квазихристианской атрибутики.
Проблема с празднествами, связанными с центральной в христианстве фигурой Христа, носила глубинный характер, так как касалась веры населения в возможность посмертного существования души, искупления грехов и достижения вечного блаженства. Попытки разработки «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи», предпринятые частью членов РКП(б) в период с нач. 1920-х гг. до сер. 1930-х гг., были направлены главным образом на разрушение традиции празднования православных Рождества и Пасхи. Новой власти требовалось разработать праздники, дискредитирующие Рождество и Пасху, но применяющие аналогичную ей семиотику с революционно-безрелигиозным звучанием.
В настоящее время историография изучения вопроса о праздновании «Комсомольской пасхи», как и «Комсомольского рождества», не является в достаточной степени разработанной. Лишь на рубеже 1960-1970-х гг. появляются первые исследования, в которых затрагивается аспект борьбы советской власти с религиозными верованиями населения сквозь призму новых праздников и обрядов. Стоит упомянуть труд В. И. Бруд-ного «Обряды вчера и сегодня» [Брудный, 1968], в котором лишь косвенно упоминается период попыток представителей РКП(б) на местах внедрить празднество, способствующее прекращению пасхальной и рождественской традиций. В статье Л. И. Тульце-вой, написанной спустя десятилетие, освещается проблематика празднования первого «Комсомольского рождества» [Тульцева, 1978], однако автор не уделяет внимания такой функции антирождественской и антипасхальной кампаний, как образование советской «красной идеологии», не анализирует тенденцию претворения в жизнь экономических и социально-политических целей власти через антирелигиозную кампанию. Стоит упомянуть также работы исследователей С. А. Шмелёва [Шмелёв, 2015], А. А. Слезина
[Слезин, 2010], Е. М. Лучшева [Лучшев, 2016], которые уделили значительное внимание фактору попыток новой власти сформировать коммунистическую идеологию, мироощущение в обществе в процессе разработки данных кампаний.
Главное отличие «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи» от триады «красных обрядов» семейно-бытового цикла заключается, во-первых, в массовом характере проведения мероприятий, а не сосредоточении торжеств в узком социальном кругу — семье или рабочем коллективе. Во-вторых, в противовес гражданским обрядам семейно-бытового цикла, «Комсомольское рождество» и «Комсомольская пасха» достаточно скоро перестали восприниматься как антиподы христианским праздникам и оказались наделенными чертами стандартизированной антирелигиозной кампании с уклоном в естественнонаучную работу с населением, проводившейся как в городских домах культуры, школах, университетах, так и в деревенских клубах или избах-читальнях.
Кроме того, при анализе первых кампаний «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи» 1922-1924 гг. прослеживается превалирование элементов художественного показа, зрелищно-символических составляющих: факельное шествие комсомольцев с последующим сжиганием чучел «богов», художественно оформленные костюмы и плакаты, спектакли, пение. При этом, если торжественный ход во время «октябрин», «красных свадеб» и «гражданских похорон» являлся способом коллективного эмоционально-чувственного самовыражения или идентификации членов социума, объединенных общей идеологией, то шествие «богов» и «богинь» во время «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи» выполняло функцию высмеивания, дискредитации православно-христианской догматики и обрядности (ЛОГАВ. Р. 2578. Оп. 1. Д. 89. Л. 86–87 об.).
В то же время, как и обрядность семейно-бытового цикла, новые кампании были рассчитаны на молодежь, что было отмечено в некоторых докладах I Районной конференции Общества друзей газеты «Безбожник» (ОДГБ) Выборгского района 1925 г. [ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 3. Л. 29–35] и циркулярном письме о проведении «антирождественской кампании» в 1928 г. (ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 32. Д. 13. Л. 215–218). Зачастую критерием эффективности работы ячейки выступал уровень вовлеченности в антирелигиозные мероприятия «авангарда в борьбе с религией» — женщин и беспартийной молодежи (ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 32. Д. 13. Л. 217).
Новые антирелигиозные торжества задумывались в первую очередь как средство агитационного воздействия на верующее население. Идеолог и один из руководителей советской антирелигиозной кампании Е. М. Ярославский отмечал, что «Комсомольское рождество» устраивалось «не для издевки над верующими, не для озорства, но для того, чтобы помочь миллионам людей, одурманенных религией, освободиться от этого дурмана» (Ярославский, 1932-1935, 14). Другой идеолог антирелигиозной пропаганды, И. И. Скворцов-Степанов, предлагал совместить в одном празднике и «веселье», и «знание», с целью «развенчать евангельский образ Христа и дискредитировать оригинальность христианства» (Степанов, 1922a).
Хронологический период, в который стоит рассматривать историю «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи», затрагивает чуть больше десятилетия с 1922–1924 гг. по 1935 г. Различия в начальной дате обусловлены тем, что, с одной стороны, к 1922 г. относится разработка Скворцовым-Степановым праздничной программы первого «Комсомольского рождества», а с другой стороны, время проведения первой антирождественской и антипасхальной кампании было обусловлено спецификой отдельных регионов и состоянием готовности со стороны местных властей. В отдельных населенных пунктах сельской местности первая кампания была проведена в 1924 г. С 1925 г. происходит отход новой власти от идеи превращения «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи» в полноценную альтернативу религиозным праздникам.
Динамику смены отношения советской власти к празднованию «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи» отражает смена названий кампаний. Так, в период с 1923 по кон. 1924 г. в документации мероприятия фигурируют как «Комсомольское рождество» («Ком-рождество») и «Комсомольская пасха» («Ком-пасха»). С филологической точки зрения обязательная приписка «комсомольское(ая)» перед наименованиями христианских праздников придает обоим выражениям вид оксюморона, что можно трактовать как попытку власти превратить кампании в без-религиозную альтернативу православным христианским праздникам — Рождеству и Пасхе. Заключение названий в кавычки (знак, придающий слову значение категории) свидетельствует об употреблении понятий «Рождество» и «Пасха» в ироническом смысле, о стремлении советской власти обозначить иррациональность сосуществования христианских праздников и марксистской идеологии.
После 1925 г. на смену названиям «Комсомольское рождество» и «Комсомольская пасха» придут «антирождественская» и «антипасхальная» кампании. Данное изменение отражает изначально неоднозначное отношение руководителей РКП(б) в центре и на местах к практическому значению данных форм празднования.
Главным разработчиком «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи» являлся И. И. Скворцов-Степанов, который уже в кон. 1922 г. опубликовал две статьи, излагающие сценарий мероприятий (Степанов, 1922а; Степанов, 1922б).
Первое упоминание о праздновании антирелигиозных кампаний, напоминающих по сценарию «Комсомольское рождество», относится к октябрю 1922 г., когда на территории Украины и Белоруссии были проведены шумные карнавальные шествия [Шмелёв, 2015, 93]. Несмотря на то что Скворцов-Степанов выражал надежду на превращение «Комсомольского рождества» в общий советский праздник, кампания была прежде всего ориентирована на пионеров и комсомольцев, что отражает характер включенных в предварительную программу мероприятий.
Шествие ряженых комсомольцев, облаченных в костюмы жрецов, «богов» и «богинь», было нацелено на «театральность», «зрелищность» производимого на население эффекта, являло собой мощный психологический инструмент воздействия в первую очередь на психику беспартийной молодежи, пораженной необычным форматом кампании. Кульминацией праздника, по замыслу идеолога, должно было стать торжественное сожжение чучел богов и принесение клятв отречения от «религиозного дурмана».
«Комсомольское рождество», сценарий которого на местах соответствовал проекту, предложенному И. И. Скворцовым-Степановым, проводилось не только на территории проживания русскоязычного населения, но и в регионах проживания других этносов: например, в Туркестанской АССР (Ташкент), БНСР (Бухара) и т.д. (см.: [Туль-цева, 1978, 45]). Данный факт свидетельствует о том, что борьба с религией распространялась не только на христианство и иудаизм, но и на ислам.
На фотографиях первого «антирождественского» факельного шествия в Петрограде (Ленинграде) запечатлена толпа молодежи, собравшаяся в центре города, на улице 3-го Июля (Садовая ул.) (ЦГАКФФД СПб. Ед. хр. Др 2540). Согласно подписям на фотокарточках, съемка произведена 1 января 1923 г., т.е. примерно в середине «праздничной» недели. На другом снимке, запечатлевшем «антирождественскую» демонстрацию 6 января 1923 г., изображены комсомольцы на грузовике с факелами в руках (ЦГАКФФД СПб. Ед. хр. Гр. 4042).
Проведению каждого «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи» предшествовал длительный подготовительный период, в котором принимали участие не только представители молодежи, но и подростки-пионеры. На одном из снимков запечатлены школьники, мастерящие чучело священнослужителя (ЦГАКФФД СПб. Ед. хр. Гр 41329). Хорошо заметно, что на куклу надето подлинное священническое облачение.
Так как программа «Комсомольского рождества» была рассчитана на комсомольскую аудиторию, в крупнейших высших учебных заведениях Ленинграда, культурных домах, клубах, домах просвещения, школах готовились отдельные программы. На фотоснимках, выполненных неизвестными авторами зимой 1923–1924 гг., запечатлены комсомольцы Петроградского Технологического института им. Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов после проведения праздничной антирождественской театральной постановки (ЦГАКФФД СПб. Ед. хр. Др 2539). На другой фотокарточке 23 комсомольца выстроились в ряд на фоне т. н. красного уголка (ЦГАКФФД СПб. Ед. хр. Гр 4039).
Справедливой представляется точка зрения историка А. А. Слезина, указывавшего на недостаточную подготовку пропагандистов к проведению первых кампаний (см.: [Слезин, 2010, 82]). Показательно, что заявление Выборгского районного комитета РКСМ1 в Губернский комитет об изготовлении 1000 билетов на «Комсомольское рождество» было отправлено лишь 20 декабря 1922 г., то есть за 4–5 дней до начала праздника (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 7. Д. 265. Л. 4). В левом верхнем углу прошения ручкой получателя указан ответ от 21 декабря: «Просьбу невозможно удовлетворить», 21/XII-23 г.», что подтверждает тезис о нехватке у Губкомитета материальных средств порой на самые необходимые для проведения кампании позиции. Обращает на себя внимание также внешний вид пригласительного билета, отличающийся низким качеством (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 7. Д. 265. Л. 13).
Опыт крупнейших в РСФСР городов, Москвы и Петрограда (Ленинграда), стал образцом для областных и уездных центров. Указания Скворцова-Степанова получили распространение среди местных пропагандистов-«антирелигиозников» в виде «Методического указателя к „Комсомольскому рождеству“» (ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1281. Л. 136-137). Опираясь на опыт Ленинграда, местные власти Великого Новгорода провели торжественное факельное шествие комсомольцев к площади 9-го Января (Софийской пл.) (ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1281. Л. 126–127).
Как оценивались итоги первого «Комсомольского рождества» представителями местных властей? В партийной среде выявились совершенно разные оценки методов и результатов проведения мероприятия. Так, бывший священнослужитель М. В. Галкин (Горев) назвал массированную антирелигиозную кампанию «штурмом неба» (см.: [Лучшев, 2016, 144]). Емельян Ярославский, симпатизировавший идее закрепления антирождественских и антипасхальных кампаний в общественной практике, тем не менее заявлял, что что в методологии праздника содержался ряд серьезных недочетов (Ярославский, 1925, 7-8). Неодобрительное отношение В. И. Ленина к излишнему увлечению карнавальной, т. е. зрелищно-театральной, стороной праздника, отмечала в воспоминаниях Н. К. Крупская (Крупская, 1964, 194). В словах наркома просвещения А. В. Луначарского открыто читалось презрительное отношение к кампании: «Трудно сказать, чего больше во всем этом — невежества или безвкусицы» [Поповский, 2003, 140].
И даже сам разработчик сценария «Ком-Рождества» на I съезде Союза Воинствующих безбожников в 1925 г. признал идею о проведении безбожного карнавала «заблуждением» (Скворцов-Степанов, 1925, 8), что сыграло решающую роль в практике проведения первой «Комсомольской пасхи». Так, именно это мероприятие отразило произошедшее в программе антирелигиозной кампании изменение — перенос основной программы в стены комсомольских и партийно-профессиональных клубов (см.: [Шахнович, 1961, 624]).
По какой причине большая часть деятелей РКП(б) оказалась настроена против идеи превращения шествия ряженых «богов» в постоянную практику? Некоторые исследователи отмечали на примере таких регионов, как Центральная Россия и Поволжье, что поведение комсомольцев включало и откровенно провокационные действия: разгром православных храмов, срыв рождественских богослужений, массовые сожжения икон на площадях (см. подр.: [Баланцев, 2008, 59; Слезин, 2010, 84–85]). Предположительно, вследствие этого во многих населенных пунктах РСФСР возникла угроза социального раскола в обществе, обеспокоившая руководителей РКП(б).
Согласно принятой в апреле 1923 г. резолюции XII съезда РКП(б), осуществлялся переход к методам углубленной пропаганды, не предполагавшим «оскорбление чувств верующих» в открытую (Двенадцатый съезд РКП(б), 1968, 715). На основании этого документа в сценарий Скворцова-Степанова был внесен ряд корректировок. Главное изменение в принципах проведения будущей кампании «Комсомольской пасхи» состояло в проведении большей части программы мероприятия в стенах комсомольских и партийно-профессиональных клубов (ЦГА ИПД СПб. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 67. Л. 27; ВОАНПИ. П. 1934. Оп. 1. Д. 56. Л. 1-3; П. 1012. Оп. 1. Д. 34. Л. 76). Однако за пределами крупных городов зрелищные формы праздника бытовали на протяжении более длительного периода. Так, согласно фотокарточке, запечатлевшей празднование Первого мая и «Комсомольской пасхи» в Череповце, участники, передвигавшиеся на автомобиле, переоделись в костюмы священнослужителей, банкиров и европейских промышленников (ВОАНПИ. П. 9332. Оп. 1. Д. 2063. Л. 1).
Повышается внимание к коллективному творчеству в процессе подготовки к торжеству: к участию в главном вечере привлекались различные клубные, школьные кружки, которым отводилось центральное место в подготовительной работе (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 3. Л. 33; Ф. 4591. Оп. 13. Д. 1225. Л. 14).
С 1925 г. научная пропаганда атеизма начинает играть решающую роль в борьбе с религией, а «антирождественская» и «антипасхальная» кампании становятся лишь частью проводимой РКП(б) линии. Центральным компонентом как в городской, так и в сельской среде становится постановка естественнонаучных и религиоведческих докладов. При подготовке активно использовались газеты «Безбожник», «Безбожник у станка» и т. д., кино, театр (ЦГА СПб. Ф. 6392 Оп. 1. Д. 3. Л. 30).
Методику подготовки к «антирождественской» и «антипасхальной» кампаниям отражают выпускавшиеся к началу каждой кампании сборники «Комсомольское рождество» и «Комсомольская пасха» (Комсомольская пасха (Тифлис), 1924; Комсомольская пасха (Бахмут), 1923; Комсомольское рождество (Тула), 1923; Комсомольская пасха (Москва), 1923; Антирождественский сборник, 1933). В процессе сравнения брошюр было выявлено, что программа мероприятия в разных регионах не имела существенных различий. Предполагалось, что сценарий будет включать широкий спектр мероприятий: постановку спектаклей и инсценировок атеистического содержания, чтение докладов, проведение естественнонаучных и исторических семинаров, демонстрацию кинофильмов с антирелигиозным содержанием. Теоретические данные сборников подтверждаются документальными сведениями: так, например, согласно отчетам о проведении «антипасхальной» и «антирождественской» кампаний за период с 1923 по 1930 гг. Ленинградского губернского Союза безбожников, в программу входили все перечисленные в сборниках мероприятия (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 3. Л. 40–41; Д. 6. Л. 14-16; Ф. 4591. Оп. 32. Д. 13. Л. 215-218; Оп. 13. Д. 1225. Л. 14-15). Отдельные программы готовились в клубах, школах, культурных домах, пионерских базах и пр.
В городской среде для разных групп населения проводились посещения выставок, экскурсий, связанных с вопросами здравоохранения, этнографии, религиоведения. Так, например, в Ленинграде для взрослых и детей устраивались тематические занятия в Эрмитаже, Русском музее, Музее здравоохранения, Центральном антирелигиозном музее и т. д. (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 6. Л. 14–16). Иногда в крупные города приезжали набранные в сельской местности группы детей и подростков, что помогало обогатить антипасхальную и антирождественскую программы для деревенских жителей (ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 13. Д. 1225. Л. 14–15, 21–22).
Популярностью пользовались проводимые в стенах высших учебных заведений, клубов и домов культуры научные диспуты, на которых пропагандисты-«антирели-гиозники», университетская профессура вступали в полемику с оппонентами из круга духовенства (чаще всего обновленцами). Тот факт, что за период антипасхальной кампании 1926 г. научные диспуты проводились четыре раза, а посетило их около 1300 человек (ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 13. Д. 1225. Л. 14–16), доказывает, что в 1920-е гг. население проявляло живой интерес к вопросам религии и атеизма.
В городах программа включала достаточно широкий спектр мероприятий. На примере числа посетителей, обслуженных в течение ленинградской антипасхальной кампании 1929 г., было установлено, что самой высокой популярностью пользовались театральные постановки (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 3. Л. 45), научные диспуты и киносеансы. Это может объясняться тем фактом, что бесплатные билеты на посещение кинотеатра и концертов считались необычным явлением для общества в 1920-е гг. В сельской местности по-прежнему оставались популярными карнавалы: так, например, в Боровичском округе Ленинградской области в рамках антирождественской кампании 1930 г. были проведены молодежные и детские карнавалы (ЦГА СПб. Ф. 7444. Оп. 15. Д. 69. Л. 102–105).
Программа «антирождественской» и «антипасхальной» кампаний была направлена на борьбу с «религиозным дурманом» не только среди православных христиан, но и среди представителей иных конфессий, национальных меньшинств. Так, согласно плану работы Выборгского райсовета Союза воинствующих безбожников, черновой вариант сценария «Ком-рождества» 1928 г. включал в себя отдельный перечень мероприятий для представителей национальных меньшинств на крупных городских предприятиях Ленинграда (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об.). Для финнов, эстонцев, поляков, а также представителей других народов могли проводиться лекции естественнонаучного и антирелигиозного характера, с учетом национальных особенностей (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об.).
1929 г. стал новым рубежом в истории «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи». К концу десятилетия по инициативе отдельных районных партийных ячеек Москвы и Ленинграда предпринимается возвращение к внешним формам борьбы с православными Рождеством и Пасхой (ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 13. Д. 1225. Л. 45), что может объясняться попытками местных властей повысить внимание беспартийных масс к кампании.
Анализ 15 сохранившихся отчетов о проведении «антирождественской» кампании от 1928/1929 г. на рабочих предприятиях Выборгского района г. Ленинграда позволяет выявить круг наиболее распространенных недостатков проведения кампаний подобного рода в городской среде. Самой распространенной проблемой «анти-пасхальной» и «антирождественской» кампаний в Ленинграде было слабое местное руководство (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 2. Л. 55-55 об.; Д. 11. Л. 78-79, 101-102). Некоторые предприятия выразили пожелание создать курсы подготовки докладчиков и организаторов к антирелигиозной работе, что отражает проблему неподготовленности агитаторов-безбожников к ведению планомерной антирелигиозной работы (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 11. Л. 59-60). Сложность представлял и недостаток лекторов — как отмечали анкетируемые представители заводов, в некоторых случаях приглашение докладчиков являлось платным, и коллективы маломасштабных предприятий могли позволить себе провести в рамках кампании не более 1–2 лекций (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 11. Л. 76–77, 90–91). Но даже приглашение докладчиков за плату представляло проблему из-за их недостатка (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 11. Л. 97-98) или слабой подготовки к выступлению (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 11. Л. 103–104).
Попытки решения проблемы подготовки «антирелигиозников» получили выражение в массовом создании в 1928-1929 гг. в СССР рабочих безбожных «техникумов», не имевших какой-либо единой программы — учебные планы создавались на местах. Время обучения также было разным. 11 октября 1929 г. в газете “The New York Times” была опубликована статья об открытии в Москве и Ленинграде первых Антирелигиозных университетов Штс New York Times, 1929, 6). Согласно опубликованной Центральным комитетом Союза воинствующих безбожников программе обучения, предполагалось чтение лекций по естественным наукам, истории большевистской партии и основам советского государственного права (НА ГМИР. Ф. 29. Оп. 1. Д. 167. Л. 19-21). В 1930 г. первое централизованное Ленинградское учебное заведение для «антирелигиозников» было реорганизовано как двухгодичное (ЛОСПС, 1931, 2). Фотографическое изображение выпускников первого потока свидетельствует о значительной заинтересованности власти в пополнении кадров «антирелигиозников» (ЦГАКФФД СПб. Ед. хр. Гр 57102; РГАКФД. Ед. хр. № 237106).
Другая проблема организации «антирождества» и «антипасхи» заключалась в недостаточном обеспечении населения атеистической литературой. Данная проблема особенно прослеживалась в сельской среде (ВОАНПИ. П. 1930. Оп. 7. Д. 113. Л. 1–2; П. 8026. Оп. 1. Д. 8. Л. 26; ЛОГАВ. Р. 1397. Оп. 1. Д. 2. Л. 59–60; Р. 232. Оп. 3. Д. 221. Л. 208-212) и не являлась сугубо характерной для подготовки к «Комсомольскому рождеству» («антирождеству») или «Комсомольской пасхе» («антипасхе»): она лишь отражала то положение, в котором пребывала в период 1920-х гг. антирелигиозная пропаганда в целом. Ряд документов свидетельствует об активных попытках решить проблему обеспечения литературой на местах, в том числе в сельской местности, за пределами Петрограда (Ленинграда). Так, на основании постановления Череповецкой губернской комиссии РЛКСМ2 по проведению «Комсомольского рождества» во все уездные комитеты (укомы) посылается требование о закупке литературы для деревенских ячеек на сумму 30 руб. (ЦГА ИПД СПб. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 68. Л. 72). Губернским комитетом (губкомом) РЛКСМ были также разосланы списки «книжек, которые должен прочесть каждый комсомолец» за зиму 1924–1925 гг. (ЦГА ИПД СПб. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 68. Л. 74).
В отчетах некоторых предприятий отмечалась проблема прогулов в антирелигиозный торжественный вечер (в протоколе указана дата 27 декабря 1928 г.). Однако в целом в большинстве случаев количество пропусков рабочего дня по неуважительной причине не являлось серьезным пунктом осложнения работы кампании. Следует отметить, что для заводов, где на антирелигиозных вечерах присутствовало до 1500–3200 чел. (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 11. Л. 93–94), число пропусков в 15–30 чел. являлось лишь малым процентом от общего количества участников кампании. Примечательно, что число прогулов в непосредственно праздничные дни, указанное отдельными заводами в качестве дополнительного, возрастало и превышало 60–70 чел. (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 11. Л. 59–60).
Как в Петроградской (Ленинградской), так и в Новгородской и Череповецкой губерниях не редкостью было и появление пьяных граждан на маскарадах, выступлениях докладчиков, собраниях и спектаклях (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 1. Л. 22). Иногда появление на таком вечере в нетрезвом состоянии оканчивалось исключением из РКП(б) или отстранением от должности (ЦГА СПб. Ф. 6392. Оп. 1. Д. 3. Л. 29–35).
В качестве основной проблемы в протоколах заседаний, отчетах об антирелигиозной работе не только в Ленинграде, но и в областных округах неоднократно отмечалась слабая посещаемость мероприятий кампании беспартийными массами, «невнимание к материалу» выступлений (ЛОГАВ. Р. 350. Оп. 1. Д. 11. Л. 14).
В некоторых школах на Правом берегу Невы (в данном районе, в целом, отмечался низкий уровень антирелигиозной работы) были случаи, когда школьники уходили с антипасхального вечера в «Скорбященскую церковь, расположенную напротив, со словами „там [в школе] скучно — пойдем туда [в церковь]“» (ЦГА СПб. Ф.7444. Оп. 15. Д. 69. Л. 170-171). Отмечались случаи «выхода школьников из „октября“ (октябрят. — К. Т. ) для того, чтобы иметь возможность пойти в церковь» (ЦГА СПб. Ф. 7444. Оп. 15. Д. 69. Л. 170–171). На I конференции ОДГБ Выборгского района (май 1925 г.) предлагалось даже исключить из программы антирелигиозного вечера танцы, как сугубо развлекательный элемент, усугубляющий «и без того невнимательное отношение масс к докладам» (ЦГА СПб. Ф. 7444. Оп. 15. Д. 69. Л. 33–34).
К 1934-1935 гг. относится появление понятий антирождественский или антипас-хальный «поход». На одной из фотокарточек 1-й пол. 1930-х гг. экскурсанты-ударники завода «Красное знамя» запечатлены у входа в располагавшийся в Исаакиевском соборе Антирелигиозный музей со стягом «Антипасхальный поход», отражающим богоборческий настрой участников мероприятия (РГАКФД. Ед. хр. № 251296).
Таким образом, так же как и обряды семейно-бытового цикла, «Комсомольское рождество» и «Комсомольская пасха» отражали «протест красной молодежи, уже освободившейся от суеверий, против своих отцов, еще коснеющих в парах религиозного дурмана» (Комсомольское Рождество, 1925, 7), являясь «штурмом двухтысячелетних рождественско-религиозных позиций». Однако ни «Комсомольскому рождеству», ни «Комсомольской пасхе» не удалось стать празднествами, которые служили бы безрелигиозной альтернативой православным Рождеству Христову и Пасхе.
К нач. 1930-х гг. прослеживается тенденция превращения «Комсомольской пасхи», как и «Комсомольского рождества», в категорию антирелигиозных кампаний, проводившихся в контексте борьбы с алкоголизмом, курса ликвидации безграмотности, но главным образом — кампании хозяйственного и промышленного развития государства. Уже в 1930/1931 гг. в программном документе «антирождественской кампании» отмечалось, что мероприятие должно было пройти под лозунгом решения задач, обусловленных «боевой программой» экономического развития страны в 1931 г.: «обеспечение развертывания полным ходом строительства крупнейших индустриальных гигантов (Магнитогорск, Кузнецкстрой, Уралмашинострой и т. д.), переход не менее 50% всех крестьянских хозяйств на путь коллективной борьбы за всеобщее начальное обучение, за сплошную ликвидацию неграмотности (НА ГМИР. Ф. 29. Оп. 1. Д. 154. Л. 2).
«Комсомольская пасха» проводилась в совокупности с первомайскими празднествами не только по причине приблизительного календарного совпадения, но и в контексте демонстрирования «критериев» коммунистической идеологии — участия трудящихся в строительстве нового строя, противопоставляемого «устаревшим» нормам дореволюционной действительности. Первомайские шествия хотя и напоминали по своей форме пасхальные крестные ходы, но показывали публичный отказ от «праздности» Пасхи. Публикация в московских «Известиях» сведений о «массовом» отказе рабочих предприятий от отдыха в дни православной Пасхи в 1932 г. (НА ГМИР. Ф. 2. Оп. 26. Д. 147. Л. 11 об.) противопоставляет ценности дореволюционного общества и советского государства. Не означало ли это использования «антипасхи» как платформы для транслирования сопутствующих новому строю ценностей, мотивирования трудящихся масс на решение насущных экономических задач власти?
Следует привести причины ослабления интереса к разработке «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи» к середине-концу 1920-х гг. Во-первых, методы сухой научной пропаганды не решали проблемы по коренному преобразованию быта. И. И. Скворцов-Степанов отмечал как явление «процветание кустарничества» в антирелигиозной работе, при котором каждой ячейке на местах приходилось самостоятельно, с нуля «проделывать черновую работу едва ли с азов» (НА ГМИР. Ф. 29. Оп. 1. Д. 154. С. 484). Борьба же с религиозными обрядами требовала от пропагандиста-комсомольца не только знакомства с марксистской антирелигиозной литературой, но и углубленных знаний по естественным наукам, истории религии и философии (НА ГМИР. Ф. 29. Оп. 1. Д. 154. С. 491). В «полевых условиях» 1920-х гг., когда на подготовку антирелигиозных кадров выделялось крайне ограниченное время, проведение углубленной антирелигиозной пропаганды не представлялось возможным. Карнавальные шествия, которые привлекали как сельское, так и городское население своей неординарностью, несли угрозу усугубления социального раскола в обществе.
Попытка возвращения к упрощенным методам пропаганды, наблюдавшаяся на рубеже 1920–1930-х гг. отражает усиление радикального крыла в кругу партии большевиков и кризисное состояние антирелигиозной пропаганды.
Во-вторых, ослабление интереса к обрядотворческой кампании было вызвано кризисом антирелигиозной пропаганды, который отмечается в документах не только городских, но и сельских ячеек РКП(б) (ВОАНПИ. П. 1939. Оп. 1. Д. 17. Л. 22–28).
Проблемы нехватки достаточного числа кадров пропагандистов-«антирелигиозни-ков» (ВОАНПИ. П. 7274. Оп. 1. Д. 11. Л. 6) и «почти полного отсутствия какой-либо материальной базы» в распоряжении местных ячеек Союза воинствующих безбожников не были преодолены к кон. 1920-х гг. и имели следствием торможение работы (ВОАНПИ. П. 1939. Оп. 1. Д. 17. Л. 24–25).
В-третьих, к кон. 1920-х гг. в СССР сохраняется высокий процент верующего населения, что подтверждается не только свидетельством советского историка Л. А. Тульцевой [Тульцева, 1978, 45], но и рядом источников. Именно в 1926– 1928 гг. в периодической печати и круге документов отмечается усиление сектантского движения в отдельных уездах Череповецкой (ВОАНПИ. П. 1939. Оп. 1. Д. 17. Л. 24) и Ленинградской губерний (ЛОГАВ. Р. 1397. Оп. 1. Д. 2. Л. 51–57; НА ГМИР. Ф. 2. Оп. 26. Д. 136. Л. 51; Д. 135. Л. 10 об., 14 об., 67) к 1926–1927 гг., то есть тем самым констатируется сохранение религиозных настроений среди населения данных территорий.
В-четвертых, во 2-й пол. 1920-х гг. наблюдается «значительное снижение внимания к вопросам антирелигиозной пропаганды» со стороны как парторганизаций, так и комсомола, профсоюзов, печати, что подтверждается сведениями из отчетов об антирелигиозной пропаганде, протоколов заседаний по культурномассовой работе (ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3723. Л. 40–40 об., 44; ЛОГАВ. Р. 1397. Оп. 1. Д. 2. Л. 50–54; ВОАНПИ. П. 1930. Оп. 7. Д. 104. Л. 94–97). В некоторых крупнейших газетах, издававшихся в Ленинграде и Москве, отмечались слабая организация антирелигиозной работы по всей Северо-Западной (Ленинградской) области в целом (НА ГМИР. Ф. 2. Оп. 26. Д. 135. Л. 14 об.), сосредоточение деятельности ячеек на «изучении развития религиозных движений и накоплении громадных папок циркуляров и отчетных трудов» (НА ГМИР. Ф. 2. Оп. 26. Д. 135. Л. 10 об.).
Ослабление интереса советской власти к обрядотворческой кампании в рамках курса антирелигиозной пропаганды к кон. 1920-х гг. можно объяснить также фокусировкой государственной политики на курсе по сокращению отставания советской промышленности и народного хозяйства от экономики развитых капиталистических государств. Процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР, наблюдавшийся в 1929–1941 гг., стал причиной принятия декрета Совнаркома «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» от 26 августа 1929 г. (см.: [Уфимцева, 2018, 134]). Пасха и Рождество, которые приравнивались к обычным рабочим дням, уже в кон. 1920-х гг. рассматривались в рамках данного курса в первую очередь как праздники, препятствующие наращиванию экономического потенциала государства и требующие принятия жестких административных мер против прогулов. Данный тезис подтверждается многочисленными газетными заметками о борьбе «непрерывки» с «рождественскими» и «пасхальными прогулами» (НА ГМИР. Ф. 2. Оп. 26. Д. 141. Л. 8 об.). Кроме того, сам разработчик «Комсомольского рождества» И. И. Скворцов-Степанов отмечал, что «карнавалы, вероятно, займут видное место в наших развлечениях, в наших увеселениях, в устройстве наших советских праздников^ когда у нас будет денег побольше, когда мы еще дальше выберемся из разрухи, когда мы еще дальше пойдем в экономическом строительстве» (Скворцов-Степанов, 1959, 489–490).
Переход к непрерывной рабочей неделе сопровождался массовой кампанией по закрытию и сносу православных храмов (см. подр.: [Козлов, 2012, 127–134]). Таким образом, к 1935 г. происходит окончательный переход от обрядотворческой кампании антирелигиозной пропаганды к административно-принудительным мерам.
Список литературы «Долой Пасху!»: кампания «комсомольской Пасхи» в советской антирелигиозной пропаганде (к столетию со дня проведения первой антипасхальной кампании: 1923-2023)
- Антирождественский сборник (1933) — Антирождественский сборник 1933–1934 гг. Л.: Тип. «Ленингр. правда», 1933. 72 с.
- ВОАНПИ — Вологодский областной архив новейшей политической истории. П. 1012. Оп. 1. Д. 34. Л. 76; П. 1930. Оп. 7. Д. 113. Л. 1–2; П. 1934. Оп. 1. Д. 56. Л. 1–3; П. 1939. Оп. 1. Д. 17. Л. 22–28; П. 7274. Оп. 1. Д. 11. Л. 6; П. 8026. Оп. 1. Д. 8. Л. 26; П. 9332. Оп. 1. Д. 2063. Л. 1.
- ГАНИНО — Государственный архив Новейшей истории Новгородской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1281. Л. 136–137; Д. 3723. Л. 40–40 об.
- Двенадцатый съезд РКП(б) (1968) — Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 года: Стеногр. отчет. М.: Политиздат, 1968. 905 с.
- Комсомольская пасха (Тифлис) (1924) — Комсомольская пасха: Сб. материалов и ст. Тифлис: «Юношес. правда» ЦК СМ Грузии, 1924. 42 с.
- Комсомольская пасха (Бахмут) (1923) — Комсомольская пасха / КП (б) Украины. Бахмут: Тип. Книгоизд-ва «Донбас», 1923. 16 с.
- Комсомольское рождество (Тула) (1923) — Комсомольское рождество: Сб. ст. Тула: 1‑я тип. Тулгубсовнархоза, 1923. 38 с.
- Комсомольская пасха (Москва) (1923) — Комсомольская пасха: (Сб.). М.: Красная новь, 1923. 75 с.
- Комсомольское Рождество (1925) — Комсомольское Рождество: Сборник материалов к празднованию комсомольского рождества / Под общ. ред М. Лисовского. Л.: Госиздат, 1925. 182 c.
- Крупская (1964) — Крупская Н. К. Из атеистического наследия. М.: Наука, 1964. 307 с.
- ЛОГАВ — Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге. Р. 232. Оп. 3. Д. 221. Л. 208–212; Р. 350. Оп. 1. Д. 11. Л. 14; Р. 1397. Оп. 1. Д. 2. Л. 59–60; Л. 50–57; Р. 2578. Оп. 1. Д. 89. Л. 86–87 об.
- ЛОСПС — ЛОСПС [Ленинградский областной совет профессиональных союзов]. Рабочий Антирелигиозный Университет им. И. И. Скворцова-Степанова. Отчет за 1930–1931 уч. год. Л., 1931. 104 с.
- НА ГМИР — Научный архив Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга. Ф. 2. Оп. 26. Д. 135. Л. 10 об., 14 об., 67; Д. 136. Л. 51; Д. 141. Л. 8 об.; Д. 147. Л. 11 об.; Ф. 29. Оп. 1. Д. 154. Л. 2; Д. 167. Л. 19–21.
- РГАКФД — Российский государственный архив кинофотодокументов. Ед. хр. № 251296; Ед. хр. № 251296.
- Скворцов-Степанов (1925) — Скворцов-Степанов И. И. Основные течения в антирелигиозной пропаганде. М.: Безбожник, 1925. С. 8.
- Скворцов-Степанов (1965) — Скворцов-Степанов И. И. Избранные атеистические произведения. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 568 с.
- Степанов (1922a) — Степанов И. «„Комсомольское рождество“ или Почему бы нам не справлять религиозные праздники» // Правда. 1922. 15 нояб. С. 2.
- Степанов (1922б) — Степанов И. Еще о комсомольских святках // Правда. 1922. 13 дек. С. 3.
- Троцкий (1923) — Троцкий Л. Д. Вопросы быта: эпоха культурничества и ее задачи. М.: Красная Новь, 1923. 167 с.
- ЦГА ИПД СПб — Центральный государственный архив историко-политических документов. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 67. Л. 27; Д. 68. Л. 72, 74.
- ЦГАКФФД СПб — Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Ед. хр. Др 2540; Ед. хр. Гр. 4042; Ед. хр. Гр 41329; Ед. хр. Др 2539; Ед. хр. Гр 4039.
- ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 1000. Оп. 7. Д. 265. Л. 4; 13; Ф. 6392. Оп. 1. Д. 3. Л. 29–35, 40–41, 52–54; Д. 6. Л. 14–16; Ф. 4591. Оп. 32. Д. 13. Л. 40–41, 215–218; Ф. 4591. Оп. 13. Д. 1225. Л. 14–15; Ф. 6276. Оп. 51. Д. 123. Л. 21–22, 63.
- Ярославский (1925) — Ярославский Е. М. Как вести антирелигиозную пропаганду. М.: Красная Новь, 1925. 96 с.
- Ярославский (1932–1935) — Ярославский Е. М. Против религии и церкви. М.: ОГИЗ, 1932–1935. Т. 3. 563 с.
- The New York Times (1929) — Reds Open First Anti-Religious Universities in Moscow and Leningrad to Train Atheists // The New York Times. 1929. 11 oct. P. 6.
- Баланцев (2008) — Баланцев А. В. Антирелигиозная деятельность комсомола (1918–1925 гг.): дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2008. 253 с.
- Брудный (1968) — Брудный В. И. Обряды вчера и сегодня. М.: Наука, 1968. 200 с.
- Козлов (2012) — Козлов В. Ф. К вопросу об изучении и издании документов о судьбах культурного наследия Русской православной Церкви в 1918–1930‑е годы // Вестник РГГУ. 2012. № 6. С. 127–134.
- Лучшев (2016) — Лучшев Е. М. Антирелигиозная пропаганда в СССР: 1917–1941 гг. СПб.: ГМИР, 2016. 364 с.
- Поповский (2003) — Поповский М. А. Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. СПб.: Держава, 2003. 509 с.
- Поспеловский (1995) — Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика, 1995. 509 с.
- Слезин (2010) — Слезин А. А. Антирелигиозные праздники 1920‑х гг. // Вопросы истории. 2010. № 12. С. 82–91.
- Тульцева (1978) — Тульцева Л. А. Комсомольские, антирелигиозные [праздники и обряды 20‑х годов] // Наука и религия. 1978. № 10. С. 44–45.
- Шахнович (1961) — Шахнович М. Н. Ленин и проблемы атеизма. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 671 с.
- Шкаровский (2010) — Шкаровский М. В. История Русской Православной церкви в XX веке. СПб.: Изд. дом «Вече», 2010. 478 с.
- Шмелёв (2015) — Шмелёв С. А. Красное «Комсомольское рождество» и проблема нового быта в начале 1920‑х гг. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 3. С. 92–99.
- Уфимцева (2018) — Уфимцева Е. И. Практики атеистической социализации в контексте формирования советского общества // Известия Саратовского университета. 2018. Т. 18. Вып. 2. С. 133–137.