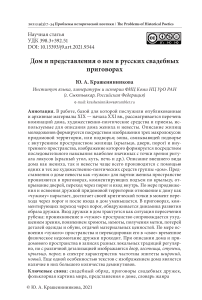Дом и представления о нем в русских свадебных приговорах
Автор: Крашенинникова Юлия Андреевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе, базой для которой послужили опубликованные и архивные материалы XIX - начала XXI вв., рассматривается перечень номинаций дома, художественно-поэтические средства и приемы, используемые для описания дома жениха и невесты. Описание жилищ молодоженов формируется посредством изображения трех макролокусов: придомовой территории, или подворья; зоны, связывающей подворье с внутренним пространством жилища (крыльцо, двери, порог) и внутреннего пространства, изображение которого формируется посредством последовательного называния наиболее значимых с точки зрения ритуала локусов (красный угол, куть, печь и др.). Описание внешнего вида дома как жениха, так и невесты чаще всего производится с помощью одних и тех же художественно-поэтических средств группы «дом». Представления о доме невесты как «чужом» для партии жениха пространстве проявляются в приговорах, комментирующих подъем по крыльцу, открывание дверей, переход через порог и вход внутрь. По мере продвижения и освоения дружкой придомовой территории отношение к дому как «чужому» нарастает, достигает своей критической точки в момент перехода через порог и после входа в дом уменьшается. В приговорах, комментирующих переход через порог, обнаруживается динамика развития образа дружки. Вход дружки в дом трактуется как ситуация пересечения рубежа: проникновение в «чужое» пространство сопровождается ухудшением зрения, появлением хромоты, немоты, получения метки, потерей деталей одежды и обуви, отдачей материальных ценностей. По мере освоения «чужого» пространства и перекодировки его в «свое» временное физическое недомогание дружки проходит. При описании дома и придомового пространства в записях разных локальных традиций регулярно, но с различной детализацией изображаются двор, лестница, ступени, крыльцо, порог ; в спектре характеристик частотны эпитеты широкий, новый . Еще одной особенностью текстов с изображением дома является наличие в них большого количества деминутивов.
Свадебный обряд, приговоры свадебных дружек, фольклорная картина мира, представления о доме, словарь жанра
Короткий адрес: https://sciup.org/147236176
IDR: 147236176 | УДК: 398.3+392.5 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9344
Текст научной статьи Дом и представления о нем в русских свадебных приговорах
Н астоящая работа посвящена проблеме описания дома — одного из ключевых символов традиционной культуры, т. е. фрагментов мифопоэтической картины мира, реализующихся в конкретных фольклорных жанрах. В статье анализируются представления о доме, которые нашли поэтическое воплощение в русских свадебных приговорах — жанре свадебного обряда. Приговоры описывают преимущественно мужскую сторону ритуала (действия, эмоциональные переживания, «портреты» участников). Однако поскольку дружка комментирует обряд с момента сбора жениха в его доме до первой брачной ночи (в ряде локальных традиций активна роль дружки во второй день свадьбы, а иногда она даже выходит за рамки собственно обряда), включая перемещения свадебного поезда, действия участников свадьбы в доме невесты до венца и доме жениха до и после венца, в жанре приговоров получают развитие многие сюжеты, связанные и с женской линией ритуала.
В работе используются опубликованные и архивные записи фольклорных текстов, сделанные в XIX — начале XXI в. на территории Русского Севера, центральной России, Поволжья, Сибири. Обращение к материалам разных локальных традиций, с одной стороны, позволяет выявить перечень параметров, по которым формируется описание дома в жанре приговоров, с другой — показывает региональные и локальные различия в выборе стилистического репертуара. Все это в конечном счете выводит на проблему составления сло-варя1 лексем, обозначающих собственно дом и конструктивные элементы внешнего и внутреннего пространства, — список номинаций с доминантным и периферийным значениями, а также репертуар поэтических средств одного фольклорного жанра.
Как и многие другие фрагменты мифопоэтической картины мира, представления о доме формируются набором признаков, анализ конкретных реализаций которых в различных фольклорных жанрах «способствует установлению парадигматики различительных признаков, <…> а также позволяет поэлементно соотнести систему представлений, свойственную одному жанру, с представлениями, релевантными иным жанровым структурам» [Невская: 106].
В русских свадебных приговорах описание дома (как жениха, так и невесты) формируется посредством изображения прилегающего к нему пространства (придомовая территория, или подворье), зоны, связывающей подворье с внутренним пространством жилища (крыльцо, двери, порог) и собственно внутреннего пространства дома, при описании которого упоминаются или изображаются наиболее значимые с точки зрения ритуала локусы (передний угол, женский угол, печь, полати, и проч.).
В приговорах придомовая территория невесты и жениха — подворье 2 — практически повсеместно называется широкий двор : [у невесты] «Благословите нам въехать на широкий двор…» ( Шейн : 730), [у жениха] «Благословите меня <…> на широкий двор сойти» ( Киреевский : 78) и мн. др. В числе единичных отметим сочетание боярский двор ( Зеленин : 28). Регулярно в описании подворья дома невесты встречается упоминание о наличии на его территории одного или нескольких дубовых / точеных столбов с золотым (вар.: золоченым, злаченым ) кольцом для привязывания лошадей: «Есь ли широкой двор, середь широкова двора дубовой столб, у дубо-вова столба золотое кольцо?» ( Гладких : 59), «У нового свата / Столбики-то точены, / Колесики золочены…» (СыктГУ: 3162-26, Нагорский р-н Кировской обл., 1998 г.) и мн. др.
Вход на подворье осуществляется через ворота , характеристика которых формируется из эпитетов, указывающих на качество материала ( сосновые, дубовые, кленовые ), способ изготовления или оформления ( тесовые, решетчаты, крашеные, (с)колоченые ), размер ( широкие ), конструктивные особенности ( створчатые ), имплицитно подчеркивается ценность, крепость, надежность ( золоченые, хрустальны, чугунные ). Самым частотным эпитетом является широкие , дважды употребляются решетчатые, колоченые, золоченые, дубовые ;
остальные отмечены по одному разу. В ряде текстов упоминаются конструктивные детали ворот: вереи 3 точеные (ед. вар.: стоячие, гранячие ), подворотни 4 / подворотенки дубовые (вар.: позолоченные, стеклянчатая, хрустальная, кленовая, сосновые ), запоры булатные (ед. вар.: железные, кленовы, дубовы ), замки висячие (вар.: булатны, турецкие, немецкие, дорогие, золотые ), скобы булатные (вар.: полуженные, хрустальные, медные, серебряная, золоченая, белого железа немецкого ), крюки укладны (вар.: серебряные, железные ), петли ветляные , например: [у невесты] «Золотые ключики выносили, / Висячие замочки отпирали, / Кленовые ворота отворяли, / Позолочену подворотенку вынимали…» (РГО, р. 10, оп. 1, ед. хр. 50, л. 8, Вятская губ., 1893 г.), [у невесты] «воротечки решетчатые растворял, подворотенку стеклянчатую вынимал, на широкий двор въезжал» (РГО, р. 18, оп. 1, ед. хр. 19, с. 4, Нерехтский у. Костромской губ., 1853 г.) и др.
Вариативность качественных характеристик элемента «ворота» весьма высока, перечень дополнительных конструктивных деталей пространен — совокупно все это делает локатив заметной и выразительной точкой при описании первого макролокуса. Собственно на фоне лаконичных и единообразных зарисовок подворья этот элемент становится значимым в изображении прилегающего к дому пространства и воспринимается как первое препятствие на пути к невесте.
Дом номинируется в текстах приговоров одинаково независимо от принадлежности его роду жениха или невесты. В текстах регулярны сочетания благодатный дом, высокий терем , в числе единичных, по большей части использующихся для характеристики дома невесты, зафиксированы белые каменные палаты, бела изба, теплый дом, терем златоверхий, хоромы теплые, тепло гренье, новый дом, хоромина присвет-лая, белая (вар.: деревянная ) горница, широкий терем . Образ дома может формироваться с помощью нескольких сочетаний: «новая горенка, светлая светлица», «новая светлая светлица, новая горница», «светлая гридня, благодатный дом», «светлая светлица, белая столовая горница» и др.
В вятско-вологодских записях получает распространение формульное описание дома невесты, в основе которого лежит сравнение деревни или двора с городом, дома невесты — с теремом: «деревня как город, дом как терем»5. Посредством этой формулы и некоторых номинаций (например, хоромина6, терем7) дом невесты предстает как жилое строение большого размера, а художественно-стилистические средства дополняют основное значение семами достатка, состоятельности, обитаемости. Эпитеты светлый, белый, теплый подчеркивают такие свойства дома как обжитость, пригодность для проживания; в этом приговорные изображения дома противопоставляются описаниям дома-гроба, разработанным, в частности, в похоронных причитаниях (в которых он темный, холодный, изолированный и проч. [Невская: 108]). Значение достатка, состоятельности имеют сочетания терема злато-верхие8, благодатный9 дом.
Вместе с тем в описаниях появляются отдельные детали, которые указывают, что дружка попадает в «не свое» пространство: гиперболизированный размер дома, который сравнивается с городом ( «Дом стоит как город, а изба как терем» (СыктГУ: 0401-11, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1988 г.) ) , наличие большого количества комнат как признак чрезмерного достатка ( «терема златоверхие, светлицы-горницы, хоромы теплые» ( Колобов , 60) ) , «фантастическое» свечение внутри дома и погасшая печь, покрытая снегом и обдуваемая ветром:
«Вошел я в новую светлицу, Во всех углах светится. В печке ветер повевает, Сугробы надувает…» ( Ушаков , 1907: 69).
При описании дома невесты и отдельных его элементов обращает на себя внимание регулярность эпитета новый (широкий новый двор, высок нов терем, новые сени, новая горница, нова светла светлица и др.). Подобные номинации указывают на корреляцию входа дружки в дом невесты с обрядом перехода в новый дом, при котором вход осуществлялся, как правило, «по старшинству»: первый вошедший в новый дом человек снимает противопоставление своего — чужому, освоенного — неосвоенному, делая пространство освоенным за счет того, что сам должен умереть (см. об этом: [Байбу-рин: 133]). В приговорах, как увидим ниже, вход в дом невесты для дружки представляет собой опасное, влекущее материальный и физический ущерб действие, что выражается в описании потери дружкой денег, зрения, голоса, слуха и проч.
Лестница, ступени, крыльцо — регламентированный вход в дом. Описание ведущей на крыльцо лестницы реализуется в нескольких вариантах. В первом лестница, ступени перечисляются в общем списке объектов, которые встречаются дружке на пути к невесте. По большей части используются эпитеты, уточняющие качество материалов, способ изготовления или конструктивные особенности: лесенка (вар.: лесенки) частая, ступенчатая, брусчатая 10, кленовая, тесовая, крутая, калиновая, дубова, решетчата, точена . В изображении ступеней ( частые , крутые, редкие, кленовые, мелкие ) выделяются единичные эпитеты золочены, княженецкие , первый из которых наделен значением богатый, дорогой , с помощью второго подчеркивается предназначение — вход для жениха. В текстах встречаются названия конструктивных элементов лестницы — перильца рессорные (вар.: перилечка точеные ), приступочки 11 кленовы (вар.: брусовые ), балясинки 12 точены, борондучки 13 рубленые, поворенки 14 золоченые : «[у] нашего сватушка, нашего батюшка, лесенка дубова, приступочки кленовы, балясинки точоны» (РГАЛИ, ф. 342, оп. 2, ед. хр. 78, л. 81 об.; Костромской у. Костромской губ., 1902 г.), «Есть ли у этой княгини молодой новобрачной борондучки рубленые, крылечка дубовые, лесенки кленовыя, перилечка точеныя, поворенки золоченыя?» (ГАВО, ф. 4389, оп. 1, д. 401, л. 3 об., Вологодская губ., нач. XX в.).
В числе редких отметим запись 1988 г. из Вилегодского района Архангельской области, в которой описание преодоления дружкой «деревянной», «оловянной», «серебряной» ступеней отсылает к сказочному мотиву путешествия героя в иной мир через три царства:
«На перву лесенку ступаю деревянну, На вторую — оловянную, На третью — серебряную, Выхожу на крутое крыльцо…» (СыктГУ: 0481–77).
Тексты второго варианта получили распространение в отдельных уездах Пермской, Вологодской губерний, также в записях, сделанных на граничащих друг с другом территориях Лузского района Кировской области, Вилегодского района Архангельской области и Прилузского района Республики Коми. Тексты повествуют о пошаговом продвижении дружки («рассерженного князя», «спесивой, гордой свахи») по ступеням и о получении или отдаче выкупа за каждую ступень. В текстах ступени представляют собой препятствие, преодоление которого почти всегда связано с потерей или для рода жениха, или для рода невесты: «Наша сваха спесива, горда, ростом повыше, умом подороже, на первую ступень [ступит] — 100 ру[блей] платит, на вторую ступень ступит — 200 ру[блей] платит, на третью ступень ступит — вашему дому не будет подъему» (РГАЛИ, ф. 1420, оп. 1, ед. хр. 39, л. 87 об. — 88, Архангельская обл.)15.
В локальной традиции Костромского уезда Костромской губернии описание лестницы дополняется деталями технологического процесса ее изготовления — весьма редкое описание отдаленно напоминает тексты vita herbae / rei, наделенные магическим продуцирующим значением (сюжет «житие растений и предметов» об изготовлении полотна, хлеба и проч., см.: [Толстой], [Толстая]):
«Подхожу я, друженька, К балясинкам точеныем, К воротечкам сколоченыем, Ко лесенке тесовой, К приступочкам брусовым. На свою пору-время припасли: Лесенка пилой пилилась, Вострым топориком рубилась , Ручки делали,
Ножки бегали» ( Виноградов : 98).
Крыльцо в приговорах красивое, красное, белодубовое, дубовое, высокое, парадное, крутое, крытое; зачастую описывается сочетанием нескольких эпитетов, например «прекрасное, красивое, красное крылечко», «крутое красное крыльцо». Однако самым регулярным для приговоров является сочетание калинов мост, во многих фольклорных текстах символизирующее рубеж, переход между своим и чужим миром16. В единичных текстах упоминаются отдельные конструктивные детали крыльца: «Вхожу я, друженька, на калинов мост, / Мостовиночки калиновы, перекладчики рябиновы…» (ГАКО, ф. 179, оп. 2, д. 69, л. 131, Костромской у. Костромской губ., до 1903 г.).
В приговорах подчеркивается ненадежность, шаткость крыльца: «…шел по лесенке по брусчатой и по калиновому мостику; калинов мостик подгибается, мое сердце не пугается…» ( Киреевский , 79); «Шел я по калиновому мостику: / Мостик гнется, / Дружка все вперед подается…» (СыктГУ: 1803-8, Мурашинский р-н Кировской обл., 1990 г.); «Как пошел дружка по мостику, а мостик подгибается, а дружка все ближе подвигается…» ( Мыльникова, Цинциус : 100). Нахождение дружки на крыльце сопряжено с определенным риском и опасностью и представлено как испытание, что подчеркивается описанием его физического состояния. Тема замерзания дружки в дороге дублируется при изображении входа этого персонажа в дом невесты, ср.:
[описание пути-дороги]
«Ехал, поехал…
Буйным ветром поддувало, Меня морозом подтыкало.
Глаза слипались,
Губы смерзались…» ( Ордин : 91).
[дружка стоит на крыльце]
« …На белодубовом крылечке стоял,
Весь я озяб, весь перезяб… » ( Ордин : 97–98).
Долгое нахождение на крыльце дома, передвижение дружки вверх-вниз по крыльцу является следствием его неправильных ответов на вопросы представителя невесты и маркируется как наказание. Информанты отмечают, что дружки могут стоять на крыльце по два часа, попеременно поднимаясь до верхней ступени и спускаясь до нижней ступени крыльца. Ср.: в записях из Енисейской губернии тема переменного успеха в продвижении воплощается в приговорах при описании перемещения дружки внутри дома невесты:
«…Два шага вперед Дружка ступат, Шаг назад отступат, С ноги на ногу Княжой друженька ступат, Как белый горох рассыпается» ( Ермолаев : 592).
В числе редких отметим записанный в Никольском уезде Вологодской губернии текст, в котором «на мостах на калиновых стоит Спас, Богородица» ( Иваницкий : 486). Описание подъема на крыльцо и встречи на нем с чудесными помощниками отсылает к стилистике заговорно-заклинательных текстов, ср.: с описанием в заговорах пути героя к мифологическому центру и встречи с представителем сакрального пространства или, как пишет С. Г. Шиндин, «конечной инстанцией» — Богородицей и / или Христом [Шиндин: 121].
Двери дома невесты в момент приезда жениха, как правило, закрыты. Зачастую описание дверей дома невесты формируется теми же художественными средствами, что и локатива «ворота». Надежность, прочность, крепость дверей подчеркиваются с помощью эпитетов дубовые , железные, медные ( «Брал дружка храбрый / За скобу булатную, / Отворял дружка храбрый / Дверь дубовую…» ( Логиновский : 66), «Вижу у вас двери медные, вереи железные...» ( Аргентов : 19) ) ; размер — посредством эпитетов широкие , узки ( («Беру я, княжой дружка, двери за скобы / И отворяю широкие двери на пяты» ( Ермолаев : 587) ) . В числе единичных характеристик перечислим притворные (т. е. те, которые закрывают), стеклянные . При описании дверей могут упоминаться конструктивные детали: скобы серебряные (вар.: булатные, хрустальные, медные, золоченые ), вереи железные, гвоздьё полуженное, замки булатны (вар.: золотые ), дужки серебряные, крюки укладны (вар.: сере-бряны, железные ), петли ветляные, иголочки 17 кленовые .
Непременными атрибутами ворот и дверей дома невесты являются металлические (золотые, серебряные, медные) детали, что, с одной стороны, указывает на материальный достаток рода невесты, а с другой — золото является маркером загробного мира, характеристикой чужого пространства [Пропп: 263–264].
Отметим записи из вилегодской локальной традиции, в которых дружка, находясь на крыльце дома невесты, просит ее представителя предоставить жениху вход в дом, соответствующий статусу последнего:
«— Где нам поколотиться: У крылешных дверей Или у банных дверей, Или у стайных дверей? — У стайных дверей.
— Наш жених — не пастух, Стайных дверей не знает. — У банных дверей.
— Наш жених — не поивушка18, Банных дверей не знает.
— У крыльца» ( Крашенинникова : 91).
Для дружки важно, чтобы жениху предложили «крылечные двери». Вход через эти двери или встреча на крыльце маркирует жениха как почетного, ожидаемого гостя и подтверждает его статус. Отказ от нерегламентированного входа в дом (банные, стайные, извозные двери) или извещение невесты о прибытии жениха через «кутное», «(под)порожное» окна дружка объясняет предназначением их для людей, обладающих иным социальным положением. Так, например, в ответной реплике дружки «[Князь] по поткутным19 окошкам не ходит, спасенок20 не сбирает…» (Кузнецов: 27) отражено восприятие кутного окна как «канала» передачи милостыни нищим и как «женского» места в доме [Байбурин: 169]. Актуализация тем нищенства и распределения трудовых обязанностей между мужчиной и женщиной ((«[жених] по подокошечькам не ходит, девушек не смот[рит], не пряха, не тькаха, не нишей человек, из избы в избу с пряже[й] и за милостинима, за спасенькима не ходит» (РГАЛИ, ф. 1420, оп. 1, ед. хр. 39, л. 88, Архангельская обл.)) объясняется особым статусом жениха и «обладания» им исключительно положительными качествами (ср.: круг значений нищенства как социального явления — бедность, ущербность, физическая неполноценность, обездоленность, безбрачие и проч. [Левкиевская]). Реплика дружки из Сольвычегод-ского уезда Вологодской губернии ((жених «мышёвыми тропами не бегает, собачьим лазьём не лазит…», (Ордин: 90)) отсылает к заговорам «на остуду между мужем и женой» и отворотам в той их части, в которой описывается путь заговаривающего: он проходит «не дверьми, не воротами, а дымным окном да подвальным бревном» (Русские заговоры, 122, № 246), «из избы не дверьми, из двора не воротами, собачьими дырами, тороканьими тропами» (РГО, р. 1, оп. 1, ед. хр. 57, с. 75, Шенкурский у. Архангельской губ., 1887 г.).
При комментировании дружкой входа в дом в текстах с большей регулярностью начинают появляться детали, характеризующие состояние этого персонажа как лиминальное. Так, за дверь дружка берется «белой рукой»: «ко дверичкам приближаюсь и берусь я за скобку серебряную, своей белой рукой потягиваю, настежь дверечки растворяю…» ( Киреевский : 79). Мотив «временной смерти» реализуется в приговоре с помощью детали одежды — при открывании дверей у дружки рвется пояс, что коррелирует с развязыванием пояса у покойников: «Дружка за скобу хватается, у дружки гашник21 расстегается; дружка гашник подвязывает, про беду свою не рассказывает…» ( Мыльникова, Цинциус : 100).
Тема получения материального и физического ущерба усиливается в приговорах, комментирующих переход дружки через порог. В приговорах порог предстает как одно из самых трудных препятствий на пути жениха (дружки) к невесте. Действия дружки на пороге выражены с помощью формулы «скок через порог, насилу ножки переволок», которая фиксируется в записях разных локальных традиций России с первой трети XIX в. до нач. XXI в. В некоторых записях формула получает продолжение описаниями, в которых уточняется высота порога (крутой, высокий, высочайший) и констатируются изменения физического состояния перешагивающего через него дружки. Из текстов следует, что дружка приобретает ряд физических, в большинстве своем временных недостатков, которые по мере продвижения к центру дома невесты, т.е. освоения «чужого» пространства и перекодирования его в «свое», проходят. Так, ноги у дружки худые, короткие, он насилу ноги волочет, перешагивание через порог происходит с трудом, что передается наречными формами едва, чуть-чуть, насилу. Переход через порог является следствием ухудшения общего физического состояния: «Дружка скок через порог, насилу ноги поволок, что, сватушка, за пол, все шел да мел, что за потолок, словно черным соболем поволок, как увидел ваш потолок, так и занемог, после этого, видите сами, что от этой хворости выбило все кости, одно мясо осталось» (РГО, р. 18, оп. 1, ед. хр. 19, с. 5, Нерехтский у. Костромской губ., 1853 г.). Дружка говорит об ухудшении зрения («глазки мутятся», «на глаз не зорок»), голоса, слуха («на ухо не чуток»), силы и проворности («на кулак не боек»), приобретении хромоты («на ногу не верток»); просит дать гущицы для лечения ног (Лугинин, Иорданский: 108) или вина для лечения прижатого языка («К вам бежал — язык прижал. / Нельзя ли его полечить, / Чем-нибудь помочить? / Как двери отворил, / Язык совсем не заговорил» (СыктГУ: 1804–67, Мурашинский р-н Кировской обл., 1990 г.)).
Проникновение в пространство невесты влечет за собой получение материального ущерба. Так, в сибирских текстах дружка высказывает опасение, что перейдя через порог и продвигаясь по дому, он может замочить ноги, испачкаться сажей:
«Идет дружка через порог, Как ясен соколок.
Медленно подвигается к полатному брусу: Нет ли копоти? —
Не замарать бы лопоти. Нет ли воды? — Не подмочить бы сапоги» ( Русский фольклор Сибири : 287).
Тема получения метки, марания сажей при переходе через порог отмечена в записях из Владимирской губернии: «Шаг дружка через порог! / С потолка всю сажу сволок» ( Шейн : 670).
При переходе через порог дружка теряет обувь: «…случи-лось со мной несчастьецо, / Не большое да и не маленькое. / Веревочки у меня развязались, / Онучки мои порастрепались, / Лапотки у меня с ног поскидывались» (КГУ, Кологривской р-н Костромской обл., 1991 г.).
Характеристики отдельных элементов дома указывают на враждебность пространства, в которое попадает дружка.
Так, в записях, сделанных от русского населения Удмуртии, пол становится подвижным, стены имеют множество сучьев22:
«Скок через порог,
Чуть резвы ноженьки переволок, Упер дружка глаза в потолок.
Пол кленовый, потолок дубовый, Брусья — одни сучья ( Татаринцев : 53), А через ваш порог —
Так я еле ноги переволок На пол-от ступил — Так пол-от гнетси и сгибается, В ваши хоромы сразу не пробраться» ( Болдырева, Толкачева : 278).
В приговорах, записанных от русского населения Сибири, полатный брус23 сравнивается с ракитовым кустом ( «Идет дружка под полатный брус, / Как под ракитов куст. / Идет дружка из-под полатного бруса, / Как из-под ракитова куста…» ( Русский фольклор Сибири : 287) ) , т. е. ракитой, ивой, которая в народных представлениях амбивалентна, обладает разнонаправленными и противоречащими друг другу значениями [Агапкина: 297]. Под полатным брусом (под «ракитовым кустом») жених и невеста лишаются способности передвигаться: «Ракитов куст нагибается — / У нашего новобрашного князя / И новобрашной княгини / Резвыя ножки подсекают-ся»24 ( Ермолаев : 588).
Описание внутреннего пространства дома жениха представлено в единичных записях. Изображение внутреннего пространства дома невесты в приговорах встречается чаще и разрабатывается более подробно. Художественные средства, которые используются при описании внутридомового пространства, позволяют судить о качестве материалов, способе изготовления тех или иных конструктивных деталей жилища. В доме невесты упоминаются пол тесовый, дубовый, кленовый, лаковый, лощен, скобленый, кирпичный или сделанный из сосновых, дубовых досок; потолок дубовый, кленовый, хрустальный, высоченный, светленной, скоблен; стены золочены (вар.: стеночки кошетчаты), полать белодубова, колоды муравлены и проч. Вместе с тем, в текстах появляются детали, которые в традиционных представлениях имеют отрицательно-оценочное значение. Прежде всего, цветовые и звуковые характеристики. Так, брусья в доме невесты в сучьях, на полатях и в голбце раздается скрип: «…по лавочкам, по скамеечкам, голбцам скрипучим, полатям висячим…» (Лугинин, Иорданский: 111), «Сучья и брусья, полати скрипучи…» (Суслов: 3). При описании стен, пола, печи используется цвет золота, серебра: у невесты в доме стены, столы золочены, «пол и середа из чистого серебра» (Виноградов: 99). При описании потолка используется черный и белый цвета, в традиционных представлениях оба ассоциируются с трауром, смертью, болезнью: «Шагаю через порог — вижу сватов белый потолок…» (Ушаков, 1907: 61) и др.
Во внутреннем пространстве дома выделяется несколько значимых локусов; они, как правило, упоминаются в связи с использованием их как места локации того или иного персонажа, совершением определенных обрядовых действий и др. Так, названия локусов внутреннего и придомового пространства дома невесты служат для номинации чинов, выполняющих конкретные функции на свадьбе (у ворот находятся приво-ротнички, у дверей — придвернички, у брусков — забруснич-ки, у матки — заматнички, у столов — застольнички, у сеней — присенники). Присутствующие на свадьбе гости именуются по местам, которые они занимают согласно своему статусу (сидящие в сутках, т.е. в красном углу, в кути, за печью, около порога): «гостеньки суточны, куточны, званы и незваны, за-печина, подпорожина» ( Крашенинникова : 66).
Значимыми являются передний угол, окна, печь и около-печное пространство.
Передний угол мыслится как центр дома, наделен эпитетами княженецкое, княжее, повеленное, почтенное место. В нем находятся святые иконы, воскояровые свечи, свадебный стол : «[Благословите] сись на брусчатую лавку, на полости [войлоки] пестрые, на ковры сорочинские, под светлые иконы, под свечи воскояровые, в княжее место, где княжее место Господь Бог повелел…» ( Свадебные обряды : 43); «[Сажайте князя] В передний угол, / … / Под святые образа, / Свечи воскояровые / На почтенное место / Где его на сей день Господень /
Бог почтил» ( Ордин : 80–81). Получить приглашение сесть в передний угол является оказанием уважения, почета и подчеркивает статус гостя: «Ты, тысяцкий, сидишь в большом углу в доброй славе, как в куньей шубе…» ( Ефименко : 83); «Дайте нашему жениху честь / Иметь передний угол / Со всем его поездом / И с нами, храбрыми дружками-молодцами» (СыктГУ: 0720-35, с. Несь Ненецкого автономного округа, 1989 г.).
Окна . Окно относится к элементам, регламентирующим связь внутреннего пространства дома с внешним миром [Бай-бурин: 159], символика окна определяется оппозицией внешнего — внутреннему, видимого — невидимому [Байбурин: 166], что отражено и в текстах приговоров. Так, через середнее окошечко представители невесты видят приближающийся к их дому свадебный поезд: «Станьте на скамеечку к середне-му окошечку, посмотрите в окошечко: на вашом поле, на наших конях едет свадьба» (РО ИРЛИ, ф. 690, оп. 5, ед. хр. 104, л. 5, Нолинский у. Вятской губ., 1920-е гг.). Вятский дружка просит открыть дымное окошко , чтобы можно было увидеть приближающихся гостей ( Зеленин : 30).
Сутное, кутное, подпорожнее окна предлагаются представителем невесты жениху в качестве возможных входов в дом, но отвергаются дружкой, поскольку их предназначение не соответствует статусу жениха (об этом выше). В нескольких текстах в описании окон есть указание на материал, из которого они сделаны ( оконницы стекольчаты, стеклянны окошечки ) или на технологию изготовления — косещето окно ( Гладких : 59); косящаты-косящатыя окошечки 25.
Под кутнёе окошечко уходит куний след, по которому поезжане следуют до дома невесты ( Ордин : 90); появление в приговорах кутнего окна объясняется ритуалом: просватанная девушка в момент приезда жениха пребывает в женском месте избы — в кути. В текстах зафиксировано указание на регламентированное обрядом направление движения невесты к жениху в день свадьбы — из кути в красный угол (до красного окошка ): «Из кути26 до под-окошка27 / И до краснова окошка28» (РЭМ, ф. 7, оп. 1, д. 664, л. 11, Макарьевский у. Нижегородской губ., 1899 г.).
Середа 29 или куть — место нахождения невесты в момент приезда свадебного поезда ( «ехать добру молодцу ко тестову двору, ко тещину терему, к девичью кутничьку…» (РНБ, Q XVII, №230, л. 40 об., Вологодская губ.) ) . Обязательный маркер местонахождения просватанной девушки — занавес / занавесочка ( «Наша-то невеста / В тереме сидела, / В куте за занавесой! / Под кутным окошечком» ( Ивановский : 54) ) — шелковая, шитая , белая, кленовая, полотняная, тонкая, берчатая (вар.: бирчатые завесы, камчатные завесы ).
Ритуалом предписывается, что невеста в момент приезда жениха должна находиться в женской части избы, именно оттуда ее выводят к жениху. В вилегодских приговорах эта ситуация трактуется следующим образом:
«— А где молодая кнезина?
Ежели на середе — несу на переде, Ежели на пече, то несу на плече.
Скажут :
— На середе» ( Крашенинникова : 92).
Комментируя этот фрагмент, исполнительница отметила, что невеста, сидящая в момент приезда жениха на печи, считалась больной, испорченной. Нахождение невесты «на середе» интерпретируется в приговоре как проявление здоровья, готовности к свадьбе, сидение на печи, напротив, сигнализирует о физической немощности, болезненности, нежелании замужества.
Печь ( кирпичная, кирпитчатая ). Один из значимых локусов внутреннего пространства дома, для невесты и ее рода является защищающим центром. Так, при описании входа в дом невесты дружка отмечает нахождение около или на печи невесты или ее родителей: «[дружка] ножкой топнул, дверью хлопнул, половнички гнутся, хозяева к печке жмутся…» ( Дерунов : 121); [обращается к сватье]: «Пожалуйте-ка сюда от печки кирпичные…» ( Лысанов : 88). В вятских записях родители невесты в момент входа поезжан могут находиться на печи: «Наш сват, косые плечи, / Слезай с печи…» (СыктГУ: 2023-20, Лузский р-н Кировской обл., 1991 г.).
В приговорах актуализируются представления, что место около печи под полатями — это место колдуна (об этом сюжете подробно [Крашенинникова, 2018: 110–111]), на печь или полати дружка просит удалить зрителей свадьбы — стариков, старух, детей, что связано с его желанием дистанцировать жениха и невесту от нежелательных для молодоженов персонажей [Крашенинникова, 2006: 24–25]. В единичных записях упоминаются конструктивные детали печи — напыльничек и кожух . Напыльничек — перекладина над устьем черной печи для сушки дров ( Мыльникова, Цинциус : 113): «Маленькие робята, косые заплаты, через напыльничек глядят, желты сопельки висят и те от дружки кроеного хотят» (Мыльникова, Цинциус: 112–113); кожух — выступ у печи: «Молодые молодицы, / Полезайте на печь, / Только на кожух не наваливайтесь, / С печи не упадите / Да что-нибудь там не покажите» (СыктГУ: 1814-6, Мурашинский р-н Кировской обл., 1990 г.).
Из предметов внутреннего убранства дома с большей или меньшей регулярностью встречаются лавки, полати, полицы 30. Так, положенные на лавки и полицы шапка и рукавицы подтверждают серьезность намерений прибывших за невестой: «Шапку и рукавицы кладу на полицу — / Отдайте мне молодицу!» (СыктГУ: 1811-18, Мурашинский р-н Кировской обл., 1990 г.), «Рукавичи на поличи — / Отдайте посуленную деви-чу!» (СыктГУ: 1813-40, там же). Полати, полицы, грядки 31 ( дубовые, тесовые ) называются в качестве мест для хранения одежды поезжан: «В этом пиру, благодатном дому ес[ть] ли спички точеныя висить плетки шелковыя? Ес[ть] ли полицы клас[т]ь шапки да рукавицы? Ес[ть] ли полати клас[т]ь шубы да халаты?» (ГАВО, ф. 4389, оп. 1, д. 401, л 6 об., Вологодская губ.), «Есть ли у вас спицы точеные, / Чтобы нам вешать кушачки золоченые? / Есть ли у вас полицы, / Чтобы нам класть шапки да рукавицы?» (АКФ МГУ: ФЭ–16:2756, Подосиновский р-н Кировской обл., 1988 г.).
В застольных приговорах печь, подполье, брус, залавок, погреб и др. называются в качестве мест хранения свадебного угощения:
«Что есть в пече,
Ташши на плече, Что на залавке,
Ташши на салазках!»
(РЭМ, ф. 7, оп. 1, д. 440, л. 49, Сарапульский у. Вятской губ., 1898 г.).
«Есть чего-нибудь в печи, тащи на плече. Есть чего-нибудь в горнушке — Вези на воронушке.
Есть чего-нибудь в подполье —
Тащи в приполье»
(АКФ МГУ: ФЭ–18:3285, Котельнический р-н Кировской обл., 1992 г.).
Матица , несмотря на важную роль в обрядовой и повседневной жизни семьи [Байбурин: 171], упоминается в единичных записях. В частности, входя в дом невесты, вилегодский дружка произносил приговор с заклинательным элементом «Матица, не гнись, / Половица, не ломись, / Молодая княгиня, нас, резвых дружек, не устрашись» (СыктГУ: 0481-77, Вилегод-ский р-н Архангельской об., 1988 г.).
Итак, в свадебных приговорах описание дома жениха и невесты формируется посредством изображения трех макролокусов: придомовой территории или подворья; зоны, связывающей подворье с внутренним пространством жилища (лестница, крыльцо, двери, порог) и собственно внутреннего пространства дома, изображение которого создается посредством последовательного включения в тексты описаний / упоминаний значимых с точки зрения ритуала локусов (передний угол, куть, печь, др.). Декларируемое в ритуале деление на «свое» / «чужое» пространство изначально в приговорах не выражено; для описания внешнего вида дома и жениха, и невесты используются по большей части одинаковые художественно-стилистические средства группы «дом».
Дом и внутридомовое пространство невесты изображаются в приговорах более детально. Представления об этом «чужом» для партии жениха пространстве проявляются в приговорах, комментирующих подъем по крыльцу, открывание дверей, переход через порог и вход внутрь. По мере продвижения и освоения дружкой домовой территории невесты отношение к дому как «чужому» постепенно нарастает, достигает своей критической точки в момент перехода через порог и после входа в дом уменьшается: пространство приобретает черты «своего», и в этом разница между художественной системой приговоров и, например, похоронных причитаний.
Анализ текстов позволяет сделать некоторые выводы относительно значимых участков внешнего и внутреннего домового пространства: таковыми являются двор, лестница, ступени, крыльцо, порог . Описание ворот и дверей строится с помощью художественных средств, информирующих о качестве материала, способе изготовления или обработки материала, размере, конструктивных особенностях, ценности, крепости, надежности. Вариативность качественных характеристик обоих локативов весьма высока, перечень конструктивных деталей пространен, и это делает ворота и двери заметными, выразительными, значимыми объектами и позволяет говорить о них как о препятствиях на пути к невесте. Еще одним препятствием на пути дружки к невесте является порог , переход через который комментируется в записях многих локальных традиций. Преимущественно в этих приговорах обнаруживается динамика развития образа дружки. Вход этого персонажа в дом представлен в поэтических текстах как ситуация пересечения рубежа: проникновение в «чужое» пространство сопровождается ухудшением зрения, появлением хромоты, немоты, получением метки, потерей деталей одежды и обуви, отдачей материальных ценностей32. По мере освоения «чужого» пространства и перекодировки его в «свое» временное физическое недомогание дружки проходит.
Особенностью текстов, изображающих дом, является наличие большого количества деминутивов, используемых для номинации значимых мест дома и конструктивных деталей; это указывает на эмоционально-экспрессивную тональность речей свадебных дружек, однако избыточное использование деминутивов в приговорах задает более высокую «эмоциональную температуру текста» (терм. А. Вежбицкой [Вежбиц-кая: 55]). Самым частотным эпитетом является адъектив широкий/-ие , встречающийся в изображении практически всех значимых точек пространства дома невесты. При описании дома невесты и отдельных его элементов регулярен также эпитет новый .
Сокращения
АКФ МГУ — архив кафедры фольклора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;
ГАВО — государственный архив Вологодской области;
ГАКО — государственный архив Костромской области;
КГУ — архив фольклорно-краеведческой лаборатории Костромского государственного университета им Н. А. Некрасова;
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства;
РГО — архив Русского географического общества;
РО ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, рукописный отдел;
РНБ — Российская национальная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей и редких книг;
РЭМ — архив Российского этнографического музея;
СыктГУ — фольклорный архив Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.
Список литературы Дом и представления о нем в русских свадебных приговорах
- Агапкина Т. А. Символика деревьев в традиционной культуре славян: ива, верба, ракита (род Salix) // Славянский альманах 2014. М.: Индрик, 2014. Вып. 1-2. С. 283-302.
- Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. М.: Языки славянской культуры, 2005. 224 с.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / пер. с англ.; отв. ред. М. А. Крон-гауз; вступ. ст. Е. В. Падучевой. М.: Русские словари, 1996. 416 с.
- Крашенинникова Ю. А. Свадебные приговоры дружки: структурно-семантический, функциональный аспекты жанра: дис____канд. филол. наук: 10.01.09. Сыктывкар, 2003. 342 с.
- Крашенинникова Ю. А. Персонажи в приговорах свадебных дружек: образы участников ритуала // Традиционная культура: научный альманах. 2006. Т. 7. № 3 (23). С. 23-31.
- Крашенинникова Ю. А. Межжанровые связи в мифопоэтическом содержании фольклорных текстов (свадебные приговоры — заговоры) // Традиционная культура: научный альманах. 2009. Т. 10. № 1 (33). С. 29-39.
- Крашенинникова Ю. А. Нормативы в поэтических текстах свадьбы (на примере свадебных приговоров) // Традиционная культура: научный альманах. 2018. Т. 19. № 4. С. 107-117.
- Левкиевская Е. Е. Нищий // Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 408-411.
- Невская Л. Г. Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре // Балто-славянские исследования — 1981. М.: Наука, 1982. С. 106-120.
- Неклюдов С. Ю. О кривом оборотне (к исследованию мифологической семантики фольклорного мотива) // Проблемы славянской этнографии. Л.: Наука, 1979. С. 133-141.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1946. 340 с.
- Толстая С. М. «Житие» растений и предметов // Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 220-222.
- Толстой Н. И. Vita herbae et vita reí в славянской народной традиции // Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М.: Наука, 1994. С. 139-167.
- Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок) // Семиотика культуры. Труды по знаковым системам. Тарту, 1978. Т. 10. С. 65-85.
- Шиндин С. Г. Пространственная организация русского заговорного универсума: образ центра мира // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М.: Наука, 1993. С. 108-128.