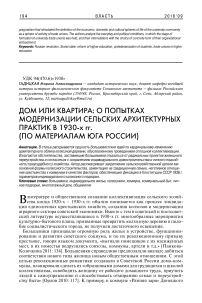Дом или квартира: о попытках модернизации сельских архитектурных практик в 1930-х гг. (по материалам юга России)
Автор: Гадицкая Марина Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 9, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается сущность большевистских идей по кардинальному изменению архитектурного облика колхозной деревни, обусловленному проведением сплошной коллективизации. Излагаются обстоятельства, заставившие большевиков отказаться от радикальных проектов жилищного переустройства и согласиться с сохранением индивидуального домостроительства и личного подсобного (приусадебного) хозяйства. Автор рассматривает закрепление сельскохозяйственной артели как основной формы колхозного строительства, ориентацию на традиционную семью, негативное отношение крестьянства к коммунам в качестве факторов, обеспечивших фиксацию в Конституции СССР 1936 г. параметров индивидуального колхозного подворья.
Большевики, индивидуальное жилье, колхозники, коммуна, коммунальный быт, личное подворье, многоэтажный дом, общежитие
Короткий адрес: https://sciup.org/170171303
IDR: 170171303 | УДК: 94(470.6)"1930" | DOI: 10.31171/vlast.v26i9.6179
Текст научной статьи Дом или квартира: о попытках модернизации сельских архитектурных практик в 1930-х гг. (по материалам юга России)
В литературе и общественном сознании коллективизация сельского хозяйства конца 1920-х – 1930-х гг. обычно понимается как процесс ликвидации единоличных крестьянских хозяйств, создания колхозов и модернизации аграрного сектора советской экономики. Вместе с тем в советской и постсоветской литературе осуществлявшиеся в 1930-х гг. многообразные мероприятия культурно-бытового плана, призванные превратить колхозную деревню в подобие социалистического города, не получили достаточного освещения.
Большевики признавали огромную роль жилья в устройстве, функционировании и развитии советского социума, и по их революционному призыву крестьяне, говоря языком документа, «выгнали помещиков с их насиженных мест, в их поместья водрузились совхозы, коммуны, артели и т.д.» [Панкова-Козочкина 2011: 134]. Большевики справедливо предполагали вначале добиться соответствия нового типа жилища новым общественным отношениям. С этой целью революционные романтики создавали в Советской России дома-коммуны, планировали сделать их «образцовыми домами для трудящихся и школой коллективизма, освободить женщину от рабского домашнего труда, приучить людей к самоуправлению и способствовать отмиранию семьи и переустройству быта» [Орлов 2010: 117]. К примеру, в коммуне «Ранняя заря» Донецкого округа Юго-Восточного края в 1924 г. коммунары находились в одном здании, но каждая семья располагалась в «отдельном помещении-комнате». В коммуне «Коммунистический маяк» Георгиевского района Терского округа СевероКавказского края в 1928 г. все жили в общем доме, где каждой семье выделялась «чистая и хорошо убранная отдельная квартира» и две комнаты отводились для юношей и девушек [Багдасарян 2017: 172-173].
Проекты переустройства жилищной сферы деревни отличались наибольшим радикализмом в начале 1930-х гг. Ориентиром выступало городское обустройство, ведь традиционно «город предоставляет более широкие возможности для продвижения по социальной вертикали и достижения высокого положения, чем и сохраняет привлекательность для части сельской молодежи» [Лукичев, Скорик 1995: 114]. Речь шла о ликвидации частных жилищ и переводе деревни на рельсы коммунального общежития путем строительства многоэтажных и многоквартирных домов. Некоторые отчаянные головы предлагали: «Нужно немедленно снести все село… и выстроить один большой дом, этажей в пятнадцать, или, на худой конец, три дома немного пониже. Тогда на отопление пойдет меньше дров и освободится много пахотной земли»1. Большевиками «совместное проживание было признано новой моделью человеческих взаимоотношений, связанной с переориентацией быта от семейного к общественному» [Орлов 2010: 117]. Именно в начале 1930-х гг. среди идеологов и творцов коллективизации «довольно широкое распространение» получила идея об ускоренном переходе к высшей форме обобществления имущества, труда и быта. Как они полагали, «основной формой колхозного движения станет коммуна» [Фигуровская 1983: 262], члены которой не будут жить в отдельных частных домах, а переселятся в многоквартирные общежития. Коммунальный быт менял мироощущение крестьян: к примеру, в коммуне им. А.П. Смирнова Терского округа, по сообщениям властей, «много коммунаров не ходят в церковь, выносят иконы»; в начале 1930 г. «коммунарка Кацарина променяла свою икону за две головки капусты на Железноводском базаре. Коммунарка Шапкина продала икону за 50 коп., а другую променяла на колбасу» [Гадицкая 2008: 167].
Тем не менее вскоре выяснилась невозможность практического воплощения радикальных жилищных инноваций в подвергнутой коллективизации деревне в сколько-нибудь широких масштабах. Прежде всего, подобные проекты вызвали резкое отторжение у большинства сельского населения. Несмотря на серьезные социально-экономические изменения в результате осуществления коллективизации, сельские жители – и единоличники, и подавляющее большинство колхозников – все еще имели личные хозяйства. Ни относительно скромные размеры хозяйств, ни их официальный статус личных подсобных хозяйств не меняли отношения к ним в глазах и умах советских аграриев, считавших ЛПХ важным источником средств существования. Жизнь и быт единоличного и колхозного крестьянства испытывали структурирующее влияние собственных хозяйств (независимо от названия, статуса и размера), а на Юге России менее всего, в силу своей зажиточности, хотели вступать в коммуны казаки [Скорик 2009: 196]. Хозяйственные стратегии и обыденная жизнь на селе в 1930-х гг., как и прежде, предусматривали наличие личного подворья с жилыми и хозяйственными постройками и приусадебного участка с садом и огородом. Поэтому кооперированные и некооперированные крестьяне и казаки в массе своей оказались не готовы переселяться в многоквартирные дома-ульи с коммунальным бытом. Сами коммунары в сознании части людей того времени отождествлялись «с нечистой силой», которую молитвой можно выгнать из жилища [Багдасарян, Скорик 2012: 45].
Яркое описание того, как поспешные попытки обустроить коммунальный быт приводили к разрушению сельских населенных пунктов, содержится в одной из публикаций в газете «Молот» за март 1934 г. По утверждению автора публикации А. Соколова, правление коммуны «Верный путь» станицы Анапской Черноморского округа Азово-Черноморского края постоянно переселяло семьи коммунаров из одного дома в другой. Видимо, таким способом правление пыталось победить собственническую психологию коммунаров – вчерашних крестьян, т.е., согласно марксистской трактовке, «мелкой буржуазии». В итоге та часть станицы Анапской, где располагалась коммуна, оказалась «полуразрушена», ограды и «почти половину построек» жители разобрали на топливо, многие фруктовые деревья просто вырубили. Сады, виноградники и огороды не обрабатывались и зарастали бурьяном, потому что ни один коммунар не знал, «как долго он будет жить на отведенной ему усадьбе и хате», и не желал впустую тратить силы1.
В южнороссийских источниках 1930-х гг. встречаются возражения сельских жителей против столь модных среди радикально настроенных партийно-советских деятелей идей о многоквартирном строительстве в колхозной деревне. Характерными выглядят рассуждения участников совещания доярок и других работников молочно-товарной фермы (МТФ) колхоза «Большевик» Батайского сельсовета одноименного района Азово-Черноморского края, состоявшегося в указанном колхозе в апреле 1934 г. По всей видимости, совещание специально собрали для последующей беседы с приехавшим в колхоз корреспондентом газеты «Социалистическое земледелие». Он задал целый ряд вопросов, среди которых прозвучал и такой: «Колхозникам нужны ли общежития или, может быть, землянки, отдельные хатки со двором?» Бригадир Устименко, которой адресовался вопрос, ответила: «Лучше по[-]моему в общежитии, только надо построить побольше, пообширнее»2.
Трудно сказать, испытывала ли Устименко уверенность в своей позиции и являлась ли она сторонницей коммунального быта. Ведь среди молодых жителей села и местных руководителей (политотдельцев и др.) нередко встречались сторонники урбанистических идей многоэтажного строительства, от зависти к которому «заплачут нью-йорки»3. Они добивались радикальной смены деревенского жизнеустройства, и в т.ч. расселения в дома коммунального типа. Может быть, Устименко просто хотела угодить заезжему корреспонденту, зная о пропаганде в прессе домов-коммун. Однако ее слова вызвали большое оживление среди других доярок и колхозников – участников совещания, которые в один голос заявили: «Неправильно, неправильно… Отдельными дворами лучше строиться, потому, что огороды у нас даются, а [если жить в общежитии, то] птицу, телят, где держать?»4
Надо думать, позицию работников МТФ колхоза «Большевик» поддержало бы подавляющее большинство колхозников вне зависимости от того, в каких районах и областях страны они проживали. Конечно, не стоит переоценивать неприятие ими коммунального быта. Выражая на словах нежелание поменять свои частные дома на квартиры в коммуналках, сельские жители не посмели бы противиться переселению в общежития в том случае, если представители власти твердо вознамерились бы осуществить подобный сценарий: ведь и колхозники, и единоличники в 1930-х гг. прекрасно понимали, насколько могуч сталинский режим и насколько бесполезна открытая борьба с ним. Показательны в этом отношении свидетельства о восприятии сельским населением информации о вероятностных планах властей по радикальному преобразованию жилищнобытовых условий граждан. В первой половине 1930-х гг. в деревне ходили устойчивые слухи об ожидавшейся социализации сельского жилья, на волне которых «колхозники боялись строить [себе] дома»1.
Однако большевики вскоре сочли преждевременными предлагавшиеся проекты устройства в деревне коммунального быта. Представители партийносоветского руководства понимали высокий уровень затратности реализации масштабных проектов многоквартирного строительства в сельской местности, а такими огромными ресурсами советское государство не располагало ни в 1930-х гг., ни на протяжении последующих десятилетий. Здравомыслящие партийные функционеры и советские чиновники не могли не осознавать пагубность радикальных экспериментов в деревне, к числу которых относилось повсеместное создание коммун с максимальным обобществлением средств производства и быта, в т.ч. с расселением коммунаров в многоквартирные общежития. Эта часть советской номенклатуры представляла возможность ухудшения социальной ситуации в пережившей коллективизацию деревне, если не урегулировать практику обобществления и безоглядно распространить ее в широких масштабах на жилищно-коммунальную сферу.
Дискуссии между «радикальными» и «умеренными» большевиками в первой половине 1930-х гг. завершились уверенной победой сторонников сдержанной позиции. Если «радикалы» выступали за насаждение коммун, то «умеренные» продвигали сельскохозяйственную артель, где допускалось существование небольших личных подсобных хозяйств колхозников. Четким сигналом о недопустимости форсирования процесса социалистических преобразований в деревне стали высказывания И.В. Сталина на XVII съезде ВКП(б) в январе 1934 г. о необходимости признания основным типом сельхозпредприятия в колхозной деревне сельскохозяйственной артели, а не коммуны, и что «было бы преступлением искусственно ускорять процесс перерастания артели в будущую коммуну», которая станет доминирующей формой организации аграрного производства, «конечно, не скоро» [Сталин 1952: 352-353]. В жилищной сфере это означало проживание членов артелей в собственных домах, а не обитание в общежитиях-коммуналках.
Сыграл свою роль и отказ большевистского руководства от курса на ликвидацию «буржуазного института» семьи, якобы препятствовавшего освобождению женщины от оков домашнего быта. Переориентация на укрепление семейной ячейки социалистического общества также происходит к середине 1930-х гг. Наметившийся «отход от идеи коммунального бытия в сторону укрепления семьи» позитивным образом сказался на масштабах и темпах «строительства индивидуального жилья» [Орлов 2010: 117] в деревне.
Советские теоретики переустройства сельского быта быстро отреагировали на выработанную к середине 1930-х гг. высшим руководством страны позицию в отношении внешнего облика колхозной деревни. В их новом понимании «колхозный дом не должен быть многоэтажным, многоквартирным. Увлекаться большими домами для колхозников – это значит перепрыгивать через данный этап колхозного развития» [Кожеуров 1934: 44].
Юридически отказ большевиков от идеи застройки коллективизированной деревни коммунальным жильем и переселения в него сельских обывателей закрепляется в «сталинской» Конституции 1936 г., где детально прописывается социалистический облик колхозной деревни. В ст. 7 Основного закона четко и недвусмысленно указывалось, как должно выглядеть индивидуальное хозяйственное пространство колхозника: «Каждый колхозный двор ‹…› имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь». В ст. 10 оговаривались пределы личной собственности и подтверждались ее государственные гарантии: «Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан – охраняются законом»1.
Большинство жителей колхозной деревни выражали полное одобрение процессу юридического закрепления индивидуального крестьянского мира, ведь колхозники теперь имели право жить в собственных домах, а не в общежитиях-коммунах. Селяне живо откликнулись на новые жилищные инициативы и надлежащие заверения властей. Так, во время всенародного обсуждения проекта Конституции 1936 г. многие колхозники «радостно говорили, что дома и огород предусмотрены законом, т.е. охраняются»2.
Тем не менее определенная часть сельских жителей не противились урбанизации и приветствовали этот процесс. В частности, в конце 1930-х гг. в коммуне «Сеятель» Сальского района Ростовской области – одном из старейших и лучших коллективных хозяйств Дона – семейные колхозники проживали, в соответствии с уставом коммуны, в отдельных квартирах, а одиноким членам коммуны предоставлялось общежитие. Сами коммунары и правление коммуны проявляли исключительную заботу о благоустройстве жилья. В справке Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г., где демонстрировались достижения коммуны «Сеятель», особо подчеркивались качественные параметры созданных жилищных условий, указывалось, что «квартиры коммунаров электрифицированы и радиофицированы»3.
Более того, в 1930-х гг. на селе велось строительство многоэтажных жилых домов, хотя и в ограниченных масштабах. Те же коммуны, если им позволяли материально-финансовые средства, пытались выполнять подобные задачи. В особенности строительство многоэтажных жилых домов практиковалось в совхозах и МТС, руководство которых, при наличии возможностей, размещало своих работников в поселках городского типа. Так, на одном из фотоснимков первой половины 1930-х гг. запечатлен строящийся жилой поселок для рабочих и сотрудников учебно-опытного зернового совхоза № 2 Азово-Черноморского края (ныне это город Зерноград Ростовской обл.). В расположенном посреди голой степи жилом поселке, как видно на фотографии, насчитывается не менее 10 трехэтажных жилых домов и еще 5 или более коттеджей, рассчитанных не менее чем на 2 семьи. Вдобавок отчетливо просматриваются водонапорная башня, опоры линий электропередач и т.п.1
Таким образом, анализ попыток модернизации сельских архитектурных практик убедил нас в справедливости суждения, что «под колесами всех больших и малых реформ в России первыми всегда страдали сельское хозяйство и терпеливый российский крестьянин» [Скорик 2001: 52]. Сплошная коллективизация придала новый импульс разработке проектов переустройства жилищной сферы деревни. Представители партийно-советских властных структур, архитекторы, энтузиасты колхозного строительства выступали за решительную модернизацию сельского жилья, чтобы избавиться от традиционной тесноты, недостатка освещения в жилых помещениях, бытовой антисанитарии и т.п. Коллективизация повлекла за собой изменения в жилищной сфере деревни и отчасти стимулировала многоэтажное строительство. Но острый дефицит финансовых и материальных ресурсов наряду с воздействием привычных домостроительных приемов не позволили кардинально изменить сферу домостроительства и домашний быт в колхозной деревне, в т.ч. в селах и станицах Юга России. На всем протяжении 1930-х гг. здесь преобладали традиционные сельские архитектурные практики.
Список литературы Дом или квартира: о попытках модернизации сельских архитектурных практик в 1930-х гг. (по материалам юга России)
- Багдасарян С.Д. 2017. Сельская повседневность на Юге России в эпоху нэпа: устойчивость традиций и противоречия преобразований. дис.... д.и.н. Новочеркасск. 869 с
- Багдасарян С.Д., Скорик А.П. 2012. Крестьянская повседневность эпохи нэпа: досуг и праздник в южно-российской деревне в 1920-е годы. Новочеркасск: Лик. 239 с
- Гадицкая М.А. 2008. Женщины-колхозницы Юга России в 30-е годы XX века: гендерный потенциал и менталитет. дис.... к.и.н. Новочеркасск. 339 с
- Кожеуров И. 1934. Распланирование колхозных населенных пунктов. -На аграрном фронте. № 11. С. 38-49
- Лукичев П.Н., Скорик А.П. 1995. Поведенческая типология студенческой группы. -Социс. Социологические исследования. № 7. С. 109-115