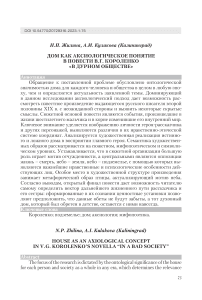Дом как аксиологическое понятие в повести В.Г. Короленко "В дурном обществе"
Автор: Жилина Наталья Павловна, Кулакова Анастасия Ивановна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
Обращение к поставленной проблеме обусловлено онтологической значимостью дома для каждого человека и общества в целом в любую эпоху, чем и определяется актуальность заявленной темы. Доминирующий в данном исследовании аксиологический подход дает возможность рассмотреть известное произведение выдающегося русского писателя второй половины XIX в. с неожиданной стороны и выявить некоторые скрытые смыслы. Сюжетной основой повести являются события, произошедшие в жизни шестилетнего мальчика и в корне изменившие его внутренний мир. Ключевое внимание уделяется изображению личности героя-рассказчика и других персонажей, выявляются различия в их нравственно-этической системе координат. Анализируется художественная реализация истинного и ложного дома в восприятии главного героя. Семантика художественных образов рассматривается на сюжетном, мифопоэтическом и символическом уровнях. Устанавливается, что в сюжетной организации большую роль играет мотив отчужденности, а центральными являются оппозиции жизнь - смерть, небо - земля, небо - подземелье, с помощью которых выявляются важнейшие нравственные и психологические особенности действующих лиц. Особое место в художественной структуре произведения занимает метафорический образ птицы, актуализирующий мотив неба. Согласно выводам, открытый финал повести дает возможность читателю самому определить вектор дальнейшего жизненного пути рассказчика и его сестры: сформированные в их сознании ценностные установки позволяют предположить, что данные обеты не будут забыты, а тот духовный дом, который был обретен в детстве, останется с ними навсегда.
Короленко, подземелье, дом, аксиология, мифопоэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149142780
IDR: 149142780 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-75
Текст научной статьи Дом как аксиологическое понятие в повести В.Г. Короленко "В дурном обществе"
Исследование топоса дома в отечественном литературоведении имеет свою научную традицию. Так, своеобразный подход – через мифологические архетипы – был предложен Ю.М. Лотманом в работе «Дом в “Мастере и Маргарите”», опубликованной еще в 1983 г., неоднократно переиздававшейся и до настоящего времени не утратившей своего значения [Лотман 1997]. Идея Дома как некоей незаменимой духовной опоры человека разрабатывалась ученым и ранее, в книге «Пушкин: биография писателя» (1981) [Лотман 1995]. Мысли авторитетного исследователя получили творческое продолжение и развитие в статье А.А. Кораблева «Мотив “Дома” в творчестве М. Булгакова и традиции русской классической литературы» (1991), где утверждалась идея Дома как «важнейшего нравственного и смыслового ориентира» [Кораблев 1991, 246] русской литературы. Далее важным вкладом в изучение вопроса стал изданный в Латвии сборник статей «Пространство и время в литературе и искусстве. Дом в европейской картине мира» [Пространство и время 2001], в котором образ дома был исследован в разных аспектах на материале русской и западноевропейской литературной классики. Среди трудов, появившихся в начале XXI в., невозможно не отметить монографию Т.И. Радомской [Радомская 2006], в которой феномен дома рассматривался в аспекте духовного, семейного и государственного устроения, а материалом послужили произведения А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. В последующие годы тема дома стала одной из ключевых в отечественном литературоведении, что является подтверждением ее актуальности и значимости не только в современной науке, но и в обществе. В последние два десятилетия символическое осмысление топоса дома разрабатывалось, на- пример, в следующих работах: [Шутова 2008; Жилина 2009; Орлова 2010; Воронцова 2014; Шестакова 2021].
Творчество В.Г. Короленко, занимавшее значительное место в литературном процессе конца XIX в., на протяжении многих лет изучалось в отечественном литературоведении лишь в определенных аспектах: в советскую эпоху ученые в большей степени проявляли интерес к биографии писателя, его общественной деятельности, акцентировали внимание на социальной проблематике и идейной направленности произведений писателя. И хотя в последние десятилетия вектор исследования изменился, остается еще немало проблем, требующих пристального рассмотрения, в первую очередь это вопросы, связанные с художественной формой. Повесть «В дурном обществе» в последние годы изучалась исследователями с различных сторон: были рассмотрены социально-нравственные проблемы [Темаева 2019, 116–120], ключевые мотивы и лексико-семантическая организация [Лахина 2018, 93–101], архетипические истоки образа сада [Иванова 2022, 55–60], поэтика пейзажных описаний и экология духовного мира героев [Скопкарева 2016, 114–127], проблема детства в свете экогуманизма [Закирова, Крестьянинова 2018, 342–345], писательская концепция детства [Дедюхина, Иванова 2021, 18–22], текстологические вопросы [Иткин 2020, 97–109]. Однако многие аспекты этого произведения до сих пор остаются неизученными, к ним относится и рассмотрение образа дома в аксиологическом аспекте, ставшее целью данной статьи.
Сюжетной основой произведения являются события, произошедшие в жизни шестилетнего мальчика и в корне изменившие его внутренний мир. Подзаголовок повести – «Из детских воспоминаний моего приятеля» – задает определенную повествовательную установку, согласно которой все происходящее будет передано через призму сознания ребенка. Однако с первой же фразы («Моя мать умерла, когда мне было шесть лет» [Короленко 1960, 5]), точка зрения героя-рассказчика начинает двоиться: взгляд мальчика далее постоянно сменяется оценкой повзрослевшего рассказчика, пронесшего эти воспоминания через много лет. В начале событий перед читателем предстает герой, для которого отчий дом, наполненный материнской любовью, был средоточием радости и счастья. Но смерть матери, которая являлась своеобразным стержнем, опорой для всей семьи, приводит к отчужденности отца, сосредоточенного на своем горе, его отъединению от детей, что особенно сказывается на отношении к сыну: «Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери» [Короленко 1960, 5]. Хотя основной причиной гнетущей атмосферы дома является тяжелая утрата, мучения мальчика усиливаются от невозможности разделить с родными общее горе: сестренка еще не в состоянии прочувствовать всю тяжесть потери, а отец Васи настолько погружен в свои переживания, что не замечает страданий сына. Так на недавно счастливый и благополучный дом опускается покров смерти, кардинально изменяя душевное состояние его обитателей.
Русское слово дом содержит в себе несколько основных значений, теснейшим образом связанных между собой. В словаре В.И. Даля они определены так: 1) строение для житья; 2) семейство, семья, хозяева с домочадцами; 3) род, поколение [Даль 1955, 465–466]. Уже в первом значении проявляется главная функция дома – защитная: дом, прежде всего, означает жилище, место обитания, защищающее и укрывающее человека (отсюда синоним – кров). О многом говорит и тот факт, что Ю.С. Степанов в книге «Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования» в концепт «дом» включает понятие «уют», статья носит название: «Дом, уют» [Степанов 1997, 694–698]. В повести отсутствует развернутое описание дома, где живет семья мальчика, известно лишь, что он окружен садом и имеет несколько комнат, так что есть все возможности для уединения каждого из домочадцев. В реальности так и происходит: отец почти все время проводит в своем кабинете, изредка выходя в сад, маленькая Соня с нянькой играет в детской, а Вася каждое утро стремится пораньше исчезнуть из дома, чтобы вернуться затемно. Отношение главного героя к родному гнезду противоречит основным представлениям об истинном доме, включающем в себя понятия «семья», «единство», «счастье» [Славянская мифология 1995, 168]: в своей семье, сохраняющей лишь внешние формы, он чувствует себя лишним. Со смертью матери родной дом утрачивает для мальчика ощущение защиты, перестает быть уютным – отсюда и его постоянное желание покинуть это любимое прежде жилище: «…с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. <…> А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи…» [Короленко 1960, 26–27] Так, в начале повести перед читателем предстает юный герой, в сознании которого сохраняющий лишь внешнее благополучие родной дом получает все признаки ложного [Лотман 1997, 749]. Значительную роль здесь играют евангельские реминисценции: дом Васи окружен садом, куда мальчик время от времени наведывается в поисках яблок – этот атрибут в повести не имеет значения запретного плода, так как мальчику позволяют их срывать, запрет позже накладывается отцом на уход из дома. Таким образом, мы обнаруживаем своеобразный «перевертыш» евангельского сюжета: сад (изначально заключающий в себе символику идеального мира) [Тресиддер 1999, 319] в художественном мире повести неразрывно связан с ложным домом, из которого герой стремится убежать по собственной воле.
Утрата духовной связи героя с отцом, потеря доброго имени у близких, именующих его «бродягой, негодным мальчишкой» [Короленко 1960, 27], постоянные упреки, напряженные душевные страдания порождали ощущение бесприютности и подвигали на поиски иного пространства, провоцируя стремление к бродяжничеству. Таким образом, центральным в по- вести становится мотив отчужденности, являющийся сквозным в творчестве В.Г. Короленко. Отчуждение испытывает и слепорожденный мальчик Петр в обществе здоровых людей («Слепой музыкант»), и герой рассказа «Сон Макара», тотальная отчужденность которого «проецируется и на природный мир» [Жилина 2021, 69]. Но если охотник Макар и в природе не находит спасения (поскольку основополагающей в его сознании «является оппозиция свой – чужой, где “своим” для героя является только он сам, а “чужим” – весь мир» [Жилина 2021, 69]), то юному Васе в его странствиях открывается новый, исполненный таинственных картин и звуков, разнообразный мир. Образ ложного дома в пространственно-временном континууме повести реализуется как на микро-, так и на макроуровне: пространство, утратившее для Васи функции родного дома, постепенно расширяется до пределов всего города, который осваивается мальчиком, начавшим «бродяжить» [Короленко 1960, 30].
Убегая от гнетущей атмосферы дома, Вася чаще всего стремится на остров – к заброшенному графскому замку, давно оставленному его хозяевами. «Величавое дряхлое здание» [Короленко 1960, 6] привлекало детей своей таинственной историей: «о нем ходили предания и рассказы один другого страшнее» [Короленко 1960, 6], которые питали юное воображение, унося от низменной и пошлой прозы будничной жизни, от «глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты» [Короленко 1960, 30], от детской, где была «старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек» [Короленко 1960, 29]. Так возникает сюжетная оппозиция родной дом – старинный замок, где дом обладает чертами ложности, а замок – истинности. Однако вскоре происходят события, кардинально изменившие картину мира мальчика и его отношение к старинному зданию и его обитателям.
Рассказ об этом, несомненно, ведется взрослым повествователем, отсюда выражения высокого, торжественного стиля, вкупе с бытовым содержанием создающие иронический эффект: «Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. <…> Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш <…> выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления» [Короленко 1960, 9]. Несколько дней на острове стоял такой шум, что главный герой и несколько его товарищей, привлеченные странными звуками, «пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей» [Короленко 1960, 10], наблюдали все происходившее. Открывшаяся картина поразила их детские души: одни нищие обитатели замка с криком и ругательствами выгоняли на холод и дождь других, «испуганных, жалких и сконфуженных» [Короленко 1960, 10]. «Старый, седобородый Януш» [Короленко 1960, 7], ранее завоевавший у детей авторитет и доверие своими рассказами о далекой старине, командовал выселением, оставив «в замке только “добрых христиан”, то есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода» [Короленко 1960, 10]. «С этого памятного вечера, – вспоминает рассказ- чик, – и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. <…> Замок стал мне противен. <…> я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце» [Короленко 1960, 11–12]. Утратив черты истинности, старый замок как дом для души перестал существовать в сознании мальчика, интуитивно продолжившего свои поиски. Как верно отмечено О.О. Кандрашкиной, в литературном произведении «расширение пространства может мотивироваться постепенным расширением опыта героя, познанием им внешнего мира» [Кандрашкина 2011, 1218] – именно так и происходит в повести: устремляясь за пределы родного дома, Вася исследует жизнь города, идет навстречу «неведомому и таинственному» [Короленко 1960, 30], руководствуясь чем-то из глубины сердца. Но интерес к изучению этого пространства быстро угасает, оно также открывается ему с незавидной стороны. «Шатаясь по улицам» [Короленко 1960, 30], мальчик становится невольным свидетелем взаимоотношений между обывателями и «темными личностями», прежде обитавшими в подвалах замка: лишенные какого-либо сочувствия горожан, они «крепко стояли друг за друга» [Короленко 1960, 15], если кто-то из них попадал в переделку. Так в восприятии мальчика несчастные отбросы общества, удостоенные лишь презрения со стороны успешных и благополучных жителей города, приобретают некие благородные черты, которых лишены обыватели, подвергающие их всевозможным унижениям и издевательствам.
Как указывает В.Н. Топоров, в мифопоэтическом сознании существует «система бинарных (двоичных) различительных признаков, набор которых является наиболее универсальным средством описания семантики в модели мира и обычно включает в себя 10–20 пар противопоставленных друг другу признаков, имеющих соответственно положительное и отрицательное значение. Это противопоставления, связанные с характеристикой структуры пространства (верх – низ, небо – земля, земля – подземное царство, правый – левый, восток – запад, север – юг)» [Мифы народов мира 1991–1992, II, 162]. Нужно заметить, что образ Княж-городка, где живет семья главного героя, создается в повести различными художественными приемами, и большую роль играет описание его географического положения, данное через восприятие взрослого повествователя. Низкое расположение города, к которому «приходится спускаться по отлогому шоссе» [Короленко 1960, 5], имплицирует его отрицательное семантическое значение, которое закрепляется бытовыми деталями: «Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских “заезжих домов”, казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. <…> Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли» [Короленко 1960, 6]. Этому описанию предшествует замечание иронического характера: при подъезде к Княж-городку «вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города» [Короленко 1960, 5]. Отметим также, что с трех сторон городок окружен прудами, которые постепенно превращаются в болото – место в славянской мифологии «опасное и “нечистое”, где водятся черти» [Славянская мифология 1995, 62]. Так возникает разноплановый образ города, созданный в совершенно определенном – сугубо негативном – ключе.
Полной противоположностью городу является загородное пространство, где будничная суета сменяется тишиной и покоем: «Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа» [Короленко 1960, 6]. Топос кладбища, расположенного на горе, образует оппозицию топосу города как верх – низу и вечное – преходящему. Потеряв интерес к городу, «все углы» которого стали ему «известны до последних грязных закоулков» [Короленко 1960, 31], Вася переносит свое внимание на заброшенную часовню, расположенную возле кладбища. «Родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города», «мещанская униатская часовня» [Короленко 1960, 8] когда-то составляла своеобразный противовес «гордому панскому замку» [Короленко 1960, 8], но теперь, как и он, несла на себе печать смерти. Движимый вначале простым любопытством, желанием «заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там нет ничего, кроме пыли» [Короленко 1960, 31], Вася с помощью приятелей (которых он уговорил обещанием яблок и булок) залезает на окно здания и попадает внутрь. Так маленькому страннику открывается своеобразный вход, «узкий путь» вертикального восхождения в «мир на горе», который пространственно противопоставлен долинному миру жителей городка. Часовня в этом контексте воспринимается как особое сакральное место, вход в которое возможен только для Васи, хотя вначале и другие ребята следовали за ним. Примечательно, что в заброшенном здании сохранились три главных храмовых атрибута, необходимых для совершения богослужения и включающих читателя в контекст нетленного, вечного: престол, столик для Евангелия и распятие Спасителя [Короленко 1960, 33–34].
Неожиданное знакомство с детьми, оказавшимися в часовне, открывает главному герою совершенно новый, неизвестный ему прежде мир, живущий по своим законам в нарушение общепринятым, что вызывает у него состояние когнитивного диссонанса. Так, узнав, что Валек принес ворованную еду, Вася произносит твердо усвоенную когда-то формулу «воровать нехорошо» [Короленко 1960, 47], но вид маленькой Маруси, плакавшей от голода, вызывает в нем душевное смятение. Утратив дом в духовном смысле, сын судьи все же не представляет себе, что можно не иметь его чисто физически. Но его вопрос к детям «Где же ваш дом?» остается без ответа, а вскоре он понимает, что они живут под землей, в склепе. Склеп – «закрытое подземное или углубленное в землю помещение, в котором устанавливаются гробы с умершими» [Словарь русского языка 1981–1984, IV, 110] – изначально заключает в себе символику смерти, но в повести предстает как амбивалентный образ: он является спасительным убежищем для несчастных «темных личностей», выселенных из замка, однако, оказавшись домом для Маруси, становится для нее и могилой. Серый камень его холодных стен в сознании юного рассказчика предстает одушевленным существом – чудовищем, вытягивающим жизнь из маленькой девочки.
Известно, что в мифопоэтическом сознании «вертикальная структура космоса трехчленна и состоит из верхнего мира (небо), среднего мира (земля) и нижнего мира (подземное царство, преисподняя). <…> С каждой из этих структур связаны особые мифологические персонажи или даже целые их классы (ср. более или менее обычное распределение: боги, души праведных – небо, люди – земля, демоны, души неправедных – подземное царство; соответственно распределяются и животные: птицы – копытные – хтонические животные, чудовища и т.п.) [Мифы народов мира 1991–1992, II, 10]. Оппозиция верхнего и нижнего мира – неба и подземного царства – в сюжетной структуре повести являет собой своеобразный «перевертыш» этих мифопоэтических представлений. Антитезой серому камню – «темному, молчаливому чудовищу подземелья» – становится метафорический образ птицы, актуализирующий мотив неба. Сравнение с птицей появляется при описании бродящих по улицам детей, с состраданием приглядывающихся к «темным личностям» («мы, малые ребята, как стая птиц…» [Короленко 1960, 8]), старика-«профессора», тоже живущего в подземелье и подвергавшегося издевательствам местных «уличных верзил» («Бедный старик <…> точно подстреленная птица» [Короленко 1960, 14]), но особенно важную роль оно играет при изображении маленькой Васиной подружки: во время игры, «когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала» [Короленко 1960, 41]. В отличие от пойманных в ловушку воробьев, которых дети сразу же отпускали на волю, Маруся не может покинуть подземелье, вытягивающее из нее здоровье и силы. Образ «захлопнутой пташки» имеет не только социальную семантику, являясь точным выражением судьбы ребенка, обреченного на гибель в жестоком и беспощадном мире, но и символическую. Все персонажи, отмеченные в повести сравнением с птицей (имеющей символику человеческой души [Керлот 1994, 422]), наделены чутким и ранимым сердцем, что имплицирует их причастность к верхнему – небесному – уровню в мифологической мировой вертикали.
Таким же семантическим «перевертышем» отмечена в повести и оппозиция среднего и нижнего мира, реализующаяся как земля – подземелье: в противоположность обывателям, всячески стремящимся отгородиться от чужого несчастья, обитатели подземелья – нищие и воры – не дают в обиду слабых и убогих, помогают немощным, делятся едой и вообще пытаются жить, следуя принципу справедливости. Среди них оживает душа Васи, в этом странном сообществе он неожиданно обретает некое подобие семьи: «…тут я был нужен, – вспоминает рассказчик, – я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Ва- лек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза» [Короленко 1960, 59]. Тыбурций Драб, самая колоритная фигура в повести, составляет в сюжетном и психологическом плане контрастную пару отцу рассказчика: не имея, по всей вероятности, кровного родства с Валеком и Марусей, он проявляет к ним сердечное участие, любовь и заботу, как настоящий отец, укрепляя в сознании мальчика горькую мысль: «А меня отец не любит» [Короленко 1960, 43]. Противоположными являются не только социальные роли этих персонажей (вор и судья), но и их жизненная философия. Молчаливый и сдержанный, никогда ничего не обсуждавший с сыном, отец рассказчика предстает человеком чести: строго следуя юридическому закону, он не поступается и совестью. Нельзя не отметить, что самую высокую характеристику он получает именно от Тыбурция – в передаче Валека она звучит так: Тыбурций «говорит, что судья – самый лучший человек в городе, и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин. Вот из-за них троих... – Что из-за них? – Город из-за них еще не провалился» [Короленко 1960, 43].
Именующий себя философом Тыбурций произносит длинные тирады, непонятные для детского ума, но заставляющие читателя о многом задуматься. Из этих монологов, расцвеченных латинскими выражениями, становится понятно, что юридический закон нарушается им только в силу обстоятельств, хотя несправедливость общественного устройства является для него бесспорной. Тыбурций исповедует высший нравственный закон, основанный на любви – отсюда его главный жизненный принцип, навсегда оставшийся в памяти шестилетнего ребенка: надо «иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня» [Короленко 1960, 52]. Обретение мальчиком Васей истинного дома, возрождение его семьи происходит благодаря этому странному человеку: приход его после смерти Маруси в дом судьи для объяснения разрешает остроконфликтную ситуацию, приводя к примирению отца с сыном.
Заметим, что сюжетная организация повести имеет в своей основе описанную в книге В.И. Тюпы архаическую четырехфазную модель, где первой является «фаза обособления» (Выделено везде автором – Н.Ж., А.К.), представленная «жизненной позицией, предполагающей разрыв или существенное ослабление прежних связей»; второй «выступает фаза (нового) партнерства: установление новых межсубъектных связей. <…> Третью фазу <…> следует обозначить как лиминальную (пороговую) фазу испытания смертью. Она может выступать в архаических формах ритуально-символической смерти героя или посещения им потусторонней “страны мертвых”, может заостряться до смертельного риска (в частности, до поединка), а может редуцироваться до легкого повреждения или до встречи со смертью в той или иной форме». Последняя фаза представляет собой преображение, в ней «имеет место перемена статуса героя – статуса внешнего (социального) или, особенно в новейшее время, внутреннего (психологического). Весьма часто такое перерождение, символическое “новое рождение” сопровождается возвращением героя к месту своих прежних, ранее расторгнутых или ослабленных связей, на фоне которых и акцентируется его новое жизненное качество» [Тюпа 2009, 39–40]. Отчуждение мальчика Васи в начале событий, сопровождающееся исчезновением из дома, благодаря новым знакомствам сменяется постепенным переосмыслением всего происходящего, а пребывание в подземелье – локусе смерти – открывает новые смыслы, способствуя внутреннему преображению и возвращению (физическому и метафорическому) в свой Дом, к отцу. Духовное странствие героя напоминает также о евангельском сюжете возвращения блудного сына.
Начало повествования отмечено оппозицией жизнь – смерть, ею же замыкается сюжет: образ Марусиной могилы, которая, в отличие от других захоронений, «каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами» [Короленко 1960, 70], обладает амбивалентностью – идея смерти здесь разрушается семантикой вечного покоя и вечной жизни. В пространственной организации произведения этот локус играет объединяющую для семьи рассказчика роль: «Мы с Соней, а иногда даже с отцом, – вспоминает он, – посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности» [Короленко 1960, 70]. Открытый финал повести дает возможность читателю самому определить вектор жизненного пути, который был избран рассказчиком и его сестрой: сформированные в душах детей ценностные установки позволяют предполагать, что произнесенные перед отъездом из городка обеты не будут ими забыты, а тот духовный дом, который был здесь обретен, останется с ними навсегда.
Список литературы Дом как аксиологическое понятие в повести В.Г. Короленко "В дурном обществе"
- Воронцова Л.И. Мифологема «дом» в прозе Л. Петрушевской // Вестник Тамбовского университета. 2014. № 5. С. 163-167.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955. 669 с.
- Дедюхина О.В., Иванова О.И. Концепция детства в произведениях Ф.М. Достоевского и В.Г. Короленко // Казанская наука. 2021. № 9. С. 18-22.
- Жилина Н.П. Идея дома в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // Вестник РГУ им. И. Канта. Сер.: Филологические науки. 2009. № 8. С. 65-68.
- Жилина Н.П. Специфика авторской модальности в рассказе В.Г. Короленко «Сон Макара» // Модальность. Коммуникация. Текст: сборник научных трудов международной научной конференции. Калининград: БФУ им. И. Канта, 2021. С. 67-73.
- Закирова Н.Н., Крестьянинова К.С. Проблема детства в свете экогуманизма В.Г. Короленко // Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XIX Кирилло-Мефодиевские чтения: материалы Международной научно-практической конференции. М.: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2018. С. 342-345.
- Иванова О.И. Образ сада в произведениях В.Г. Короленко // Проблемы школьного и дошкольного образования: материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции. Глазов: Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко, 2022. С. 55-60.
- Иткин М.Б. От «Дурного общества» к «Детям подземелья»: как В.Г. Короленко стал детским писателем // Текстология и историко-литературный процесс: сборник статей по материалам VIII Международной конференции молодых исследователей. М.: БукиВеди, 2020. С. 97-109.
- Кандрашкина О.О. Категории пространства, времени и хронотопа в художественном произведении и языковые средства их выражения // Известия Самарского научного центра Российской Академии Наук. 2011. Т. 13. № 2-5. С. 12171221.
- Керлот Х.Э. Словарь символов. М: REFL-book, 1994. 608 с.
- Кораблев А.А. Мотив «Дома» в творчестве М. Булгакова и традиции русской классической литературы // Классика и современность. М.: МГУ, 1991. С. 239-247.
- Короленко В.Г. В дурном обществе // Короленко В.Г. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2. М.: Молодая гвардия, 1960. С. 5-70.
- Лахина Я.В. Корреляция художественных модусов в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» // Первые научные штудии: сборник трудов конференции. Вып. 8. Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2018. С. 93-101.
- Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя // Лот-ман Ю.М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 21-184.
- Лотман Ю.М. Дом в «Мастере и Маргарите» // Лотман Ю.М. О русской литературе: Статьи и исследования (1958-1993). СПб.: Искусство-СПБ, 1997. С. 748-755.
- Мифы народов мира: энциклопедия в 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1991-1992.
- Орлова С.А. Символика локативов дома в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» // Вестник Башкирского университета. 2010. № 3. С. 710-716.
- Пространство и время в литературе и искусстве. Дом в европейской картине мира: сб. статей. Даугавпилс, Даугавпилсский университет, 2001. 195 с.
- Радомская Т.И. Дом и Отечество в русской классической литературе первой трети XIX в. Опыт духовного, семейного, государственного устроения. М.: Совпадение, 2006. 240 с.
- Скопкарева С.Л. Эколого-мировоззренческий аспект произведений В.Г. Короленко // Историко-культурное наследие славянских народов Камско-Вятского региона. 2016. № 2(2). С. 114-127.
- Славянская мифология: энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. 416 с.
- Словарь русского языка: в 4 т. Т. 4 / под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981-1984.
- Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.
- Темаева Х.Н. Особенности синтетической прозы В.Г. Короленко // Известия Чеченского государственного университета. 2019. № 4(16). С. 116-120.
- Тресиддер Дж. Словарь символов / пер. с англ. С. Палько. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 448 с.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М.: Академия, 2009. 336 с.
- Шестакова Е.Ю. Образ дома как ценностное измерение в художественной картине мира (на материале романа И.С. Шмелева «Лето Господне») // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. Т. 21. Вып. 1. С. 75-79.
- Шутова Е.В. Архетипы «Дом» и «Бездомье» в мифологии, эпосе и фольклоре // Вестник Курганского государственного университета. № 4. С. 121-124.