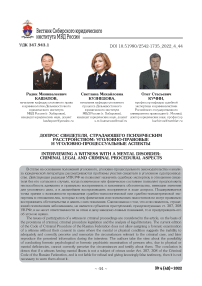Допрос свидетеля, страдающего психическим расстройством: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты
Автор: Кашапов Радик Минивалеевич, Кузнецова Светлана Михайловна, Кучин Олег Стасьевич
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (49), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье на основании положений уголовного, уголовно-процессуального законодательства и анализа юридической литературы рассматриваются проблемы участия свидетеля в уголовном судопроизводстве. Действующая редакция УПК РФ не позволяет назначить судебную экспертизу в отношении свидетеля без его согласия в случаях, когда психическое или физическое состояние позволяет предположить неспособность адекватно и правильно воспринимать и запоминать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, а в дальнейшем воспроизводить воспринятое в ходе допроса. Поддерживается точка зрения о возможности проведения судебно-психологической или судебно-психиатрической экспертизы в отношении лиц, которые в силу физических или психических недостатков не могут правильно воспринимать обстоятельства и давать о них показания. Сделан вывод о том, что если свидетель, страдающий психическим заболеванием, не является субъектом преступлений, предусмотренных ст. 307, 308 УК РФ, и не несет ответственности за отказ и дачу заведомо ложных показаний, то и предупреждать его об этом не нужно.
Потерпевший, свидетель, вменяемость, субъект преступления, достоверность показаний, правовой статус, уголовное судопроизводство, судебная экспертиза
Короткий адрес: https://sciup.org/140296382
IDR: 140296382 | УДК: 347.943.1
Текст научной статьи Допрос свидетеля, страдающего психическим расстройством: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты
С татус лиц, страдающих психическими расстройствами, определяется и регулируется нормами различных отраслей российского законодательства.
В рамках гражданского судопроизводства лица, страдающие психическими расстройствами, по объему прав и обязанностей подразделяются на дееспособных, ограниченно дееспособных и недееспособных. Признание гражданина недееспособным влечет для него последствия, связанные с тем, что он не может совершать гражданско-правовые сделки, исполнять обязанности и нести ответственность за свои действия.
В Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Российской Федерации в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями и совершившими общественно опасные деяния, закреплен термин «вменяемость».
Понятие вменяемости в уголовном законодательстве отсутствует. Вменяемым признается человек, который отдает отчет своим действиям и может руководить ими, в силу чего способен нести уголовную ответственность.
В ст. 21 УК РФ законодателем дано определение невменяемости, под которой понимается неспособность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.
В предложенной законодательной формулировке специалисты выделяют два критерия невменяемости – юридический и медицинский.
В случаях, когда психическое или физическое состояние подозреваемого (обвиняемого) вызывает сомнение во вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, назначается судебно-психиатрическая экспертиза. В зависимости от ее результатов могут применяться правила производства, предусмотренные главой 51 УПК РФ.
Наличие психического или физического заболевания применительно к потерпевшему рассматривается в уголовном судопроизводстве как обязательное основание для назначения экспертизы, если это заболевание вызывает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания (п. 4 ст. 196 УПК РФ). Обязательность для потерпевшего означает, что экспертиза проводится вне зависимости от его воли, обеспечена мерами государственного принуждения, в том числе уголовной ответственностью за отказ от ее прохождения.
Несмотря на схожесть процессуального статуса потерпевшего и свидетеля, аналогичной нормы применительно к показаниям свидетеля уголовно-процессуальный кодекс не содержит.
Е.К. Антонович предлагает использовать в уголовном судопроизводстве понятие правосубъектности в отношении свидетелей, страдающих психическими расстройствами, и несовершеннолетних свидетелей [1, с. 24-27].
В контексте рассматриваемой темы хотелось более подробно остановиться на проблеме оценки достоверности показаний свидетеля, когда его психическое или физическое состояние позволяет предположить неспособность адекватно и правильно воспринимать и запоминать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, а в дальнейшем воспроизводить воспринятое в ходе допроса.
Показания свидетелей, являясь доказательствами по уголовному делу, используются для установления обстоятельств, подлежа- щих доказыванию, и направлены на быстрое, полное, объективное и справедливое расследование, рассмотрение и разрешение уголовного дела. При этом свидетельские показания являются доказательствами только тогда, когда они достоверны, то есть отражают действительную, истинную картину происшедших событий, составляющих предмет допроса. Во многом степень достоверности определяется исходя из характеристики источника – носителя сведений. Когда таким носителем является лицо, страдающее психическим заболеванием, достоверность его показаний вызывает сомнение.
Вызов лица, располагающего сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, к должностному лицу, производящему расследование, или в суд ставит его в процессуальный статус свидетеля, наделяя при этом процессуальными правами, обязанностями и ответственностью за их невыполнение.
Заметим, что в отношении свидетеля, страдающего психическим заболеванием или отстающего в развитии, законом не предусмотрено исключений из общего порядка производства допроса. Следователь (дознаватель) обязан допросить его по правилам, предусмотренным нормами уголовно-процессуального закона, содержащими в том числе требование о предупреждении об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Имеющееся заболевание не позволяет свидетелю отказаться от дачи показаний, если на это лицо не распространяются правила свидетельского иммунитета.
Вместе с тем субъектом преступлений, предусмотренных ст. 307, 308 УК РФ, является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Кроме того, данные преступления совершаются с прямым умыслом, то есть, давая заведомо ложные показания, свидетель осознает, что сообщает должностному лицу, производящему допрос, не соответствующую действительности информацию, желая выдать ее за достоверную. В случае сообщения ложной информации вследствие за- бывчивости, склонности к фантазированию, когда лицо заблуждается относительно подлинности сообщаемой им информации (что как раз и характерно для лиц, страдающих психическими заболеваниями), оно не несет уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Возникает вопрос: нужно ли предупреждать об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний свидетеля, если в распоряжении следователя есть судебное решение о признании его недееспособным либо история болезни, содержащая информацию о тяжелом психическом заболевании? Как оценивать показания такого свидетеля с точки зрения их достоверности?
Как справедливо утверждает Н.В. Азаре-нок, для того чтобы отдельные сведения могли считаться доказательством, они должны быть прямо определены в соответствующих статьях «доказательственного права» как УПК РФ, так и УК РФ (прежде всего в ст. 307 УК РФ). Без наличия уголовной ответственности свидетеля его показания не будут отвечать требованию достоверности доказательств. Поэтому ст. 307 УК РФ, по сути, участвует в формировании перечня доказательств в уголовном процессе [2, с. 35].
Логика рассуждений приводит нас к мысли о том, что если свидетель, страдающий психическим заболеванием, не является субъектом преступлений, предусмотренных ст. 307, 308 УК РФ, и не несет ответственности за отказ и дачу заведомо ложных показаний, то и предупреждать его об этом не нужно.
К сожалению, история болезни, а также наблюдения должностного лица, отмечающего явные странности в поведении и нелогичность показаний, могут говорить лишь о возможном наличии психического заболевания, которое предположительно может повлечь юридически значимые последствия.
На практике возникают случаи, когда, сомневаясь в достоверности показаний свидетеля, с целью установления способности правильно воспринимать и запоминать собы- тия сторона защиты заявляет ходатайство о производстве в отношении него судебно-психиатрической экспертизы. Если свидетель соглашается добровольно пройти экспертное исследование и дает на это письменное согласие, то проблем не возникает, достоверность его показаний оценивается с учетом заключения судебно-психиатрической или судебно-медицинской экспертизы.
Однако чаще следователи сталкиваются с нежеланием свидетеля подвергаться экспертному исследованию. Как уже было указано ранее, производство принудительной судебной экспертизы в отношении свидетеля закон запрещает.
Мы согласны с В.М. Корнуковым, что вследствие отказа свидетеля от прохождения судебной экспертизы может возникнуть опасность незаконного ограничения более существенных, чем подвергнуться без согласия экспертному исследованию, прав других участников уголовного процесса. Чтобы этого не допустить, в законе должна быть предусмотрена возможность производства судебной экспертизы в отношении свидетеля без его согласия в исключительных случаях, когда без этого невозможны правильное расследование и рассмотрение уголовного дела1.
Ряд ученых-процессуалистов видят разрешение проблемы в законодательном закреплении производства судебной экспертизы в отношении свидетеля (при наличии оснований сомневаться в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела) принудительно, без его согласия.
Так, Е.П. Гришина пишет, что «… отмеченные обстоятельства указывают на объективную необходимость дополнения ст. 196 УПК РФ требованием обязательного назначения экспертизы в отношении свидетеля посредством внесения соответствующих дополнений в п. 4 и 5 данной статьи» [5, с. 229-230].
Е.В. Ветрила предлагает внести изменения в ст. 56 УПК РФ: «… ч. 3 ст. 56 УПК РФ следует изложить в следующей редакции: "3. Не подлежат допросу в качестве свидетеля: 6) лицо, которое согласно заключению судебно-психиатрической или судебно-медицинской экспертизы в силу своих физических или психических недостатков или вследствие недостаточного психического развития не может правильно воспринимать факты, имеющие доказательственное значение, и давать о них показания"» [4, с. 157-165].
Е.А. Артамонова считает, что ч. 4 ст. 195 УПК РФ следует дополнить соответствующей фразой и изложить в следующем содержании: «4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля, за исключением случаев, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде. Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела» [3, с. 27-30].
Вместе с тем в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» указано, что недопустимо назначение и производство судебной экспертизы в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2, 4, 5 ст. 196 УПК РФ, а также в соответствии с ч. 5 ст. 56, ч. 4 ст. 195 УПК РФ в отношении свидетеля без их согласия либо согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.
Следовательно, и складывающаяся судебная практика не идет вразрез с указанным постановлением Верховного Суда РФ.
Так, суд оставил без изменения постановление о прекращении производства ввиду новых обстоятельств по уголовному делу в отношении осужденного за убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, мошенничество и грабеж, поскольку отсутствуют доказательства, опровергающие факт смерти потерпевшего. Кроме того, указал, что уголовно-процессуальным законом проведение судебно-психиатрической экспертизы для определения вменяемости свидетеля не предусмотрено, доводы жалобы и в этой части являются несостоятельными1.
В отношении потерпевших УПК РФ не запрещает проводить судебно-психиатрическую экспертизу, тем не менее встречаются примеры, когда органы предварительного расследования и суды неохотно идут на такое разрешение, чаще отказывают в удовлетворении заявленного ходатайства.
Так, в кассационной жалобе осужденный Х. оспаривал приговор Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 6 августа 2019 г., апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от 11 октября 2019 г. вследствие вынесения их по формальным основаниям. Судом не была изучена личность потерпевшего, который страдает психическим заболеванием, злоупотребляет психоактивными веществами, склонен к фантазиям и преувеличению. Комплексная комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении потерпевшего по ходатайству стороны защиты проведена не была. Судом не учтен факт неоднократного привлечения его к уголовной ответственности, а также к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Х. просил отменить приговор и апелляционное определение, вынести оправдательный приговор. Вопреки доводам жалобы положенные в основу обвинительного приговора показания потерпевших судом оценены и правильно приняты во внимание как согласующиеся с другими доказательствами, оснований для оговора осужденных потерпевшими не установлено. Предусмотренных п. 4 ст. 196 УПК РФ оснований для проведения в отношении потерпевшего судебной психолого-психиатрической экспертизы не установлено. С учетом изложенных обстоятельств указанные в кассационных жалобах сведения о личности потерпевшего также не свидетельствуют о недопустимости его показаний2.
Для установления физического или психического состояния свидетеля, а также для определения его возраста (если необходимые документы отсутствуют) также в обязательном порядке должна назначаться экспертиза (в противном случае невозможно на практике определить продолжительность допроса и решить вопрос о вызове психолога). Подобного рода законодательное нововведение послужит уравниванию статуса свидетеля с такими участниками уголовного судопроизводства, как обвиняемый и потерпевший, в вопросе защиты прав и охраняемых законом интересов личности [6].
Вне всякого сомнения, данное предложение следует поддержать. Внесение указанных изменений в закон будет правильным и логичным решением проблемы, однако на сегодняшний день они носят лишь теоретический характер.
Для раскрытия преступления и привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, важны сведения, которые могут этому способствовать. С другой стороны, показания свидетеля, не соответствующие действительности, могут привести к осуждению невиновного.
Актуальность проблемы оценки показаний свидетеля, страдающего психическим заболеванием либо отстающего в развитии, с точки зрения их достоверности возрастает, если учитывать, что сообщать сведения, относящиеся к предмету доказывания, он может и при производстве других следственных действий, таких как очная ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, предъявление для опознания. Совокупность полученных при этом доказательств ложится в основу принимаемых по уголовному делу решений, в том числе приговора.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен принцип свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению следователя, дознавателя, прокурора и суда. Оценивая доказательство, должностное лицо или суд сопоставляет его с другими, и если устранить сомнение в его достоверности не удалось (свидетель отказался от производства в отношении него судебно-психиатрической экспертизы), то любое сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. Показания, полученные от такого лица, не могут носить доказательственного значения.
До внесения в уголовно-процессуальный закон изменений, позволяющих принудительное производство судебной экспертизы в отношении свидетеля, когда его психическое или физическое состояние вызывает сомнение в возможности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, возможно использовать полученную информацию как ориентирующую для раскрытия преступления и обнаружения других доказательств.
Список литературы Допрос свидетеля, страдающего психическим расстройством: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты
- Антонович, Е.К. Правосубъектность свидетеля в уголовном судопроизводстве: миф или реальность? / Е.К. Антонович // Российский следователь. - 2019. - N 12. - С. 119-120.
- Азаренок, Н.В. Изменения ст. 307 УК РФ с позиции уголовно-правовой и уголовно-процессуальной правовой доктрины / Н.В. Азаренок // Российский следователь. - 2020. - N 8. - С. 33-36.
- Артамонова, Е.А. О соразмерности затрагиваемых правовых интересов обвиняемого и свидетеля при принятии решения о производстве судебной экспертизы в отношении последнего / Е.А. Артамонова // Адвокатская практика. - 2019. - N 2. - С. 27-30.
- Ветрила, Е.В. К вопросу о правосубъектности свидетеля / Е.В. Ветрила // Вопросы российского и международного права. - 2016. - N 8. - С. 157-163.
- Гришина, Е.П. Концептуальные и правовые проблемы использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве России: монография / Е.П. Гришина. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 320 с.
- Зайцев, О.А. Реализация международных принципов и стандартов защиты детей - жертв и свидетелей преступлений в уголовно-процессуальном законодательстве России / О.А. Зайцев, А.Ю. Епихин, Е.П. Гришина // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2020. - N 6. - С. 20-33.