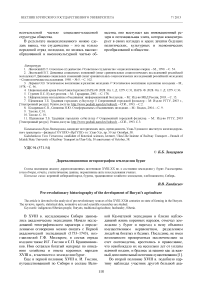Дореволюционная историография земледелия бурят
Автор: Зандараев Батор Баясхаланович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: История, историография и источниковедение
Статья в выпуске: 7, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу дореволюционных источников XVIII-XX вв. о состоянии земледелия у бурят. Рассматриваются обзоры, отчеты, статистические данные, нормативные акты и исследования ученых.
Коренной сибирский народ, буряты, традиционное хозяйство земледелие, хлебопашество, сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/148181965
IDR: 148181965 | УДК: 94
Текст научной статьи Дореволюционная историография земледелия бурят
В XVIII в. исследованием Сибири занимались академические экспедиции. Начало исследований этнографического характера с определенными оговорками можно связать с Первой академической экспедицией (1733-1743), возглавляемой Г.Ф. Миллером; в состав отряда входили также И Г. Гмелин и СП. Крашенинников. Ими оставлен богатый материал по описанию хозяйства и опыта коренных народов XVIII в., в частности о земледелии бурят.
Еще в первой половине XVIII в. И. Гмелин, путешествовавший по Сибири в составе Вели кой Камчатской экспедиции и близко наблюдавший жизнь коренных народов, отмечал земледелие у бурят и переход к нему объяснял имущественным неравенством, разделением людей на богатых и бедных. Последние, не имея возможности прокормиться исключительно за счет скотоводства, крестились в православие, что освобождало их на несколько лет от уплаты ясачной подати, и брались за пашню как за важный дополнительный источник существования [1].
Во второй половине XVIII в. подобную картину наблюдал участник другой большой ака- демической экспедиции в Сибири И. Георги. Он посетил районы Предбайкалья и Забайкалья в начале 1770-х гг. и результаты своих наблюдений изложил в «Описании всех обитающих в Российском государстве народов», он привел немало интересных сведений о бурятах, в частности об их занятии земледелием, о площади посевов в отдельных хозяйствах, засеваемых злаковых культурах, орудиях и приемах обработки почвы. По его наблюдениям, в окрестностях Иркутска и вниз по течению Ангары посевы имелись примерно в каждом третьем-четвертом семействе бурят [2]. Любопытно отметить, что спутник Георги по научной экспедиции П. Паласе, также побывавший в Предбай-калье и Забайкалье, категорически отрицал существование среди бурят земледельцев. По его мнению, иркутские, балаганские, верхоленские и ольхонские буряты «не меняют еще скотоводства и охоты на земледелие» [3].
Как и Гмелин, Георги считал, что в основе происходящих перемен в хозяйственной жизни бурят лежит бедность, слабая обеспеченность части улусного населения скотом. Но бедность являлась, по мнению И. Георги, следствием не социально-экономических факторов, а результатом воздействия географической среды, суровых для скотоводства климатических условий Восточной Сибири. «Многие из сих бурят, - писал он об иркутских бурятах, - по причине разных препятствий в скотоводстве от суровости климата и местоположений совокупили оное с земледелием, хотя их пристрастие к кочевой жизни осталось неизменным» [4].
Во второй половине XVIII в. появились труды М. Татарникова и Ф. Ланганса, в которых отмечается наличие земледелия у бурят [5]. Лан-гансу удалось собрать и систематизировать новый фактический материал о народах Сибири и на этой основе создать оригинальный труд, отличающийся от работ его предшественников.
К числу немногих работ XVIII в., в которых в той или иной мере нашло отражение бурятское земледелие, относится малоизвестное сочинение Егора Пестерева «Примечания о прикосновенных около Китайской границы жителях, как Российских ясашных татарах и сойотах, так и китайских мунгалах» [6]. Будучи пограничным комиссаром, Е. Пестерев по долгу службы бывал в различных районах Восточной Сибири, соприкасался с бытом бурят и хорошо понимал происходящие в их жизни перемены. Благодаря ему мы достоверно знаем, что во второй половине XVIII в., наряду с другими территориальными группами бурят, земледелием стали заниматься и нижнеудинские буряты. Он, как и другие авторы того периода, пишет о бурятах-земледельцах весьма лаконично, ограничиваясь лишь беглыми этнографическими штрихами, но при этом материалы, собранные им и его современниками, дают возможность хотя бы частично описать состояние земледелия того периода.
Известный ученый О.М. Ковалевский, осуществивший научную поездку в конце 20-х гг. XIX в, отметил, что некоторые группы бурят, например, «балаганские и идинские занимаются более земледелием, нежели скотоводством» [7].
Об этом же свидетельствуют и другие авторы. Бывший верхнеудинский земский исправник М.М. Геденштром в книге «Отрывки о Сибири», изданной в 1830 г., пишет, что «балаганские буряты имеют обширное хлебопашество» [8]. Факт весьма примечательный, если даже считать оценку наших авторов несколько преувеличенной. Достаточно вспомнить, что еще полвека назад П.С. Паласе отрицал существование земледелия. Изменилась внутренняя экономическая политика государства и, соотвественно, обстановка в улусах. Прогресс бурятского земледелия был на лицо, и об этом шла речь в литературе того периода. В целом она сыграла большую роль в изучении бурятского земледелия XVIII в., если учитывать, что основная масса архивных документов того периода была повреждена хо-ринским пожаром в 1849 г. и особенно иркутским пожаром 1879 г.
В XIX в. история народов Сибири привлекала внимание авторов различных идейных течений. Интересы правящих кругов к Сибири, практические задачи по организации управления краем породили официальное направление в историографии. Так, большой и интересный фактический материал о бурятах-хлебопашцах собрали в 1840-1850-е гг. Л. Львов и Ю. Гагемейстер. Чиновник Министерства государственных иму-ществ Л. Львов, будучи с ревизией в Забайкалье и имея свободный доступ во все местные архивы, составил обстоятельное описание хозяйства русских и бурятских крестьян, их поземельного устройства, социального и экономического положения. Несомненную ценность представляют материалы о посевах у бурят, способах ведения земледелия, в частности об устройстве оросительных каналов для полива посевов [9]. По обилию фактического материала «Общее обозрение Забайкальского края» Л. Львова является одной из лучших работ в литературе первой половины XIX в.
С ним может поспорить лишь труд другого чиновника того же министерства Ю.А. Гагейме- стера «Статистическое обозрение Сибири» [10]. Свой фундаментальный двухтомный труд автор создал на основе литературных данных и обширного круга документальных источников, хранившихся в архивах министерств и центральных ведомств, в частности Первого и Второго Сибирских комитетов. Этот труд создавался по заказу правительства и, естественно, был выдержан в форме официального документа. Поэтому ценность в нем представляют лишь конкретные материалы о динамике развития земледелия у различных территориальнородовых групп бурят, об их связи с рынком, о бытовых переменах, обусловленных земледелием, - изменения пищевого рациона, строительство изб, амбаров и др. Хотя большая часть статистического материала относится к 18401851 гг., эти сведения имеют значение как «отправные точки» для изучения последующих изменений, в частности экономики и других сторон быта коренных народов.
Гораздо менее удачное издание подобного же рода было осуществлено правительством к 300летнему юбилею дома Романовых. Преследуя цель прославления политики самодержавия в Сибири, трехтомная «Азиатская Россия» содержала более скромные по сравнению с трудом Гагейместера статистические материалы, заимствованные из отчетов губернаторов и царских министров о поездках в Сибирь. В первом томе приводятся статистические материалы по бурятским ведомствам о количестве населения, рождаемости, смертности, роде занятий, посевных площадях [11].
В первой половине XIX в. активно издавался в столичных периодических изданиях (особенно в «Журнале Министерства внутренних дел») сибирский краевед Н.С. Щукин. Его перу принадлежит серия статей, посвященных различным вопросам экономики и быта восточносибирского крестьянства [12]. Немало места отведено в них бурятскому крестьянству, характеристике скотоводства и земледелия в различных ведомствах, землевладения и землепользования, системе полеводства и др.
В 1843 г. в том же «Журнале Министерства внутренних дел» (Ч. 25, 26) увидел свет труд другого сибирского краеведа В. Паршина «Поездка в Забайкальский край», он вышел через год в Москве отдельным изданием [13]. В нем нет сколько-нибудь полных данных о состоянии земледелия у бурят. Приводимые сведения разбросаны по различным главам и носят чисто описательный характер. Автор не делает попытки разобраться в них, вникнуть в причинно- следственные связи такого интересного явления, как развитие земледелия в условиях кочевой жизни бурят. Но и этот небольшой материал представляет известную ценность, так как он исходит от очевидца, который помимо своих наблюдений пользовался документами, несо-хранившимися до наших дней.
Отрывочные сведения о бурятском земледелии содержатся в различного рода обширных обзорах Иркутской губернии [14]. Как правило, статистические материалы подобраны в них тенденциозно и преследуют цель - показать рост благосостояния бурятских крестьян под управлением сибирской администрации. Реальная картина в них растворилась в усредненных цифрах.
Таким образом, в первой половине XIX в. Восточная Сибирь уже не знала академических экспедиций. На смену им пришли исследователи-одиночки, люди с разными судьбами, взглядами и жизненными интересами. Среди них были ученые, чиновники всех рангов, представители местной сибирской интеллигенции и политические ссыльные. Каждый из них по-своему подходил к проблеме Сибири, к оценке исторического прошлого, настоящего и будущего коренных народов этого края. В. Паршин, например, писал о бурятах, что они влачат бытие свое в дикой простоте, не сохранили ни памятников, ни сказаний о днях своего прошлого [15].
По утверждению М. Геденштрома, «история Сибири начинается с покорения ее россиянами» [16] . Отсюда следовал верноподданический вывод о цивилизаторской миссии царизма среди народов Сибири. Конкретным ее проявлением считалось развитие земледелия у бурят, которое якобы стало возможным, благодаря «заботам и вниманию» к нуждам кочевников скотоводов со стороны губернских властей, в частности иркутского губернатора Н. Трескина, который в 1812 г. издал «Положение о распространении хлебопашества среди инородцев». Версия о том, что Н. Трескин положил начало земледелию у бурят, была довольно широко распространена и поддерживалась в сибирской литературе длительное время. В начале 70-х гг. XIX в. эту версию опроверг сибирский писатель и общественный деятель В.И. Вагин. В своей книге «Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского с 1819 по 1822 г.» он писал: «Обыкновенно думают, что хлебопашество у иркутских бурят введено только при Трескине. Это мнение совершенно ошибочно. Некоторые роды инородцев, кочующих по сию сторону Байкала, занимались хлебопашеством еще в конце прошедшего столетия» [17].
Официальное направление в историографии особенно оживилось на рубеже XIX и XX столетий в связи с началом массового переселения и землеустройства в Сибири, когда значительная часть земель коренных народов, в том числе и бурятского, отошла в колонизационный фонд. Эти события вызвали острую дискуссию на страницах газет и журналов, в научных и общественных кругах, породили немало общих и частных исследований по истории землевладения и землепользования у сибирских народов, в частности у бурят [18]. В этих исследованиях затрагивались земельные отношения между русским и бурятским крестьянством феодальной эпохи, между отдельными территориальными группами бурят, юридическое право и фактические формы землепользования, влияние земледелия на кочевой быт, политика царизма по отношению к бурятскому крестьянству.
Авторы официального направления, проповедуя тезис о монархической власти как основе исторического прогресса Сибири, активно защищали переселенческую политику царизма и земельный грабеж местного населения. Они надеялись за счет обезземеливания сибирских народов создать необходимый переселенческий земельный фонд и тем самым сохранить помещичье землевладение в Европейской России.
В отличие от официальной историографии, история народов у А.П. Щапова выступала не статистическим объектом изучения, а средством борьбы за улучшение его положения. Он одним из первых обратил внимание на прямую связь масштабов и темпов колонизации с изменениями в хозяйстве у коренных жителей, положительно оценил взаимовлияние русского и коренных народов Сибири [19].
Наиболее весомые достижения в изучении национальной политики связаны с именем Н.М. Ядринцсва. Его подход к «инородческому вопросу» характеризуется наличием разоблачительной правды о государственной политике, страстной защитой прав коренных народов на самостоятельнее существование. Рассматривая процесс заселения и освоения Сибири, Н.М. Яд-ринцев в работе «Сибирь как колония» писал: «Процесс оттеснения инородцев и ограничение их района продолжается вместе с успехом колонизации» [20]. С этим обстоятельством он связывал прогресс бурятского земледелия. В условиях общественно-политического подъема и нарастания революционного движения в стране старая идея, наполненная новым содержанием, была направлена против колонизационной по литики царизма в Сибири, и в этом смысле она сыграла положительную роль. Но с научной точки зрения, она давала одностороннюю и поэтому неверную оценку событиям. Вступая в противоречие с тезисом о вовлечении коренных народов в систему общесибирских хозяйственных связей и положительным влиянием народной колонизации на этот процесс, Н.М. Ядрин-цев в то же время не понял исторического прогрессивного значения присоединения народов Сибири к России.
И.И. Серебренников также доказывал сокращение численности коренных народов, объемов посевных площадей [21]. Примерно такой же подход к исследованию истории коренных народов Сибири прослеживается в трудах П.М. Головачева. Он признавал, что «степень прогрессивного влияния русских на коренное население зависит немало от того, с кем именно - русским трудовым народом или торговцами и промышленниками - сталкивались аборигены» [22]. В качестве положительных примеров влияния русского крестьянства П.М. Головачев отмечал факты развития у коренных народов земледелия и оседлости.
В истории Сибири конца XIX - начала XX в. видное место занимало народническое течение. С позиций левонароднического толка оценивал политику царизма в отношении народов Сибири Д.А. Клеменц. В серии статей «Заметки о кочевом быте» ученый резко выступал против землеустроительной политики самодержавия, прикрывающейся демагогическими заявлениями о необходимости перевода кочевников в оседлое состояние [23]. Рассматривая проблему взаимовлияния русского и коренного народов, он разграничивал политику царского правительства и воздействие русского трудового населения на хозяйство и быт аборигенов. Применительно к местным народам в качестве положительного результата такого влияния Д.А. Клеменц отмечал развитие земледелия, оседлости, рост общей культуры.
Важное значение для понимания сущности политики самодержавия в отношении коренных народов Сибири, уяснения их правового положения в составе Российской империи имеют нормативные акты царского правительства, юридически определяющие сословное положение аборигенов. К ним относится «Устав управления инородцев» 1822 г., вошедший в Полное собрание законов Российской империи [24]. По нему все проживавшие в Сибири инородческие племена делились на три разряда в зависимости «от степени гражданского образования и по на- стоящему образу жизни». Устав регулировал все стороны жизни и хозяйственной деятельности инородцев, давая большую внутреннюю свободу. Его рассмотрение позволяет выявить разницу между бурятскими родами в хозяйственной деятельности. Также положения о правах бурят зафиксированы в Своде законов [25].
К другой группе нормативных актов относятся указы о поощрении бурят за большие успехи в земледелии, благотворительность, охрану и защиту Родины. Эти документы отражают деловые и нравственные качества бурятского народа, способность к самопожертвованию. Следующую группу использованных нормативных актов представляют указы царского правительства, связанные с заселением и освоением Сибири. Они показывают, каких трудов и усилий стоило переселение в далекий край большой массы русских крестьян, как непросто складывалась их жизнь в новых местах. Следует, однако, иметь в виду, что подчас трудно выявить причины происхождения законов, характер обсуждения законопроектов в правительственных инстанциях. Законы лишь фиксируют конечный результат этой деятельности и не выявляют различные тенденции в правительственной политике. Некоторые нормативные акты неточно отражали фактическое положение дел, так как в силу длительной процедуры разработки и принятия уже не отвечали требованиям времени и являлись устаревшими. Ряд законов или их отдельные положения никогда не были претворены в жизнь. Поэтому необходима проверка и дополнение нормативных источников другими, в первую очередь архивными, материалами.
Динамику развития, состояние хозяйства, количество населения, его национальный состав показывают различные статистические источники. Разнообразные сведения о сословном составе и половозрастной структуре народонаселения, образованности, развитии хозяйства, доходности угодий, ценах, промыслах и о многом другом содержатся в статистических отчетах, материалах различных комиссий, переписи на селения. Они дают большой статистический материал, сравнивая и анализируя который можно выявить реальную картину по интересующему вопросу. К ним можно отнести материалы «Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года» [26]. Тогда впервые было предпринято столь крупномасштабное статистическое исследование населения страны. На его основе С. Патканов отразил национальный состав Сибири, язык и роды инородцев. К сожалению, эти материалы по различным причинам показывают разные данные, но их сравнение позволяет определить наиболее оптимальный вариант. Указанные статистические источники создают лишь приблизительную картину динамики хозяйства и народонаселения, поэтому их применение возможно лишь при условии критического анализа. Также интересующие нас сведения по некоторым годам являются неполными или вообще отсутствуют.
Таким образом, хотя в дореволюционной историографии Сибири был накоплен немалый фактический материал о бурятском земледелии, но объективной научной оценки ему так и не было дано. Выводы носят односторонний и упрощенный характер. В дореволюционный период бурятскому крестьянству, его земледельческой деятельности не было посвящено специальных работ. Одни исследователи, рассматривая историю Сибири как последовательные этапы ее завоевания, само земледелие считали чуждым для бурят-скотоводов, навязанным им правительством и его чиновниками на местах, не говоря уже о разработке проблемы до-русского земледелия. Другие, акцентируя основное внимание на том, что с началом русской крестьянской колонизации Предбайкалья и Забайкалья сократились пастбища и изменились характер и масштабы скотоводства у бурят, не хотели признавать, что земледелие означало новый, более прогрессивный, этап в развитии производительных сил края и что это обстоятельство повлекло за собой ряд других важных и благотворных перемен в жизни бурятского народа.