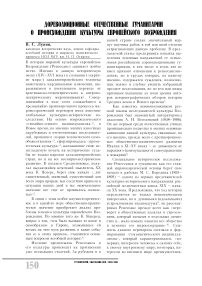Дореволюционные отечественные гуманитарии о происхождении культуры европейского возрождения
Автор: Лунин В.С.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (6), 2006 года.
Бесплатный доступ
Европейское возрождение, история мировой культуры, историография, изучение предпосылок и культуры ренессанса
Короткий адрес: https://sciup.org/14720405
IDR: 14720405
Текст статьи Дореволюционные отечественные гуманитарии о происхождении культуры европейского возрождения
В истории мировой культуры европейское Возрождение (Ренессанс) занимает особое место. Именно в данную историческую эпоху (XIV—XVI века) в сознании («картине мира») западноевропейского человека наметились кардинальные изменения, выразившиеся в постепенном переходе от христианско-теоцентрического к антропоцентрическому миропониманию1. Совершившийся в ходе этого сложнейшего и чрезвычайно противоречивого процесса мировоззренческий переворот имел поистине глобальные культурно-исторические последствия. На основе возрожденческого «стихийно-земного индивидуализма»2, в Новое время, по мнению многих известных зарубежных и отечественных исследователей, произошел «взрыв человеческого само-обожествления»3, сформировалась «прометеевская культура»4, наложившие свою неизгладимую печать на исторические судьбы не только народов западноевропейских стран, но и на все всемирно-историческое развитие. В позднем Средневековье, полагал выдающийся немецкий мыслитель XX века К. Ясперс, берет свое начало «„тот единственный, значимый, существенный для всего мира прорыв, чьи следствия привели к ситуации наших дней и чье окончательное значение все еще не проявилось полнос-тью»5.
В связи с этим особое научно-теоретическое и в какой-то мере общественно-практическое значение приобретает анализ проблемы генезиса культуры европейского Возрождения. По мнению того же К. Ясперса, вопрос о том, «чем было вызвано то новое и своеобразное в Европе, позволившее ей встать на этот путь развития, и какие события ее к этому привели... становится основным вопросом всеобщей истории»6.
Изучение предпосылок Ренессанса и его культуры происходит на протяжении уже нескольких столетий. За рубежом и в нашей стране создан значительный корпус научных работ, в той или иной степени затрагивающих данную проблему. В предлагаемой статье предпринята попытка выделения основных направлений ее осмысления российскими дореволюционными гуманитариями, в том числе и теми, кто не имел прямого отношения к ренессансове-дению, но в трудах которых, по нашему мнению, содержатся суждения, позволяющие полнее и глубже уяснить избранный предмет исследования, но по тем или иным причинам выпавшие из поля зрения авторов историографических обзоров истории Средних веков и Нового времени7.
Как известно, основоположником русской школы исследователей культуры Возрождения был знаменитый литературовед академик А. Н. Веселовский (1838—1906). Он же первым среди отечественных ученых проницательно подметил и оценил основные антиномии данной культуры, связанные, по его мнению, прежде всего с противоречивостью общественно-политического развития Италии в XI—XV веках — ее движением от народного (коммунального) самоуправления к монархии8.
Специальное историческое исследование Ренессанса и гуманизма как его глав -ной мировоззренческой основы берет свое начало в работах М. С. Корелина (1855— 1899) — одного из первых представителей культурно-исторического направления российской медиевистики конца XIX — начала XX века. Предположив, что ход истории определяется не только экономическими интересами, но и духовными (идеальными) устремлениями индивидуума9, он р ассм ат-ривал Ренессанс прежде всего как «переворот в общественных идеалах и стремлениях, который начался в отдельных личностях и... мало-помалу охватил все общество и изменил его миросозерцание»10. Сущность данного переворота состояла в формировании «гуманистического индивидуализма», который характеризовался, «во-первых, интересом человека к самому себе, к своему внутреннему миру; во-вторых, интересом во внешнем мире преимуществен- но к другому человеку; в-третьих, убеждением в высоком достоинстве человеческой природы вообще и в неотъемлемом праве человека развивать свои способности и удовлетворять свои потребности; в-четвертых, интересом к окружающей действительности, поскольку она имеет влияние на человека»11.
По своему происхождению, как полагал Корелин, данный переворот не был только национальным (лишь итальянским) явлением, на чем настаивали некоторые западноевропейские исследователи (И. Тэн, Ж. Сисмонди). Возникновение гуманизма по своей сути —интернациональный (всеевропейский), закономерный этап в развитии индивида, личности12. «Гуманистическое движение, — подчеркивал исследователь, —захватило всю Европу, и если оно началось в Италии, то причину этого следует искать не в итальянском народном характере, а в особенностях условий культурного развития европейских народов»13.
М. С. Корелин не дал четкого и развернутого ответа на вопрос о том, под влиянием каких именно конкретно-исторических и культурных условий в XIV—XV веках в Италии (и во всей Европе) личность «доросла» до сознания важности своей внутренней жизни и своего стремления «...найти теоретическое оправдание для индивидуальных потребностей, осужденных аске-тизмом»14. Однако даже общие его замечания сохраняют, на наш взгляд, свою актуальность до настоящего времени. Так, например, он отмечал: «Есть основание предполагать, что политический дух, господствовавший тогда в большинстве итальянских государств, содействовал развитию движения: политические перевороты, разрушавшие старые традиции и попиравшие законы, должны были усилить критические настроения»15. В то же время Корелин был убежден, что «считать ту или другую политическую форму и борьбу между ними причиной гуманистического движения нет никаких оснований, и там, где происходит политическая борьба, и там, где она уже покончена»16. Не был он согласен и с теми учеными (Вахлер), которые непосредственно связывали истоки возникновения гуманистической историографии с главной политической проблемой в разви- тии Италии того времени —ее раздробленностью и активизацией борьбы за объединение страны17.
Аналогичная «методологическая картина» наблюдается и при рассмотрении М. С. Корелиным влияния на формирование гуманистического мировоззрения такого фактора, как социальная борьба. С одной стороны, историк утверждал, что, «может быть, движение “чомпи” усилило умственную смелость» в Италии18, что едва ли можно отрицать влияние «социальных брожений», «страшный нравственный упадок духовенства и монашества» того времени на гуманистическое движение: «они должны были усиливать критицизм, особенно в тех классах, которые, пробиваясь вперед, вели борьбу со старыми порядками»19. С другой стороны, он же категорично заявлял: «.сословное брожение только создавало среду и атмосферу, благоприятную для гуманистического движения, а не было причиной» его возникновения; «гуманисты не были органом какого-либо общественного класса, и их идеи о человеческой природе, об этике, о науке не обусловливались социальными переменами, происходившими в современном им обществе»20.
Свою своеобразную «осторожность» в освещении проблемы происхождения Ренессанса и его специфического мировосприятия (гуманизма) М. С. Корелин объяснял недостаточной исследованностью данного феномена: «.при теперешнем состоянии источников приходится признать преждевременной попытку поставить в связь интенсивность гуманизма с политическим и экономическим строем названны х областей»21. И далее: «не доказана непосредственная связь гуманизма ни с торговым процветанием известного центра, ни с его отношениями с Востоком»22.
Таким образом, сам факт влияния объективных социально-исторических условий на возникновение гуманистического движения не вызывал у М. С. Корелина больших сомнений. Однако при этом историк был далек от того, чтобы придавать им существенное, тем более решающее, значение. Более того, в его представлении сами идеи возрожденческого индивидуализма явились источником многих полити- ческих, экономических и социальных изменений в Италии в XIV—XV веках. «Мы думаем, —отмечал он, —что совершенно правы те исследователи, которые считают развитие индивидуализма основной причиной политических, социальных и церковных перемен в Италии XIV—XV столетий, а произведения гуманистов с несомненной ясностью доказывают, что та же самая причина произвела и гуманистическое дви-жение»23.
Стремясь проникнуть, образно говоря, в самую «душу» первых гуманистов, М. С. Корелин пришел к выводу, что главной причиной возникновения их особого мировоззрения являлась не трансформация общественных отношений человеческой личности в недрах западноевропейского Средневековья. Этот процесс, по его мнению, имел всеобъемлющий характер; он нашел себе «подходящую почву» даже в «святая святых»... папской курии в Авиньоне (1309-1377 гг.)24.
Феномен «папского гуманизма», анализу которого М. С. Корелин посвятил более 100 страниц своей магистерской (докторской) диссертации25, на наш взгляд, служил для него еще и одним из ярких свидетельств того, что зарождение гуманизма вовсе не было каким-то резким «скачком» от традиционного (средневекового) миросозерцания к новому (ренессансному) мировосприятию, заимствованному лишь из воззрений авторов античной литературыI. На примере Петрарки исследователь убедительно показал, что античное наследие служило для него «.тIолько родною почвою, из которой первый борец думал извлечь поддержку для борьбы с отживавшей культурой; но заменить им христианскую цивилизацию никогда и в голову не приходило первому гуманисту»26; он отрицал схоластику и проповедовал изучение человека «.во имя религиозной морали, ради спасения души»27, являясь, таким образом, «.связывающим звеном философского процесса двух исторических эпох»28.
В дореволюционной отечественной исторической науке М. С. Корелин считался одним «из лучших историков гуманиз-ма»29. Однако при этом не все его методологические позиции и исторические воз- зрения получили единодушное одобрение. Так, Н. И. Кареев (1851-1931) —один из самых ярких представителей социальноэкономического направления русской историографии всеобщей истории второй половины XIX века30, в обширном и в целом положительном, отзыве на диссертацию и книгу М. С. Корелина31 деликатно обратил внимание на недооценку им влияния социально-политического и экономического факторов на возникновение гуманизма. По его мнению, к числу не решенных автором вопросов относится, в частности, вопрос о соотношении гуманистического движения и крупных перемен, происходивших в Италии одновременно в политической, социальной и церковной сферах32. «Социальные, политические и экономические причины автор оставил “вне своей задачи”, — отмечал он. — Родоначальниками этого психологического интереса к истории были гуманисты, и Корелин в этом отношении был натурою им, несомненно, родственною, конгениальною»33.
Рассматривая вслед за М. С. Корелиным гуманизм как «.одно из следствий совершившегося к этой эпохе развития личности», прежде всего ее миросозерца-ния,34 Н. И. Кареев в то же время подчеркивал, что секуляризационные устремления Ренессанса, подобно культуре Греции V века до н. э., были «.результатом развития индивидуализма в торгово-промышленных, преимущественно демократических городах»35. Однако при этом он был против абсолютизации «экономического детерминизма» в объяснении истоков формирования ренессансного мировидения36.
Фактически так же, как и М. С. Корелин, Н. И. Кареев исходил из того, что любая культура, состоящая из различны х, тесно взаимосвязанных элементов, гораздо меньше, чем другие сферы человеческой жизни, подвержена непосредственному воздействию окружающей социальной среды и представляет собой во многом «само-развивающуюся систему», формирующуюся «.силою вещей и действиями человека из систем и форм предыдущих эпох»37. Поэтому он и демонстрировал огромное уважение к так называемому «культурному направлению» в отечественной исторической науке (Т. Н. Грановский, В. И. Герье,
М. С. Корелин и др.), которое «всегда относилось с величайшим интересом к личности, внутреннему миру человека»38. Не во всем соглашаясь с его представителями, Н. И. Кареев, однако, считал, что данное направление «...не менее научно и необходимо в общей экономии науки, нежели социальное или материальное»39. Он был против односторонности и исключительности какого-либо одного методологического подхода при рассмотрении исторического процесса40, в частности связанного с формированием Ренессанса и его культуры.
Всесторонне взвешенная оценка Н. И. Кареевым вклада М. С. Корелина в осмысление феномена раннего итальянского гуманизма прочно вошла в дореволюционную отечественную литературу, в том числе и энциклопедического характера41. Однако в советское время она приобрела особую, псевдомарксистскую по своему существу, окраску. Идеи М. С. Корелина, как и его учителя В. И. Герье, об автономности эволюции культуры, в том числе и Ренессанса, особой роли в ней личностного начала стали рассматриваться преимущественно как «идеалистические», «субъек-тивистские»42 и, следовательно, «ошибочные».
Аналогичные оценки многие годы звучали в нашей стране и в отношении философско-исторических моделей таких крупных русских мыслителей второй половины XIX —начала XX века, как И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Н. Я. Данилевский, С. Н. Булгаков и др., базировавшихся на признании приоритетности духовно-нравственного («внутреннего») фактора в развитии истории43. Опираясь на данную идею, они полагали, что возрожденческий антропоцентризм имел не только глубокие корни в античности, но и подспудно вызревал в западноевропейском Средневековье, главной мировоззренческой скрепой которого являлась латинская ветвь христианства (католицизм).
Особенностям католицизма, его отличиям от восточного христианства (православия) посвящена огромная литература, на основе которой возникла даже особая отрасль знаний — сравнительное богосло-вие44. При этом православный взгляд на данную проблему традиционно отмечал, что наиболее характерными чертами религиозных воззрений Запада, во многом отразившими влияние римского культурного наследия, являются достаточно выраженная их прагматическая устремленность на человека, тяготение к умопостигаемости веры и церковного бытия, стремление низвести небесное к земному45. Раскрывая данную особенность католицизма, известный представитель культурно-исторического направления русской медиевистики Л. П. Карсавин (1882—1952) подчеркивал, что речь в данном случае идет не столько о догматических различиях, «.сколько. о своеобразном устремлении на человека, лежащем в самом существе, в природе ка-толичества»46. Подытоживая свои размышления на эту тему, он отмечал, что «католичество является христианством, обращенным прежде всего к человеку»47.
Идея о наличии в религиозном сознании зрелого западноевропейского Средневековья рационалистически-прагмати-ческого начала, стремившегося, по сути дела, «объективировать христианство», то есть сделать его полностью доступным человеческому восприятию, достаточно прочно вошла в отечественную религиозно-философскую традицию. При этом ее последователи стремились показать, хотя и в самой общей форме, культурно-исторические последствия данной особенности вероучения и практики римской церкви. Так, И. В. Киреевский в ответе своему единомышленнику по славянофильству А. С. Хомякову писал: «В этом последнем торжестве формального разума над верою и преданием проницательный ум мог уже наперед видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы. И новую философию со всеми ее видами, и индустриализм как пружину общественной жизни, и филантропию, основанную на рассчитанном своекорыстии. и героя нового времени, идеал бездушного расчета, и материальное большинство, плод рациональной политики»48.
Л. П. Карсавин также полагал, что лишь продумав до конца и оценив правильно антропоцентрический уклон католичества, можно понять не только такие мощные явления зрелого западноевропейского Средневековья, как папизм, борьба римской церкви за светскую власть и пол- ный духовный контроль над обществом (папская теократия), воинствующий прозелитизм, практически-деятельный характер западного монашества, рыцарство, но также и рождение в Западной Европе Ренессанса и протестантизма49.
В советский период отечественной историографии истории культуры идея о взаимосвязи западного средневекового христианства и формирования антропоцентрического мировосприятия европейского человека в эпоху Возрождения не получила своего дальнейшего развития и развернутого отражения в виде конкретно-исторических исследований50. Хотя объективности ради следует заметить, что разрыв с методологическим наследием дореволюционных гуманитариев произошел все-таки не сразу. Подтверждением этому может служить опубликованная в 1918 году работа Л. П. Карсавина «Культура средних веков». В ней историк, которому вскоре суждено будет покинуть Советскую Россию, привел богатый конкретно-исторический материал и сформулировал на основе его анализа немало глубоких выводов о постепенном возникновении и росте в недрах «официальной» (католической по своему основному духу. — В. Л.) культуры индивидуалистического (антропоцентрического) умонастроения. «„Рост осознающей себя в богатом разнообразии жизни личности, — подчеркивал он, —является существеннейшим моментом в процессе творческого саморазложения средневекового общества»51. Таким образом, у Л. П. Карсавина формирование ренессансного типа мировосприятия и культуры предстает как сложный и чрезвычайно противоречивый исторический процесс, диалектически взаимосвязанный с эпохой западноевропейского Средневековья.
Аналогичного методологического подхода придерживался в то же время и П. А. Флоренский (1882—1943). В опубликованной в 1919 году статье «Обратная перспектива» он пришел к выводу, что «первые тончайшие испарения натурализма, гуманизма и реформации подымаются» уже от одного из самых почитаемых в Западной Европе католических святых — Франциска Ассизского (1181 или 1182— 1226)52. А первым проявлением францис- канства в области искусства, по его мнению, стало творчество итальянского живописца Ди Бондоне Джотто (1266 или 1267—1337), у которого под покровом церковных сюжетов «„можно подметить светский дух, сатирический, чувственный и даже позитивистичес-кий, враждебный аскетизму»53. Джотто, отмечал П. А. Флоренский, хотя и питался еще «от зрелого прошлого, его эпохе предшествовавшего... дышит, однако, уже иным воздухом», «смотрит в иную сторону»; «еще полный благородных соков Средневековья и сам не натуралист, он уже испытал самый первый, предутренний ветерок натурализма и сделался его провозвестни-ком»54.
В первой трети XX века во многом сходные суждения о происхождении Ренессанса прежде всего как особого типа восприятия человеком мира высказывал также талантливый русский историк-медиевист и литературовед П. М. Бицилли (1879—1953), научное наследие которого долгие годы в нашей стране незаслуженно замалчивалось (с февраля 1920 года он вместе со своей семьей жил за границей — сначала в г. Скопье, а затем в Софии) . Находясь в кругу идей и интересов петербургской школы историков средневековой культуры, школы И. М. Гревса, он уже в своей магистерской диссертации (1917 год) на примере анализа мироощущения Са-лимбене —францисканского монаха, автора знаменитой хроники XIII века —стремился показать трансформацию идей францисканства и иоахимизма в обыденном сознании широкой массы «средних людей», проследить, каким причудливым образом эти идеи в соответствующей исторической обстановке могли способствовать возникновению индивидуалистического умонастроения и, тем самым, участвовать в идейном генезисе итальянского Возрож-дения55.
В начале 1920-х годов прошлого столетия идея об органической взаимосвязи некоторых явлений западноевропейской средневековой культуры и Возрождения найдет свое отражение в статье П. М. Бицилли «Восток и Запад» в истории Старого Света» (1922 г). Оценивая культурно-историческое значение мистики Запада, представленной такими яркими фигурами, как Бернар Клервоский (Бернард), Гуго Сен-Викторский, Франциск Ассизский, Бонавентура, он пришел к выводу, что на ее основе возник иоахимизм, «сообщивший мощный толчок новому историческому пониманию и явившийся тем самым идейным источником раннего Возрождения, великого духовного движения, связанного с именем Данте, Петрарки и Риенци»56.
Мысль о близости с социально-психологической точки зрения францисканства и Возрождения красной нитью проходит и через статью П. М. Бицилли, написанную к 700-летию со дня смерти Франциска Ассизского: «Франциск открывает собой ряд “художников своей жизни”, которыми так богато Возрождение»57; «явления, относимые бесспорно к “Возрождению”, охватываемые именно этим термином, если проследить их генезис, оказываются имеющими свои корни в почве, взрыхленной ранним францисканством, соприкасаются с последним пространственно и времен-но»58; «францисканство быстро стало лоном, где формируется новый социологический тип, носящий на себе признаки, которые вскоре повторяются уже в характерном “Человеке Ренессанса”»59. «Культура новой Европы, —заключал историк, —это культура Возрождения. А Возрождение в “свернутом виде” уже дано в личности св. Франциска Ассизского»60.
Несмотря на некоторое преувеличение значения Франциска Ассизского как предтечи итальянского гуманизма, что в определенной мере отражало общее стремление (своеобразную «моду») мировой исторической науки первой половины XX столетия к медиевизации Ренессан-са61, П.М. Бицилли в целом верно подметил глубокую генетическую взаимосвязь формировавшейся новоевропейской культуры и особенностей восприятия мира и человека эпохи зрелого западноевропейского Средневековья.
Спустя несколько лет та же мысль, но в более сдержанной (гармоничной) форме, найдет свое отражение в фундаментальной работе П. М. Бицилли «Место Ренессанса в истории культуры», впервые опубликованной в 1933 году на русском языке в «Годишнике» («Ежегоднике») Софийского университета, а затем в течение не- скольких десятилетий остававшейся практически неизвестной даже специалистам-ренессансоведам. В российской историографии истории культуры это будет вторая, после М. С. Корелина, попытка целостной характеристики культуры Возрождения, причем, что особенно ценно, в ее «исторической динамике»62.
Особого внимания в связи с избранным нами предметом исследования заслуживает рассматриваемая П. М. Бицилли проблема соотношения культур западноевропейского Средневековья и Ренессанса. С одной стороны, он выступает против необоснованного отождествления некоторыми зарубежны1ми историками-медиевистами конца XIX — начала XX века (К. Бурдах) итальянского гуманизма и культуры «исходящего Средневековья». Осмысливая значение, в частности, такого яркого ее феномена, как мистика, Бицилли отмечает, что, безусловно, она способствовала в определенной мере формированию самосознания человека, воспитанию в нем «чувства личности», но «...выводить новое мироощущение и миропонимание из средневекового, считать его прямым результатом, так сказать, имманентной эволюции последнего —значило бы без нужды упрощать историческую действительность, игнорировать действие множества сопутствующих факторов — социального, политического свойства»63.
С другой стороны, в скрытой полемике с основными выводами видных западноевропейских медиевистов конца XIX —начала XX века (Я. Буркхардтом, И. Хейзингой, Г. Эйкеном64) П. М. Бицилли высказывал свое мнение, что нельзя резко противопоставлять средневековое «мироотрицание» возрожденческому «мироутверждению», «ибо и Средневековье не “отрицало” мира эмпирического бытия, и Возрождение не утверждало, что этот мир —единственный “реальный мир”»65. По его мнению, чистое «мироотрицание» и чистое «мироутвержде-ние» одинаково несовместимы с самим понятием культуры, которая вообще «мыслима только при условии, что эмпирическая действительность одновременно как-то “утверждается” и “отрицается”, т. е. что ей противопоставляется какой-то другой, идеальный мир, являющийся вместе с тем прообразом эмпирически данного мира. Различие же культурных периодов заключается в том, как в каждом из них мыслится отношение этих двух миров друг к дру-гу»66. Исследование того, как в каждую историческую эпоху мыслилось отношение человека к миру и к Богу, как оно им переживалось и как выражало себя в различных сферах его деятельности, и является, по Бицилли, главным предметом истории культуры67.
Немало важных мыслей сформулировали представители дореволюционной школы российской гуманитаристики и по вопросу о роли византийского субстрата в формировании культуры Ренессанса, предвосхитив тем самым в теоретическом плане идеи некоторых современных культурологов о необходимости при рассмотрении «динамики любой культуры» учета «внешних влия-ний»68 . Так, еще в 1852 году И. В. Киреевский в статье «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» писал: «„когда со взятием Константинополя свежий, неиспорченный воздух греческой мысли повеял с Востока на Запад и мыслящий человек на Западе вздохнул легче и свободнее, то все здание схоластики мгновенно разрушилось»69.
В то же время И. В. Киреевский не был склонен преувеличивать значение «просветительской миссии» византийских греков-эмигрантов. По его мнению, византийско-греческому началу не удалось переломить главный, определившийся еще во время античного Рима, вектор культурноисторического развития Запада. «Образованность Европы, — подчеркивал он, —„ оживилась; но смысл ее остался тот же: склад ума и жизни был уже заложен. Греческая наука расширила круг знаний и вкуса, разбудила мысли, дала умам полет и движение, но господствующего направления духа уже изменить не могла»70; «„тот же перевес рассудочности и та же слепота к живым истинам сохранились по-прежне-му»71.
М. С. Корелин итальянское Возрождение и гуманизм по своему происхождению рассматривал как исключительно западноевропейское явление. В первом издании его фундаментального труда (1892) содержалось лишь одно лапидарное замечание о том, что византийские греки являлись только простым «передаточным механизмом» филологических («технических» по его терминологии) сведений в Западную Европу72. В «Очерках итальянского Возрождения» (1896) им разъяснялось, что если в XIV веке греки в Италии были в основном лишь учителями греческого языка, то после Флорентийской унии они стали в первых рядах гуманистического дви-жения73.
В отличие от М. С. Корелина его современник М. Н. Петров (1826—1887) —первый профессиональный историк из мордовского народа74 — называл Византию «живым учителем» Европы, ибо она не только сберегла для Европы «характерные памятники древнего эллинского гения и в свое время познакомила ее с ними», но и передала «„новым народам систематический свод римского права, послужившего образцом и в некоторых отношениях и основанием для всех почти европейских законодательств, а ее церковные писатели и ораторы сделались воспитателями всего христианского мира»75.
В 1875 году известный русский философ К. Н. Леонтьев (1831—1891) в своей работе «Византизм и славянство» впервые в отечественной историко-философской мысли выделил два основных этапа воздействия Византии на Западную Европу. На первом этапе, который он датирует IV—IX веками, преимущественное значение в исторических судьбах западноевропейской культуры играл так называемый «религиозный византизм» (то есть православие)76. На втором этапе — в XIV—XVI веках — «византизм» воздействовал на Запад уже не столько своей религиозной стороной, сколько «„преимущественно эллино-художественными и римско-юридическими сторонами своими, остатками классической древности, сохраненными им„»77. Новое сближение с Византией и через ее посредство с античным миром, умозаключал К. Н. Леонтьев, и привело в конечном счете Европу «„к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождени-ем»78.
В конце XIX века выдающийся русский византинист Ф. И. Успенский (1845—1928) предпринял первую попытку наполнить выдвинутые И. В. Киреевским, М. Н. Петровым и К. Н. Леонтьевым идеи о культурном взаимодействии Византии и Западной Европы в Средние века и раннее Новое время реальным конкретно-историческим содержанием. В «Очерках по истории византийской образованности» он, во-первых, дал развернутое обоснование правоты мнения немецкого ученого Прантля о том, что аристотелевская логика, переработанная византийскими философами Михаилом Пселлом и Иоанном Италом, имела «громадное и продолжительное влияние на Западе, став основой всех школьных руководств» эпохи зрелого западноевропейского Средневековья79, а во-вторых, подробно рассмотрел культурно-исторический аспект дипломатической миссии константинопольского монаха Варлаама на Запад в 1339 и 1342 годах. Как известно, основой целью данной миссии являлось обсуждение с римским папой вопроса о возможности создания «единого христианского фронта» против нараставшей турецко-османской угрозы. С этой точки зрения, отмечал Ф. И. Успенский, миссия Варлаама оказалась невыполнимой, так как светские и духовные власти Западной Европы уже не были расположены к организации нового крестового похода и требовали при этом от греков-византийцев предварительного и безусловного заключения церковной унии под эгидой римского папизма. С другой стороны, российский византинист привел в своем труде немало фактов, свидетельствовавших, хотя и о кратковременной (в течение нескольких месяцев в 1339, а потом и в 1342 году), но весьма плодотворной просветительской деятельности ученого византийского монаха Варлаама в Италии. Оценивая ее значение, Ф. И. Успенский отмечал, что любой историк Возрождения «...не может обойти молчанием имя Варлаама уже потому, что к нему с уважением и благодарностью относились выдающиеся деятели этой эпохи: Петрарка, Боккаччо, Перуджино и Леонтий Пилат»80.
С более сдержанной оценкой значения византийских (греческих) интеллектуалов в формировании гуманистического умонастроения в Италии выступил в конце XIX —начале XX века Н. И. Кареев. Отдавая приоритет в методологии познания любых исторических явлений определению прежде всего их внутренних причин (с учетом «внешних влияний»)81, данный историк считал, что «если даже в середине XV века греческие эмигранты и внесли в историю итальянского гуманизма нечто такое, что без их влияния само в Италии не могло бы возникнуть, то это нисколько не характеризует самого начала движения, его источника»82. По его мнению, «итальянские ученые заинтересовались античной культурой самостоятельно, исключительно на основании знакомства с литературой на латинском языке: только узнав от римских писателей, что настоящая красота и мудрость —в греческой литературе, они стали стремиться к изучению и греческого языка, который, однако, конечно, не мог и потом играть такой же роли, как латинс-кий»83.
В постреволюционной отечественной гу-манитаристике идея о межкультурном диалоге и взаимодействии, в том числе о восточном (греко-византийском) воздействии на формирование культуры европейского Возрождения, не пропала бесследно. Прежде всего она нашла свое отражение в трудах представителей так называемого русского зарубежья. Так, уже в 1922 году находившийся в эмиграции П. М. Бицилли сформулировал важнейшее методологическое положение о том, что, «подобно политической истории и культурная история Запада не может быть оторвана от культурной истории Востока»84.
В первой четверти XX века данное положение, применительно к рассматриваемой проблеме, было наиболее успешно, на наш взгляд, реализовано в научном творчестве выдающегося русского византиниста-эмигранта А. А. Васильева (1867—1953). В свою знаменитую «Историю Византийской империи» он поместил специальный, хотя и небольшой по объему, параграф —«Византия и итальянское Возрождение». В нем в отличие от Ф. И. Успенского автор привел менее восторженную оценку роли константинопольского монаха Варлаама и его ученика Леонтия Пилата в формировании гуманистического мировоззрения итальянского Возрождения85. По-настоящему сильное культурно-историческое воздействие Византии на Италию он относит лишь к концу XIV — началу XV века, когда на Апеннинском полуострове появляются, по его выражению, «настоящие византийские гуманисты» — Мануил Хрисолор, Гемист Плифон и Виссарион Никейский86.
Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что во второй половине XIX — первой трети XX века усилиями российских гуманитариев был создан значительный научный задел в осмыслении проблемы генезиса Ренессанса и его культуры. Особую актуальность, с учетом незавер- шенности современных поисков наиболее оптимальных подходов к изучению исто-рии87, имеет, на наш взгляд, его методологический фундамент, который составляют восприятие культуры как разносторонней деятельности человека, реализующего определенный тип своего мировосприятия, идея о множественности различных сил и факторов, участвующих в формировании и развитии того или иного исторического типа культуры, концепция межкультурного диалога и взаимодействия.
Список литературы Дореволюционные отечественные гуманитарии о происхождении культуры европейского возрождения
- Андреев М. Л. Культура Возрождения//История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: курс лекций/под ред. С. Д. Серебряного. М., 1998. С. 331.
- Большая энциклопедия/под ред. С. Н. Южакова. 4-е изд., стереотип. Л., 1986. Т. 11. С. 335.
- Боровский М. Православие. Римо-католичество. Протестантизм: Сравнительное богословие/М. Боровский. М., 1992
- Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV -XV вв.: учеб. пособие для студ. ист. фак/Л. М. Брагина. М., 1977.
- Бриллиантов А. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены/А. Бриллиантов. СПб., 1898.
- Вайнштейн О. Л. История советской медиевистики. 1917 -1966/О. Л. Вайнштейн. Л., 1968.
- Васечко В. Н. Сравнительное богословие: курс лекций/В. Н. Васечко. М., 2000.
- Веселовский А. Вилла Альберти/А. Веселовский. СПб., 1870.
- Гутнова Е. В. Историография истории средних веков. Сер. XIX в. -1917/Е. В. Гутнова. М., 1985.
- Дживелегов А. Корелин Михаил Сергеевич//Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. 11-е изд., стереотип. М., 1934. Т. 25. С. 182.
- Дмитриев М. В. Влияние православия и западного христианства на общество//Вопр. истории. 1997. № 12.
- История Европы: с древнейших времен до наших дней: в 8 т. Т. 2. М., 1988
- Историография истории нового времени стран Европы и Америки: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «История»/под ред. И. П. Дементьева. М, 1990.
- Каганович Б. С. П. М. Бицилли как историк культуры//Одиссей. Человек в истории 1993: Образ «другого» в культуре. М., 1994.
- Каганович Б. С. П. М. Бицилли как историк средневековой и ренессансной культуры//Культура Возрождения и средние века: сб. М., 1993.
- Казначеев С. Куда мчится паровоз истории?//Лит. газ. 2006. № 44 (25-31 окт.).
- Кареев Н. И. Итальянский гуманизм и его новый исследователь//Вестник Европы. 1893. № 8.
- Кареев Н. И. Итальянский гуманизм и его новый исследователь//Вестник Европы. 1893. № 10.
- Кареев Н. И. М. С. Корелин как историк гуманизма//Корелин М. С. Ранний итальянский гуманизм и его историография. Т. 1. С. XVII.
- Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории: очерки главнейших исторических эпох. Тульская обл., пос. Заокский, 1993.
- Кареев Н. Сущность исторического процесса и роль личности в истории/Н. Кареев. 2-е изд., с добавл. СПб., 1914.
- Карсавин Л. П. Католичество/Л. П. Карсавин. Пг., 1918.
- Карсавин Л. П. Культура средних веков/Л. П. Карсавин. Пг., 1918.
- Киреевский И. В. В ответ А. С. Хомякову//Киреевский И. В. Критика и эстетика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998.
- Корелин М. С. Очерки итальянского Возрождения/М. С. Корелин. М., 1910.
- Корелин М. С. Ранний итальянский гуманизм и его время/М. С. Карелин. М., 1892.
- Корелин М. С. Ранний итальянский гуманизм и его историография. Критическое исследование: в 4 т. 2-е изд. СПб., 1914. Т. 2.
- Корелин Михаил Сергеевич//Советская историческая энциклопедия. М., 1965. Т. 7.
- Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения/А. Ф. Лосев. М., 1978.
- Наринский М. Общие истоки европейской цивилизации/М. Наринский, В. Кареев//Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1991.
- Падение античного миросозерцания (культурный кризис в Римской империи)/М. С. Корелин. 2-е изд. СПб., 1901.
- Сафронов Б. Г. Вопросы исторической теории в работах М. С. Корелина/Б. Г. Сафронов. М., 1984.
- Сергеев К. А. Ренессансные основания антропоцентризма/К. А. Сергеев. СПб., 1993.
- Средневековая Европа. М., 1992.
- Флоренский П. А. Записка о православии//Флоренский П. А. Христианство и культура. М., 2001.
- Флоренский П. А. Обратная перспектива//Флоренский П. А. Христианство и культура. М., Харьков, 2001.
- Хомяков А. С. Вместо введения [К «Сборнику исторических и статистических сведений о России и о народах, ей единовременных и единоплеменных]//Соч.: в 2 т., Т. 1: Работы по историософии. М., 1994.
- Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях//А. С. Хомяков. Сочинения богословские. Прага, 1867. Т. 2.
- Шубарт В. Европа и душа Востока/В. Шубарт. М., 2003.
- Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1895. Т. 16.
- Ясперс К. Истоки истории и ее цель//Ясперс К. Смысл и назначение истории: пер. с нем. 2-е изд. М., 1994.
- Осовский Е. Г. Петров Михаил Назарович//Мордовия: энцикл. в 2 т. Т. 2.: М -Я. Саранск, 2004.
- Лотман Ю. М. Культура и взрыв//Ю. М. Лотман. Семиосфера. СПб., 2004.
- Леонтьев К. Н. Византизм и славянство//Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872 -1891). М., 1996.
- Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России//И. В. Киреевский. Критика и эстетика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998. С. 288.
- Киреевский И. В. О необходимости и возможности новых начал для философии//Киреевский И. В. Критика и эстетика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998.
- Гуревич А. Я. Культура средневековья и историк конца XX в.//История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: курс лекций. М., 1998.
- Васильев А. А. История Византийской империи: От начала крестовых походов до падения Константинополя/А. А. Васильев. 2-е изд., испр. СПб., 2000.
- Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения/Я. Бухгарт. Смоленск, 2002.
- Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
- Бицилли П. М. Св. Франциск Ассизский и проблема Ренессанса//Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996.
- Бицилли П. М. «Восток» и «Запад» в истории Старого Света//Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993. С. 31.
- Родионов А. В. История культуры как осмысление кризиса современной исторической науки//Новая и новейшая история. Консерватизм и реформизм: сб. статей. Саратов, 1993. Вып. 14.
- Петров М. Н. Лекции по всемирной истории: в 2 т./М. Н. Петров. 2-е изд. обраб. и доп. СПб., 1914. Т. 2. Ч. 1.
- Семенов Ю. И. Материалистическое понимание истории: за и против//Восток. 1995. № 2.
- Согрин В. В. 1985 -2005: Перипетии историографического плюрализма//Общественные науки и современность. 2005. № 1.
- Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. История крестовых походов/Ф. И. Успенский. М., 2001.
- Хейзинга Й. Осень средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV вв. во Франции и Нидерландах/Й. Хейзинга. М., 1988.
- Цатурова С. К. «Культурное средневековье»: обсуждение «Словаря средневековой культуры»/С. К. Цатурова, Н. И. Алтухова/под ред. А. Я. Гуревича (М., 2003) на ассамблее медиевистов в ИВИ РАН//Средние века. М., 1942. Вып. 66; М., 2005.
- Цатурова С. К. Ассамблея медиевистов в ИВИ РАН: «Глянцевое Средневековье»/С. К. Цатурова, Н. И. Алтухова//Средние века. М., 2004. Вып. 65.
- Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания/Г. Эйкен. СПб., 1907.