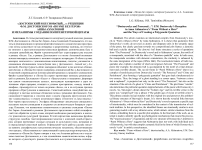«Достоевский и бесноватый...»: рецепции Ф.М. Достоевского в «Поэме без героя» Анны Ахматовой и механизмы создания полигенетичной цитаты
Автор: Кихней Любовь Геннадьевна, Темиршина Олеся Равильевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается интертекстуальный комплекс романов Ф.М. Достоевского в «Поэме без Героя» Анны Ахматовой. Показывается, что цитаты и реминисценции из произведений Достоевского в семантическом пространстве поэмы существуют не как атомарные и разрозненные единицы, но отчетливо тяготеют к двум композиционно-сюжетным фреймам: демоническому балу и ситуации самоубийства. Фрейм «демонический бал» структурирует ряд отсылок к роману «Бесы». Так, в романе Достоевского и в поэме Ахматовой возникают мотивы маскарада, связанного с мотивом «кадрили литературы». В обоих случаях маскарад соотносится с демоническими коннотациями, сходство усиливается и одинаковым обозначением топоса (Белая зала у Достоевского - Белый зал у Ахматовой). Изоструктурность обоих маскарадов объясняет и ряд цитатных сближений «Бесов» и «Поэмы без героя» (например, демонический бал у Достоевского и Ахматовой сопровождается мотивом роковой развязки и страшного сновидения). Фрейм «самоубийство» в «Поэме без героя» притягивает комплекс реминисценций из романов Достоевского «Бесы» и «Преступление и наказание», формируя тем самым «полигенетичную цитату», восходящую одновременно к двум источникам: образ призрака, стоящего в угловом пространстве, «между печкой и шкафом», проецируется не только на роман «Бесы», но и на ситуацию прихода призрака в «Преступлении и наказании». Сюжетный шаблон «самоубийство» инспирирует и частные цитатные сближения поэмы с романами Достоевского. Так, сновидение Ставрогина о «золотом веке» и своем страшном преступлении в Поэме «спрессовалось» в емкую ахматовскую фразу («Золотого ль века виденье / Или черное преступленье»). Эта фраза обнаруживает лексические совпадения с исходным текстом сновидения и сохраняет его антитетическую бинарную структуру. Показано, что выявленные семантические и цитатные схождения «Поэмы без Героя» Ахматовой и романов Достоевского представляют собой специфический тип обработки чужого слова, который необходимо рассматривать в контексте трансмиссии культурной традиции. В этой перспективе выявленные фреймы структурно подобны текстопорождающим моделям с ключевой семой-аттрактором, которая притягивает сходные ситуации из культурного поля, встраивая их в определенный сюжетный шаблон. В финальной части работы сделана попытка выявить специфические психолингвистические механизмы, обеспечивающие этот процесс. «Неосознанность» заимствований и сама структура интертекста Достоевского в «Поэме без Героя» говорит о том, что Ахматова работает не с отдельными текстами Достоевского, а с тем сложнейшим семантическим полем, в форме которого «существуют» романы Достоевского в ее художественном сознании.
«поэма без героя», интертекстуальность, а.а. ахматова, ф.м. достоевский, литературная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149139952
IDR: 149139952
Текст научной статьи «Достоевский и бесноватый...»: рецепции Ф.М. Достоевского в «Поэме без героя» Анны Ахматовой и механизмы создания полигенетичной цитаты
Тема «Ахматова и Достоевский» разработана достаточно подробно
(см. об этом [Шестакова 1994; Козубовская 2002]); сама Ахматова высоко ценила Достоевского, что очевидным образом проявляется как в воспоминаниях ее современников (см. [Чуковская 2013,1, 15, 27, 105, 203, 232; Чуковская 2013, II, 47-48, 154, 281, 337, 388, 400, 430, 455]), так и в автокомментариях к собственным текстам. В орбиту этой общей темы входит более частная проблема: реминисцентный комплекс Достоевского в «Поэме без Героя». В содержательной статье Л. Долгополова «Достоевский и Блок в “Поэме без героя Ахматовой”» [Долгополов 1981] линия Достоевского соотносится с топосом петербургского мифа и мотивом исторического пророчества. Л. Лосев в поэме Ахматовой обнаруживает «страшный пейзаж», детали которого восходят, по мнению исследователя, к отдельным романам Достоевского [Лосев 1992]. Да и сама Ахматова в «Прозе о Поэме» указывала на некоторые отмеченные читателями параллели своей поэмы с романом «Бесы» [Ахматова 2009, 1123]. Тем не менее ряд важных межтекстовых соотнесений поэмы с произведениями Достоевского остался за пределами исследовательского внимания - именно они и стали объектом нашей статьи.
«Отворились боковые двери Белой залы...». В первую очередь необходимо отметить сходство сцены бала-маскарада, изображенного в «Бесах», с маскарадом в поэме Ахматовой. Так, в «Бесах» маскарадное действо разыгрывается в Белой зале (ср. «<.. .> Белая зала, в которой происходило чтение, уже была <...> приготовлена служить главною танцевальною залой» [Достоевский 1998, X, 43]. В поэме «тени из тринадцатого года» приходят в Белый зеркальный зал Фонтанного дома (ср. авторскую ремарку «Новогодний вечер. Фонтанный Дом. К автору, вместо того, кого ждали, приходят тени из тринадцатого года под видом ряженых. Белый зеркальный зал» [Ахматова 2009, 875]). Топос «Белый зал» появляется еще раз в лирическом отступлении: здесь словосочетание БЕЛЫЙ ЗАЛ набрано вдоль основного текста, где описывается приход «гостя из будущего» [Ахматова 2009, 875].
Это соположение может показаться в известной степени случайным: в Фонтанном доме действительно есть Белый зал (построен по проекту архитектора И.Д. Корсини). Однако реальность исторического материала, как кажется, не отменяет возможность его литературной интерпретации; возможно, что и отсылка к «Бесам», и исторический факт равноправно сосуществуют в семантическом пространстве поэмы. На такое сосуществование указывают дополнительные реминисценции из Достоевского в сцене новогоднего маскарада.
Так, во-первых, оба праздника пронизаны дьяволическими коннотациями: в белых залах развертывается поистине демоническое действо, соотнесенное с мотивами масок и ряженья. Ср. у Достоевского: «Отворились боковые двери Белой залы <.. .> и вдруг появилось несколько масок» [Достоевский 1998, X, 48]. В поэме Ахматовой маска соотносится с мотивом смерти и чертовщины: «маска это, череп лицом ли...» [Ахматова 2009, 876], «Размалёван пестро и грубо...» [Ахматова 2009, 877], «маскарадная болтовня» рифмуется с «петербургская чертовня» [Ахматова 2009, 878].
Во-вторых, и новогодний маскарад Ахматовой и бал-маскарад Достоевского связаны с идеей «кадрили литературы». У Достоевского в сатирически изображенной «кадрили литературы», придуманной Кармазиновым и устроенной Липутиным, принимают участие ряженые, изображающие «известные газеты» [Достоевский 1998, X, 48-49]. У Ахматовой же посетители бала, с одной стороны, проецируются на ряд литературных претекстов («Этот Фаустом, тот Дон Жуаном...» [Ахматова 2009, 875]), а с другой стороны, - гости новогоднего маскарада опосредованно соотносятся с ключевыми поэтическими фигурами Серебряного века (Вячеславом Ивановым, Александром Блоком, М. Кузминым, Вс. Мейерхольдом и др.).
Изоструктурность обоих «маскарадов» и их общие дьяволические коннотации могут объяснять и некоторые конкретные, практически цитатные сближения обоих текстов. Так, сатана в «Поэме без Героя» «хвост запрятал под фалды фрака» [Ахматова 2009, 876]. Авторы комментариев к критически установленному тексту поэмы считают, что образ фрака в тексте поэмы восходит к пастернаковскому переводу «Фауста», где есть указание на пышный наряд сатаны: «Смотри, как расфрантился я пестро» [Крайнева, Тамонцева 2009, 905]. Однако мы полагаем, что у этого образа может быть и другой источник. В сцене бала-маскарада у Достоевского возникает прямое указание на фрак с фалдами, который носят некоторые участники карнавала. Апофеозом бесовского разгула в романе становится хождение вверх ногами во «фраке с фалдочками», ср.: «Хохот толпы приветствовал <...> хождение вверх ногами во фраке с фалдочками» [Достоевский 1998, X, 51]. Мотив перевернутости/инверсивности может осмысляться как положение «демоническое, связанное с потусторонним миром» [Левкиевская 2004 Ь, 680], такое антиповедение характеризует персонажей, вступающих в контакт с иной реальностью [Левкиевская 2004 а, 364]. Таким образом, смысловой комплекс «перевернутость - фрак с фалдами - сатана» актуализирует демоническую семантику обоих маскарадов.
Еще одно возможное цитатное сближение с «Бесами» Достоевского, связанное с демоническим маскарадом, находим во второй главе «Поэмы без Героя». В обоих текстах в контексте бесовского разгула возникает мотив роковой развязки, данный вкупе с мотивом сновидения. Ср. у Достоевского «Вся эта ночь со своими почти нелепыми событиями и со “страшною” развязкой наутро мерещится мне до сих пор как безобразный кошмарный сон...» [Достоевский 1998, X, 43]; у Ахматовой читаем: «До смешного близка развязка...» [Ахматова 2009, 882], чуть ниже, в следующей строфе, изображенная фантасмагория, как и у Достоевского, трактуется в онейрическом модусе («Или все это было сном?» [Ахматова 2009, 882]).
«Бледен лоб и глаза открыты...». Поэма содержит еще одну отсылку к «Бесам», отмеченную самой Ахматовой. Так, в «Прозе о Поэме» Ахматова связывает фрагмент первой части произведения («Или вправду там кто-то снова / Между печкой и шкафом стоит?») с романом Достоевского:

«Кто-то сказал мне, - пишет Ахматова, - что появление призрака в моей поэме <.. .> напоминает сцену самоубийства Кир<иллова> в “Бесах”» [Ахматова 2009, 1123].
Ахматова отмечает и другое текстуальное совпадение, связанное со сценой самоубийства Кириллова: «Я попросила Н. Ильину дать мне “Бесы”. Открыла книгу на разговоре Кир<иллова> со Ставрогиным о самом самоубийстве: “Значит вы любите жизнь” - “Да, люблю жизнь, а смерти совсем нет ”. А у меня там же: “Смерти нет - это всем известно <...>”» [Ахматова 2009, 1123-1124].
Однако в «Бесах» между шкафом и печкой стоит не призрак, а пока еще живой Кириллов. Ср.: «...в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов, и стоял ужасно странно, - неподвижно <...> фигура, несмотря на крик <...> не шевельнулась ни одним своим членом - точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве» [Достоевский 1998, X, 153].
Указанное противоречие снимается, если предположить, что фрагмент, о котором идет речь, может быть соотнесен еще с одним вероятным источником (возможно, как в случае с «Бесами», - неосознанно воспринятым Ахматовой). Так, призрак, связанный с «угловым» пространством и шкафом, обнаруживается в «Преступлении и наказании», в сцене, где Свидригайлову как будто в сне является образ девочки. Ср.: «Он долго ходил по всему длинному и узкому коридору, не находя никого, <...> как вдруг в темном углу, между старым шкафом и дверью, разглядел какой-то странный предмет <...>. Он нагнулся со свечой и увидел ребенка - девочку лет пяти, не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую. Она как будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрела на него с тупым удивлением своими большими черными глазенками <...>. Личико девочки было бледное и изнуренное; она окостенела от холода <...>» [Достоевский 1998, VI, 122].
Примечательно, что призрак девочки наделяется такими же атрибутами, как образ Кириллова: «неестественная бледность лица», «окаменение/ окостенение», - однако в отличие от девочки Кириллов жив. Таким образом, ситуация прихода призрака в поэме Ахматовой может быть полигенетичной, одновременно связанной с двумя романами Достоевского: «Бесами» и «Преступлением и наказанием» (о механизмах этой связи см. ниже).
Возникает вопрос: какова природа этой полигенетичности и что именно объединяет в единое семантическое целое контексты ахматовской «Поэмы без Героя» и указанные романы Достоевского?
Мы полагаем, что основой выявленного семантического схождения является мотив самоубийства героя. Так, приход призрака в «Преступлении и наказании» связывается с самоубийством девочки, совращенной Свидригайловым; сцена «между печкой и шкафом» в «Бесах» напрямую соотносится с последующим самоубийством Кириллова (отметим, что в «Бесах» кончают собой Ставрогин и Матреша, соблазненная им, см. об этом ниже). Что касается «Поэмы без Героя», то известно, что в ней слышны отзвуки самоубийства Всеволода Князева, влюбленного в Ольгу Глебо-ву-Судейкину Для Ахматовой это событие, видимо, рифмовалось с самоубийством ее поклонника, Михаила Линденберга (см. об этом [Тименчик 1984]).
В такой перспективе показательными являются два факта. Так, во-первых, отмечая связь своей поэмы с «Бесами», Ахматова актуализирует именно мотив самоубийства, ср. из «Записных книжек»: «Достоевск<ий> (“Бесы” - самоуб<ийство> Кир<иллова>)» [Записные книжки... 1996, 237]. Во-вторых, самоубийство стало одним из генетически исходных мотивов поэмы. Так в стихотворениях «Голос памяти» и «Пророчишь горькая. ..», стоящих у истоков поэмы, «настойчиво повторяется мотив самоубийства, гибели, что имеет свою прототипическую основу - самоубийство Всеволода Князева <...>. Надо полагать, что именно в этом было нечто, приведшее автора стихов к написанию произведения, сюжет которого будет напоминать о “трагическом событии 1913 года”» [Крайнева, Тамон-цева 2009, 58]. Любопытно, что во всех вариантах балетного либретто по «Поэме без Героя» (которое максимально близко к исходному замыслу) относительно устойчивой остается лишь сцена самоубийства драгуна.
Все это позволяет говорить о том, что мотив самоубийства, инициированный биографическими фактами, является той смысловой силой, которая в творческом сознании Ахматовой актуализирует код Достоевского, притягивающий отдельные цитаты и более общие топосы.
«Золотого ль века виденье / Или черное преступленье». Мотивы гибели и самоубийства сопрягаются в поэме с мотивами преступления и вины. И в этом пункте роман «Бесы» дает неожиданный интертекстуальный отсвет на некоторые места «Поэмы без Героя».
Во второй главе поэмы снова возникает героиня, прототипом которой является Ольга Глебова-Судейкина. Появление «петербургской куклы, актерки» сопровождается риторическим вопросом повествователя: «Золотого ль века виденье / Или черное преступленье / В грозном хаосе давних дней?» [Ахматова 2009, 883]. У «подруги поэтов» - поцелуйные плечи; эта характеристика - цитата из стихотворения Князева, посвященного Глебовой-Судейкиной, таким образом, данный атрибут, вкупе с мотивом «черного преступления» и «пляски смерти» («Вижу танец придворных костей...» [Ахматова 2009, 883]) возвращает читателя к мотиву самоубийства Князева, возможной причиной которого стала «Коломбина десятых годов» - О. Глебова-Судейкина.
Однако точно верифицированная цитата стихотворения Князева осложняется реминисценцией из романа «Бесы». Так, мы полагаем, что фраза «Золотого ль века виденье / Или черное преступленье» отсылает к сновидению Ставрогина о «золотом веке» человечества и о своем собственном преступлении (глава «У Тихона»), Рассмотрим эту реминисценцию подробнее.
В этой главе описывается сновидение Ставрогина: герой во сне видит
картину Клода Лоррена, которую он сам называет «Золотым веком» (ср.: «В Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лоррена, по каталогу - “Асис и Галатея”; я же называл ее всегда “Золотым веком”, сам не знаю почему <...> Золотой век - мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть!» [Достоевский 1998, X, 224]).
Обратим внимание, что сновидение Ставрогина - это настоящая визи-онерия, где он провидит счастье всего человечества, что прямым образом, проспективно, отсылает к процитированному фрагменту поэмы: так, в поэме речь идет не просто о золотом веке, но и видении золотого века.
Вторая часть визионерского сновидения Ставрогина контрастно противопоставлена первой: здесь Ставрогин вспоминает о собственном ужасном преступлении и видит призрак Матреши. Любопытно, что приход призрака также обозначен словом «виденье», ср.: «Я увидел перед собой (о, не наяву! если бы, если бы это было настоящее виденье!), я увидел Ма-трешу...» [Достоевский 1998, X, 224].
Таким образом, можно предположить, что сновидение Ставрогина, которое является отдельной символической композиционной структурой в романе, в «Поэме без Героя» «спрессовалось» в емкую фразу, в которой, во-первых, обнаруживаются лексические совпадения с исходным текстом («золотой век», «виденье»), а во-вторых, сохраняется антитетическая бинарная структура исходного сновидения, связанная с семантическим противопоставлением золотого века и преступления.
Возможно, что силовая линия сновидения из «Бесов» инициирует в тексте Ахматовой и иные, более частные образы-детали, не связанные прямо с сюжетом, но соотнесенные с глубинной архитектоникой текста.
Так, Матреша в видении Ставрогина грозит ему «кулачонком» [Достоевский 1998, X, 224]. В послесловии первой части поэмы возникает мотив стука кулаком в окно («Ну, а вдруг как вырвется тема / Кулаком в окно застучит» [Ахматова 2009, 887]). Это совпадение может показаться случайным, однако послесловию предшествует «Глава Четвертая и последняя», где происходит самоубийство героя поэмы. Таким образом, в четвертой главе снова разворачивается комплекс тем, связанных с мотивом самоубийства, которые раннее, во второй главе, были ассоциированы с кодом Достоевского (с видением «золотого века» и «черным преступлением»), В такой проекции выход лирической темы в физическое измерение и ее настойчивый стук в окно может соотносится с мотивом грозящей кулачонком Матреши. Примечательно, что семантически оба мотива - приход Матреши и приход Поэмы - инициируются одним и тем же психологическим импульсом - совестью. Так, Ставрогин трактует появление призрака Матреши как результат угрызений совести (ср. «Это ли называется угрызением совести или раскаянием?» [Достоевский 1998, X, 224]), а повествователь в поэме Ахматовой прямо соотносит написание текста поэмы с мотивом «старой совести» («Это я - твоя старая совесть - разыскала сожжённую повесть» [Ахматова 2009, 887]).
Таким образом, отсылки к Достоевскому, явные и имплицитные, устанавливают систему глубинных смысловых аналогий между двумя текстами, в перспективе которой семантически сополагаются самоубийство Князева и Матреши: оба самоубийства вызваны чьей-то роковой волей и соотнесены с мотивами вины и совести.
Обсуждение. Выявленные отсылки к романам Достоевского, обнаруженные в поэме, трудно назвать «прямыми цитатами». Очевидно, что речь должна идти о специфическом типе авторской обработки чужого слова. В исследовательской литературе эта проблема уже ставилась. Так, Л. Лосев отмечал, что «<...> для Ахматовой вообще характерно совмещение - прототипов, персонажей, сюжетных положений, это относится и к области интертекста» [Лосев 1992, 148]. Т. Цивьян указывала, что исследователями применительно к творчеству Ахматовой «введено было понятие “соборной” или “перетекающей” цитаты, восходящей не к одному, а одновременно к нескольким источникам или указывающей на некий цитатный архетип» [Цивьян 2001, 162-163].
Словосочетание «цитатный архетип» нам представляется весьма удачным, ибо оно указывает на то, что чужое слово является не просто «цитатой», но становится структуро- и текстообразующим фактором. Однако вопрос о функциях и природе таких «цитатных архетипов» остается открытым. Попытаемся хотя бы в первом приближении подойти к решению этой проблемы.
В реминисцентном комплексе, сопряженном с «Бесами» и «Преступлением и наказанием», общим для всех «чужих» фрагментов является мотив самоубийства, который, проецируясь на реальные жизненные ситуации, оказывается одним из «первичных» мотивов при создании поэмы.
Однако мотив самоубийства в контексте поэмы - это не просто отдельная атомарная единица. Он, являясь элементом, который входит в систему ассоциативных и сюжетных связей, становится центром определенного семантического топоса, стремящегося к сюжетной развертке: «герой А совершает самоубийство из-за героя Б».
С позиции семантического анализа этот топос оказывается целостной конструкцией, которая включает в себя предикат («покончить собой») и актанты, соотнесенные с предикатом (персонаж А и персонаж Б). Мы полагаем, что эта семантическая структура, имеющая свои корни в реальной жизни, и является механизмом организации интертекста Достоевского, ибо в соответствии с ее логикой происходит сборка «перетекающей цитаты» из романов писателя.
Так, при обращении к «Бесам» для Ахматовой на первый план выходит глубинный предикат, который и диктует правила отбора элементов. Этот предикат, оказывающийся пунктом сцепления романа Достоевского и поэмы, сама Ахматова обозначила через ключевое словосочетание «самоуб<ийство> Кир<иллова>» [Записные книжки... 1996, 237].
Однако самоубийство, оказываясь ключевым семантическим элемен-

том, притягивает, как мы показали выше, не только отсылки из «Бесов», но и соответствующие образы из «Преступления и наказания». В результате вокруг предиката, обладающего сильной семантической аттракцией, кристаллизуется многомерная цитата, отсылающая на литературном уровне одновременно к трем парам персонажей (Ставрогин - Матреша, Верховенский - Кириллов, Свидригайлов - утонувшая девочка), а на жизненнобиографическом уровне - к коллизии «Глебова-Судейкина - Князев» (и, возможно, - «Ахматова - Линденберг»), Соединительным звеном для всех этих пар становится предикат «покончить собой», который и устанавливает между ними в известной степени эквивалентные отношения.
Таким образом, сам механизм образования полицитаты следующий: устойчивым и инвариантым остается глубинный предикат, а актантные оппозиции, заполняющие места при предикате, оказываются непостоянными, фактически актантные места могут заполниться любыми парами, соотнесенными с указанным предикатом.
Подобную технологию работы с чужим словом, на наш взгляд, следует рассматривать не в контексте интертекстуальных штудий, но в более широких рамках трансмиссии культурной традиции.
С.Ю. Неклюдов полагает, что основным механизмом структуризации сообщения в процессе движения культурной традиции являются некие устойчивые фреймы, тяготеющие к однотипности композиционного и сюжетного построения и кочующие из традиции в традицию. Эти структуры исследователь называет текстопорождающими моделями, которые, сохраняясь «в предшествующих текстовых манифестациях традиции», обеспечивают традиции ее непрерывность и задают «новым “сообщениям” адекватные им сюжетные, композиционные, жанровые параметры» [Неклюдов 2016, 19].
Такого рода модели включают в себя постоянный инвариантный компонент, который повторяется в разных текстах, каждый раз наполняясь конкретным содержанием. Этот устойчивый элемент модели исследователь называет «ключевой семой». Важнейшая особенность такой ключевой семы заключается в ее свойстве быть семантическим аттрактором, обладающим «соответствующим “ресурсом притяжения”» [Неклюдов 2016, 20]. Иными словами, ключевая сема как бы структурирует новые сообщения в соответствии с логикой текстопорождающей модели.
Возможно, что в основе выявленного нами «интертекста самоубийства» и лежит подобная текстопорождающая модель. Так, ключевой семой этой модели, притягивающей к себе сходные мотивные ситуации из романов Достоевского, оказывается самоубийство, которое проецируется сразу на несколько контекстов как литературных, так и биографически-личных.
Сходным образом выстраивается и интертекст, связанный со сценой новогоднего бала. Мы указали выше на ряд раннее не замеченных сближений этой сцены с романом «Бесы», однако новогодний бал в поэме содержит отсылки и к другим источникам: к Гофману, к «Пляскам смерти» Блока, к пьесе Уайльда «Саломея», «Маскараду» Лермонтова, «Карнава- лу» Шумана и др.
И реминисценции из Достоевского, и другие источники сцены новогоднего бала в поэме встроены в определенную модель, задающую сюжетный фрейм «демонического бала», повторяющийся в ряде текстов. Эта нарративная структура, оказываясь своеобразным топосом западной культурной традиции, периодически «текстуализируется», «проявляясь» в разных художественных произведениях. Возникнув в поэме Ахматовой, эта модель притягивает к себе целый комплекс отсылок, встраивая их в заранее данную сюжетную схему.
В связи с вышесказанным необходимо отметить, что мы ни в коем случае не возводим обнаруженные нарративные структуры только лишь к романам Достоевского. Сама Ахматова в «Записных книжках» указывает на то, что для поэмы исключительно важны и «западные претексты», ср.: « Эр Гэ <Р.Н. Гринберг - Л.К, О.Т.)> ищет и находит ее <поэмы - Л.К, ОЛ> корни в классической русской литературе. (Пушкин - “Пиковая дама”, Гоголь. .. Достоевский - “Бесы” и вообще тянет к “Бесам”, не замечая петербургской гофманианы и западные корни, напр<имер>, “Dis aliter visum” Браунинга и “Эл<ьсинорских> террас парапет” Paul Valery.)» [Записные книжки... 1996,451].
Несмотря на достаточно определенные отсылки Ахматовой «Поэмы без героя» к западным источникам, нам все же кажется, что вопрос о «первичности» цитат здесь уходит на второй план, уступая место проблеме структуры топоса, организующего поле многочисленных реминисценций, которые заполняют «универсальные повествовательные схемы в “силовом поле” определенной идеи» [Неклюдов 2016, 16]. При этом «западные» реминисценции в этом «силовом поле» в большей степени эксплицитны, а отсылки к романам Достоевского, напротив, в известной мере имплицитны (что, возможно, объясняется их встроенностью в привычный культурный контекст и, как следствие, меньшей «осознанностью»).
Очевидно, автор с такой точки зрения может рассматриваться не просто как творец уникального единичного текста, но как «интерпретатор устойчивых топосов, собранных из различного литературного материала» [Неклюдов 2016, 16]. Актуализация этих топосов в поле авторского сознания ставит вопрос о психологических механизмах такой интерпретации.
Л.К. Долгополов отмечал, что «Достоевский - второй после Пушкина русский писатель, занимавший такое же большое место в духовном мире поздней Ахматовой, что видно и из ее творчества, и из отдельных высказываний» [Долгополов 1981, 454^155].
Эта исключительное положение Достоевского в поэзии Ахматовой провоцирует появление полуосознанных или неосознанных отсылок к его творчеству, что подводит к проблеме репрезентации «достоевского претекста» в художественном сознании автора. Мы полагаем, что, вводя реминисценции из романов писателя, Ахматова работает не столько с отдельными текстами Достоевского, сколько с тем сложнейшим семантическим полем, в форме которого «существуют» романы Достоевского в ее
художественном сознании. Так понимаемый интертекст может рассматриваться в двух ракурсах, психологическом и структурном.
С психологической точки зрения очевидно, что ахматовский «метатекст» Достоевского - это отнюдь не объективный коррелят реальных текстов писателя. Исследователями уже было показано, что художественный текст хранится в памяти читателя как сложнейшая система, которая не равна «объективно-идеальному» прототипу, но тесно сцеплена с внутренними импульсами самого читателя. Так, Н.В. Рафикова полагает, что в процессе художественной коммуникации «один и тот же текст способен стимулировать формирование разных структурных типов читательских проекций» [Рафикова 2000, 144]. Говоря иначе, прочитанный и воспринятый текст перерабатывается в соответствии с ценностной иерархией читающего. Таким образом, в переработке значений текста ключевую роль играет авторская установка.
С точки зрения структурной организации текст в читательском сознании существует опять же не как реальный текст, точно соответствующий исходному произведению, но в редуцированном, свернутом виде, как «структурированная система опорных пунктов, отражающая свертывание содержания текста в смысловые блоки» [Залевская 2005, 43 8]. Одним из механизмов свертывания содержания текста становятся ключевые слова и модели ситуации. При этом именно модель ситуации, полагают исследователи, «влияет на выбор и структурирование поступающей в сознание информации» [Залевская 2005, 43 8] (см. подробнее: [Рафикова 2000, 154-157]).
В такой перспективе психологическая механика «соборной цитаты» видится следующим образом. Авторская установка на развертывание темы самоубийства актуализирует в ассоциативно-семантическом поле, связанном с именем Достоевского, определенные смысловые структуры (ключевые слова и модели ситуации), имеющие личностную значимость для Ахматовой. При этом авторская интенция здесь выполняет роль своеобразного магнита, который «вытягивает» из семантического поля «нужные» элементы.
Это притяжение может быть и неосознанным, ср. высказывание Ахматовой о текстуальном совпадении со сценой самоубийства Кириллова: «И кто поверит, что я написала это, не вспомнив “Бесов”» [Записные книжки... 1996, 237]. В этом случае подсознательные схождения могут реализовываться не только в прямых цитатах из романов Достоевского, но и в возникновении в тексте поэмы образно-ассоциативных «пучков», которые близко расположены друг относительно друга в указанном семантико-психологическом континууме. Так, в «Главе Третьей», по-видимому проявляется «часть» этого семантического поля, включающая в себя ключевые слова «Петербург», «Достоевский», «бесноватость»:
И царицей Авдотьей заклятый, Достоевский и бесноватый, Город в свой уходил туман [Ахматова 2009, 885].
Мотив бесноватости появлялся и чуть ниже, в пределах того же текстового целого («...И беснуется, и не хочет / узнавать себя человек» [Ахматова 2009, 885]). Возможно, «бесноватость» вкупе с другими ключевыми словами, репрезентирующими «поле Достоевского» в творческом сознании Ахматовой, ассоциативно инициирована названием романа «Бесы».
Таким образом, фрагменты, попадающие в силовое поле авторской установки, могут быть двух видов: общие нарративные структуры, целостно выражающие модели ситуации, и отдельные предметные образы, реализующиеся в тексте как опорные ключевые слова.
В качестве нарративных моделей, связанных с романами Достоевского, в поэме Ахматовой выступают ситуации «демонического бала» и «самоубийства». При этом данные паттерны осложняются «частными» предметными образами и мотивами, кажется, прямо восходящими к текстам Достоевского («развязка», «сон», «фрак», «кулачонок», «золотой век» и проч.). Основная особенность таких ключевых деталей заключается в том, что они находятся в контекстуальной близости друг с другом и включаются в общую нарративную модель. С точки зрения традиции и интертекста эта контекстуальная близость может указывать на их внутреннюю семантическую родственность и принадлежность к одному «генотексту», а с точки зрения психологии творчества это «рядоположение» может свидетельствовать о включенности этих элементов в одно индивидуально-авторское семантическое поле.
Таким образом, творческое сознание Ахматовой актуализирует не столько конкретные цитаты из романов Достоевского, сколько определенные, нарративно-организованные участки индивидуального «мифа» о Достоевском. Этот миф структурно представлен через совокупность целостных топосов, или моделей ситуации, соотнесенных в свою очередь с рядом ключевых деталей. Модели ситуации, с помощью которых репрезентируется текст в сознании читателя, по-видимому соответствуют «текстопорождащим моделям», с которыми, как считает С.Ю. Неклюдов, связывается трансмиссия культурной традиции. Возможно, что склонность человеческой психики к целостному «модельному» восприятию информации обеспечивает механизм развития культурной традиции и лежит в основе движения ее морфологических элементов. В поэме Ахматовой, теснейшим образом, связанной, с одной стороны, с культурой Серебряного века, а с другой стороны, репрезентирующей подспудные движения авторской мысли, - эта творческая психологическая механика видна особенно отчетливо.
Список литературы «Достоевский и бесноватый...»: рецепции Ф.М. Достоевского в «Поэме без героя» Анны Ахматовой и механизмы создания полигенетичной цитаты
- Ахматова А. Поэма без Героя. Проза о Поэме. Наброски балетного либретто. Материалы к творческой истории / Сост., общая ред. Крайневой Н.И.; предисл., коммент. Крайневой Н.И., Тамонцевой Ю.В. СПб.: Издательский дом «Мр», 2009. 1487 с.
- Долгополов Л.К. Достоевский и Блок в «Поэме без Героя Ахматовой» // В мире Блока. М.: Советский писатель, 1981. С. 454-480.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 20 т. М.: ТЕРРА, 1998.
- Залевская А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст. М.: Гно-зис, 2005. 543 с.
- Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966). М.; Torrino: Giulio Einaudi editore, 1996. 850 с.
- Козубовская Г.П. А. Ахматова и Ф. Достоевский. Заметки к теме. Статья 1. «Павловский текст» // Вестник Барнаульского государственного университета. 2002. №2. С. 87-94.
- Крайнева Н.И., Тамонцева Ю.В. К творческой истории «Поэмы без Героя» // Ахматова А. Поэма без Героя, Проза о Поэме, Наброски балетного либретто: материалы к творческой истории / Сост., общая ред. Крайневой Н.И.; предисл., ком-мент. Крайневой Н.И., Тамонцевой Ю.В. СПб.: Издательский дом «Мiр», 2009. С. 13-163.
- (a) Левкиевская Е.Е. Наоборот // Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 3. М.: Международные отношения, 2004. С. 364-367.
- (b) Левкиевская Е.Е. Переворачивание предметов // Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 3. М.: Международные отношения, 2004. С. 679-681.
- Лосев Л. «Страшный пейзаж»: маргиналии к теме Ахматова / Достоевский // Звезда. 1992. №8. С. 148-155.
- Неклюдов С.Ю. Темы и вариации. М.: Индрик, 2016. 520 с.
- Рафикова Н.В. Психолингвистическое исследование процессов понимания текста: дис. ... д. филол. н.: 10.02.19. Тверь, 2000. 346 с.
- 13.Тименчик Р. Д. Рижский эпизод в «Поэме без Героя» Анны Ахматовой // Даугава. 1984. №2. С. 113-121.
- Цивьян Т.В. «Поэма без Героя» Анны Ахматовой (некоторые итоги изучения в связи с проблемой «текст - читатель») // Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 159-169.
- Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1-2. М.: Время, 2013.
- Шестакова Е.А. Ахматова и Достоевский (к постановке проблемы) // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 1994. С. 335-354.