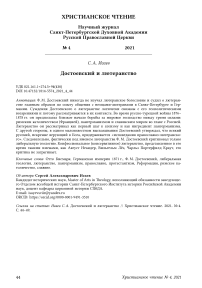Достоевский и лютеранство
Автор: Исаев Сергей Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
Ф. М. Достоевский никогда не изучал лютеранское богословие и судил о лютеранстве главным образом по опыту общения с немцами-лютеранами в Санкт-Петербурге и Германии. Суждения Достоевского о лютеранстве логически связаны с его геополитическими воззрениями и потому рассматриваются в их контексте. Во время русско-турецкой войны 1876-1878 гг. он предполагал близкое начало борьбы за мировое господство между тремя силами: римским католичеством (Францией), пангерманизмом и славянским миром во главе с Россией. Лютеранство он рассматривал как первый шаг к атеизму и как ингредиент пангерманизма. С другой стороны, в одном малоизвестном высказывании Достоевский утверждал, что всякий русский, искренне верующий в Бога, придерживается «исповедания православно-лютеранского». Следовательно, фактически под именем лютеранства Ф. М. Достоевский критиковал только либеральную теологию. Конфессиональное (консервативное) лютеранство, представленное в его время такими именами, как Август Неандер, Вильгельм Лёэ, Чарльз Портерфилд Краут, его критика не затрагивает.
Отто бисмарк, германская империя 1871 г, ф. м. достоевский, либеральная теология, лютеранство, пангерманизм, православие, протестантизм, реформация, римское католичество, славяне
Короткий адрес: https://sciup.org/140261418
IDR: 140261418 | УДК: 821.161.1+274.5+94(430) | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_4_44
Текст научной статьи Достоевский и лютеранство
Фёдор Михайлович Достоевский лютеранства не любил. Проходя лечение в Эмсе в 1874 г., он жаловался в письме от 16/28 июня, что музыка в саду начинается «с скучнейшего лютеранского гимна к Богу: ничего не знаю приторнее и выделаннее» (Достоевский, XXIX(1), 331). Адресованы были эти слова Анне Григорьевне Сниткиной — его третьей, последней и самой любимой жене. Анна Григорьевна была православная, однако ее мать Анна Николаевна Милтопеус (Miltopaeus, 1812-1893) — лютеранка шведского происхождения, праправнучка Мартина Мильтопеуса (1631–1679) — профессора и ректора Лютеранской духовной академии в Або. Это был очень известный в Финляндии и Швеции человек: его могила сохранилась в кафедральном соборе Турку.
Достоевский не был знаком с классическими текстами лютеранского богословия: ни с Аугсбургским исповеданием 1530 г., ни даже с Кратким катехизисом Лютера. Но он явно изучал историю Реформации по добротным учебникам, что позволило ему однажды написать о Реформации следующую иллюстративную притчу («Дневник писателя. 1877, январь. Глава первая. II. Миражи. Штунда и редстокисты»):
Произошло то, что всегда происходило в таких случаях. Несут сосуд с драгоценною жидкостью, все целуют и обожают сосуд, заключающий эту драгоценную, живящую всех влагу, и вот вдруг встают люди и начинают кричать: «Слепцы! чего вы сосуд целуете: дорогá лишь живительная влага, в нём заключающаяся, дорого содержимое, а не содержащее, а вы целуете стекло, простое стекло, обожаете сосуд и стеклу приписываете всю святость, так что забываете про драгоценное его содержимое! Идолопоклонники! Бросьте сосуд, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!» И вот разбивается сосуд, и живящая влага, драгоценное содержимое, разливается по земле и исчезает в земле, разумеется. Сосуд разбили и влагу потеряли. Но пока ещё влага не ушла в землю, подымается суматоха: чтобы что-нибудь спасти, что уцелело в разбитых черепках, начинают кричать, что надо скорее новый сосуд, начинают спорить, как и из чего его сделать. Спор начинают уже с самого начала; и тотчас же, с самых первых двух слов, спор уходит в букву. Этой букве они готовы поклониться ещё больше, чем прежней, только бы поскорее добыть новый сосуд; но спор ожесточается, люди распадаются на враждебные между собою кучки, и каждая кучка уносит для себя по нескольку капель остающейся драгоценной влаги в своих особенных разнокалиберных, отовсюду набранных чашках и уже не сообщается впредь с другими кучками. Каждый своею чашкой хочет спастись, и в каждой отдельной кучке начинаются опять новые споры. Идолопоклонство усиливается во столько раз, на сколько черепков разбился сосуд. История вечная, старая-престарая, начавшаяся гораздо раньше Мартына Ивановича Лютера, но по неизменным историческим законам почти точь-в-точь та же история и в нашей штунде (Достоевский, XXV, 11)1.
Лютера Достоевский назвал «Ивановичем», очевидно, полагая, будто отца знаменитого реформатора звали Иоганн, а не Ганс.
Ф. М. Достоевский много общался с лютеранами-немцами как в самой Германии, так и в России: об этом свидетельствуют целые страницы в «Униженных и оскорбленных» и десятки кратких упоминаний в письмах. Достоевский жил в Германии в бурные годы объединения страны (1867-1871). Политическое размежевание проходило тогда в Германии по линии религиозного раскола: протестанты выступали на стороне Бисмарка, а католики составляли оппозицию. Достоевский наблюдал там лютеранство предельно политизированное.
Наиболее развернутые и критичные по отношению к лютеранству высказывания Достоевского содержатся в «Дневнике писателя» за январь 1877 г. На Балканах шла русско-турецкая война. Она сопровождалась повышенной дипломатической активностью в Европе. Достоевский был уверен, что впереди большие перемены. «Видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации» (Достоевский, XXV, 6). — «Тут нечто всеобщее и окончательное, и хоть вовсе не решающее все судьбы человеческие, но, без сомнения, несущее с собою начало конца всей прежней истории европейского человечества» (Достоевский, XXV, 9). Писатель полагал (Дневник писателя. 1877, январь. I. Три идеи), что в Европе и мире уже начался и будет далее разворачиваться грандиозный конфликт между тремя великими геополитическими силами, за каждой из которых стоит специфическое понимание христианства и многовековая культура. Это римское католичество, представленное Францией; пангерманизм, т. е. идея господства протестантской Германии над всем миром; славянство, связанное с православием и Россией.
Уточним. Достоевский описывает явление, которое позже получило название «пангерманизм» . В 1877 г. его еще так не называли. Дело в том, что Бисмарк в 1864– 1871 гг. реализовал «малогерманский» проект объединения Германии: вокруг Пруссии, при гарантированном преобладании в создаваемой империи протестантов над католиками. Слово «пангерманизм» тогда вызывало ассоциации скорее с «великогерманским» проектом объединения вокруг Австрии, который был окончательно отвергнут в 1867 г., после того как Пруссия разгромила Австрию в ходе краткой войны.
Специалисты по творчеству Достоевского считают, что Фёдор Михайлович наполнил злободневным содержанием представления, которые знаменитый славянофил Алексей Степанович Хомяков сформулировал еще в 1853 г.: римское католичество во имя единства Церкви подавляет свободу; протестантизм во имя свободы разрывает единство Церкви; православие же, вполне верное духу христианства, гармонически сочетает единство Церкви и свободу в ней (Достоевский, XXV, 359).
Думаю, бесполезно даже пытаться понять, каким образом Ф. М. Достоевский мог поверить, будто современная ему Франция «и в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммунарах своих — все еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической вполне и всецело» (Достоевский, XXV, 7). Лучше посмотрим, что он писал о лютеранстве в связи с пангерманизмом.
Достоевский утверждал, что современная ему Германия и немцы воплощают старый протестантизм, протестующий против Рима вот уже девятнадцать веков, против Рима и идеи его, древней языческой и обновленной католической, против мировой его мысли владеть человеком на всей земле, и нравственно, и матерьяль-но, против цивилизации его, — протестующий еще со времен Арминия и Тевто-бургских лесов. Это — германец, верящий слепо, что в нем лишь обновление человечества, а не в цивилизации католической. Во всю историю свою он только и грезил, только и жаждал объединения своего для провозглашения своей гордой идеи, — сильно формулировавшейся и объединившейся еще в Лютерову ересь; а теперь, с разгромом Франции, передовой, главнейшей и христианнейшей католической нации, пять лет тому назад, — германец уверен уже в своем торжестве всецело и в том, что никто не может стать вместо него в главе мира и его возрождения. Верит он этому гордо и неуклонно; верит, что выше германского духа и слова нет иного в мире и что Германия лишь одна может изречь его (Достоевский, XXV, 7).
Более подробно эти мысли Достоевский развивает в «Дневнике писателя» за май-июнь 1877 г., гл. 3, I (Достоевский, XXV, 151–153).
Ф. М. Достоевский считал эти претензии немцев-протестантов несостоятельными. Аргумент его, однако, более чем своеобразен:
…Во все девятнадцать веков своего существования Германия, только и делавшая, что протестовавшая, сама своего нового слова совсем еще не произнесла, а жила лишь все время одним отрицанием и протестом против врага своего так, что, например, весьма и весьма может случиться такое странное обстоятельство, что когда
Германия уже одержит победу окончательно и разрушит то, против чего девятнадцать веков протестовала, то вдруг и ей придется умереть духовно самой, вслед за врагом своим, ибо не для чего будет ей жить, не будет против чего протестовать. Пусть это покамест моя химера, но зато Лютеров протестантизм уже факт: вера эта есть протестующая и лишь отрицательная, и чуть исчезнет с земли католичество, исчезнет за ним вслед и протестантство, наверно, потому что не против чего будет протестовать, обратится в прямой атеизм и тем кончится (Достоевский, XXV, 8).
«Химерой» Достоевский называет здесь свой негативный прогноз на будущее, но кое-что дурное, несовместимое с христианством, он видел в лютеранстве уже своего времени. Он констатировал (Подготовительные материалы к «Бесам». Фантастическая страница [датирована 23 июня 1870 г.]): есть лютеране, которые считают Христа «только простым человеком, благотворным философом» (Достоевский, XI, 179). Интеллектуалы империи Бисмарка — «гордые умы, представители силы и интеллигенции — люди науки, богословы, атеисты, христианские священники, гласно не признающие божественности Иисуса Христа и оправданные в этом правительством» — пытаются навязать такие взгляды всем немцам. В «Дневнике писателя» (Иностранные события. 15 октября 1873) Достоевский даже высказывал опасение, что такая пропаганда косвенным образом может сыграть на руку католикам: простые немцы, ужаснувшись явному отступничеству протестантских теологов от Христа, могут вернуться в лоно римского католичества (Достоевский, XXI, 207).
В сознании Ф. М. Достоевского явно присутствовал алгоритм, описывающий распад сложной системы, существование которой находится в критической зависимости от поддержки людей. Достоевский представлял такой процесс как лавинообразный: сначала падает один-единственный камешек, который сдвигает с места несколько других, те приводят в движение десятки и сотни, и через несколько секунд обрушивается вся лавина. Превращение лютеранства в атеизм Ф. М. Достоевский представлял как именно такой процесс: стόит оспорить авторитет Папы как викария Христа на земле — и вслед за этим в среде людей христианского Запада не сразу, но неизбежно последует полный отказ от всего, чтό составляет христианство.
Наличие такого алгоритма в истории Достоевский считал фактом настолько несомненным и очевидным, что он приписывал понимание этого факта даже своему антагонисту Сергею Геннадиевичу Нечаеву! В подготовительных заметках к «Бесам» есть отрывок «У Виргинского», датированный 13 мая 1871 г. Это тот самый отрывок, где Достоевский формулирует мрачно знаменитые «принципы Нечаева», в соответствии с которыми радикальные революционеры намерены были преобразовать российское общество. Первый принцип нового общественного устройства — равенство. Ради торжества принципа равенства «первым делом надо понизить уровень образования, наук и талантов™ Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспиры побиваются камениями». И именно в этих записях Достоевского не названный по имени умеренный революционер возражает Нечаеву, что ведь в романе «Что делать?» таких ужасов насилия и одичания нет: напротив, предсказан расцвет культуры, в частности «концерты, перед которыми Бетховен — букашка». В ответ Нечаев упрекает Чернышевского в непоследовательности: «Сочинитель еще не дошел до главной точки. Если б сам пожил (в воображаемой коммуне. — С. И. ), то кончил бы тем, что дошел, и не было бы концертов. Лютер отверг авторитет и основал церковь свободную. Но он, конечно, не предполагал, что его религия, развиваясь органически, придет к самоотрицанию, т. е. к отрицанию всякой религии. Так точно и тут» (Достоевский, XI, 271).
Во всех приведенных высказываниях заметно, что Ф. М. Достоевский предпочитал изображать лютеранство не в статике, а в динамике: не чтό оно собою представляет здесь и сейчас, — в Германии или России, — а в каком направлении развивается и куда в перспективе или «в конечном счете» приведет.
Но есть у Достоевского одно совершенно необычное высказывание о лютеранстве. Его никогда не цитируют, потому что содержится оно не в каноническом тексте художественного или публицистического произведения, а лишь в тетради для записей (<Записи литературно-критического и публицистического характера из записных тетрадей 1872-1875 гг.>), и найти его можно только в академическом Полном собрании сочинений. Вот это высказывание:
Исповедания же был православно-лютеранского, как и все русские нашего времени, еще продолжающие верить в Бога (Достоевский, XXI, 263).
Непонятно, над каким сочинением работал Фёдор Михайлович, когда написал это. Непонятно, о каком литературном герое идет речь. В записной книжке Достоевского приведенная заметка располагается несколькими строками ниже записи, датированной 7 августа 1875 г. Из нее очевидно: по убеждению Ф. М. Достоевского, в вере русского человека его времени в Бога, если эта вера была искренней, обязательно присутствовали, наряду с православными, также и какие-то лютеранские представления.
Что Фёдор Михайлович мог иметь в виду? Его собственных разъяснений, на которые можно было бы положиться, нет. Можно лишь строить предположения, а в связи с ними придется напомнить кое-какие малоизвестные факты о лютеранстве.
Во времена Достоевского, как и в наше время, лютеранство было чрезвычайно неоднородно. Преобладала либеральная теология Тюбингенской школы Фердинанда Кристиана Баура (Baur, 1792–1860). Однако либеральным теологам противостояли конфессионально настроенные богословы, историки, пастыри консервативного меньшинства: Август Неандер (Neander, 1789–1850), Вильгельм Лёэ (Löhe, 1808–1872), Чарльз Портерфилд Краут (Krauth, 1823-1883). Они продолжали традицию лютеранской ортодоксии XVII в. А самый поздний из видных лютеранских ортодоксов — Давид Голлац (Hollaz, 1648-1713) — был автором учебных пособий, использовавшихся в православных духовных школах Российской империи во второй половине XVIII и даже в начале XIX в. [Флоровский, 1983, 104–105, 166–167]. Лютеранских авторов в России ценили за умение ясно сформулировать, во что верят христиане. При жизни Достоевского, особенно в годы его молодости, память об этом была еще достаточно свежа.
Подведем итоги. В высказываниях Ф. М. Достоевского о лютеранстве явной и несомненной нелепостью следует считать заявление, будто лютеранство существует лишь назло католичеству. Так и хочется спросить Фёдора Михайловича: неужели Иоганн Себастьян Бах писал свои прелюдии, фуги и токкаты только для того, чтобы досадить ими католикам? А если в музыкальных шедеврах Баха есть духовный смысл, то неужели этот смысл Бах создал в одиночку, тогда как вся прочая лютеранская традиция не имела иного смысла, кроме отрицания римского католичества? Остальная же критика Достоевским лютеранства фактически обращена исключительно против либеральной теологии и против геополитики пангерманизма.
Но наряду с либеральными лютеранами, были и есть лютеране консервативные, или конфессиональные. Они не считают лютеранство средством финской, немецкой, эстонской, латышской или иной национальной самоидентификации. Они не видят первый долг лютеранина в том, чтобы во всем и как можно сильнее отличаться от православных, от католиков, от баптистов и т. д. Они видят в Господе Иисусе Христе Бога, Искупителя и Спасителя, а не только великого Человека, учителя нравственности. Таким лютеранам обижаться на критику лютеранства со стороны Ф. М. Достоевского нет никаких оснований.
Список литературы Достоевский и лютеранство
- Достоевский (I-XXX(2)) - Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972-1990.
- Флоровский (1983) - Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1983.