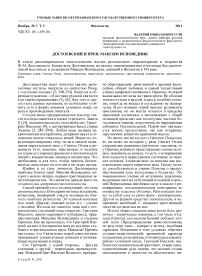Достоевский и преп. Максим Исповедник
Автор: Сузи Валерий Николаевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (120) т.2, 2011 года.
Бесплатный доступ
Святые отцы, экзистенциализм, вероучение, апокатастасис, христианская антропология, христоцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/14750017
IDR: 14750017
Текст статьи Достоевский и преп. Максим Исповедник
Достоевистика знает попытки связать религиозные взгляды писателя со святостью Рима, с «мутными ликами» [2; 348–354]. Имеются и обратные суждения – об истоках русской святости в ее героях-праведниках [5], [6]. Для того и другого есть равные основания; но необходимо уточнить суть и форму влияния духовных имен, их роль в произведениях писателя.
Сегодня вновь предпринимаются попытки свести взгляды писателя к идеям «третьего» Завета [1], [4], апокатастасиса (с отсылкой к свт. Григорию Нисскому [9], с цитированием Бесед старца Зосимы [3; 284–294]). Любая мода вызвана некритическим восприятием, дезориентирует в отношении вполне очевидных вещей. Вероятно, пора конкретизировать тему, но не в смысле выявления параллельных мест у Святых Отцов и романиста (что, конечно, невозможно и нелепо), а в плане его мировоззренческо-типологических связей с конкретными лицами в патристике. Это необходимо и для того, чтобы пресечь беспочвенные спекуляции на поэтике и взглядах автора.
Идейно и по типу личности Достоевскому наиболее близок преп. Максим Исповедник, которого можно назвать первым христианским экзистенциалистом. Это касается прежде всего их эсхатологии , антропологии и психологии .
Самый крепкий узел, их связующий, это тема апокатастасиса . В восприятии темы воздаяния, возмездия, иномирной участи человека их близость наиболее разительна. Это единый комплекс тем, идей, образов; главный пункт его – учение о человеке. Взгляды же писателя чаще всего отождествляют с позицией отца отцов свт. Григория Нисского, яркого церковного публициста, предшественника Максима Исповедника и ученика Оригена. Как же произошло, что Григорий Нисский затмил в восприятии многих истинно глубокого и оригинального преп. Максима? Причем настолько, что Святителем порой спекулятивно прикрывают сомнительные позиции и возникающие недоумения и споры.
Свт. Григорий, с одной стороны, – фигура ключевая, с другой – переходная, промежуточная. Младший брат Василия Великого, прекрас- но образованный, начитанный в древней философии, общий любимец и самый талантливый ученик анафематствованного Оригена, он порой высказывал взгляды на грани ереси. Но обладая тонким чутьем и вкусом, в ересь, подобно учителю, никогда не впадал и осуждению не подвергался. В его позиции порой находят рудименты оригенизма, но он всегда остается в пределах церковной догматики, а несовпадение с общей позицией предстает как теологумен, частное богословское мнение, допустимое, не нарушающее соборных Постановлений. Порой оно оказывается вполне продуктивно, так как открывает перспективу развития церковной мысли.
Но начать все же следует с Оригена. Поскольку во взглядах на историю у ряда Святых Отцов сохранялись рецидивы античного циклизма, то у Оригена возникло представление о конце истории, подобном ее началу, то есть о возвращении всех существ в первозданное состояние до падения человека. Апокатастасис он понимал как восстановление мира в первичном виде. Такому взгляду способствовало и учение Платона о предсуществовании душ, восходящее к буддизму. Это эманационное учение об истечении, рождении, выделении чистых субстанций из единой и цельной Первоосновы неизбежно вело к мысли о реинкарнации, последовательном повторении во множестве телесных оболочек. Реинтеграция влечет за собой одну из своих форм – реинкарнацию. Другой ее формой предстает апокатастасис, и непременно всеобщий. С меньшим христианский гностик согласиться не мог.
Истоки общего спасения мира могли быть различны – космическое покаяние, в том числе и Сатаны (Ориген), или насилие Божией любовью личной воли (Предопределение римо-католиков), но результат един – возврат к истоку, всеобщая гармония. Воздаяние в этих условиях обретает условно-педагогический, временный характер устрашения, аллегоризма, что присуще александрийско-эллинской школе. Григорий Нисский, наиболее последовательный оригенист, отверг предсуществование душ, заявив, что человек создан одномоментно и целостно из абсолютного ни- что, а не поэтапно и по частям - прибавлением к предвечной субстанции земного праха. Более того, ему как православному епископу Зло представлялось производным, итогом отпадения мира от Блага, повреждением, а не автономной субстанцией. И поскольку оно попущено в мир произволением Творца, экзистентно, а не онтично, то и обречено на окончательное поражение. Оно подлежит уничтожению возвратом в первоначальное состояние Ничто или преображению, а носители его - возврату к цельности. Так восстановление, по мысли Святителя, оказывается неизбежным.
Анафематствование Юстинианом Оригена не затронуло его тезиса о восстановлении мира в до-телесном состоянии. Это открывало путь дальнейшим спекуляциям на оригенизме.
Апокатастасис наиболее тесно связан с антропологией, несводимой к эсхатологии, а скорее придающей ей и сотериологии тонус напряжения. С антропологии, то есть соотнесения категорий образа и подобия , и следует начинать разговор. Ближе всего к Писанию их различие определил преп. Максим Исповедник. Для него (в отличие от Григория Нисского) образ есть данность и первозданность лица, личности; подобие - потенция, актуализируемая, востребованная по падении. Образ статичен как цель и образец, но может быть искажен, поврежден; подобие - состояние динамическое, способность к изменению. Образ и подобие - неотъемлемый дар, стержень личности. Образ есть печать, характер лица, сквозь которое проступает Лик. В подобии доминирует воля человека, в нем выявляются двойственные истоки личности, двоение воли. Здесь необходимо уточнить: Адам не создан смертным, он призван наследовать землю; через дар свободы в нем явлены две потенции -к бессмертию и к тлену. У Григория Нисского необходимость в Пасхе Христовой вызвана грехопадением. Выходит, Пасха и последующий Страшный суд - историческое «излишество», внесенные в Промысел происками Денницы.
У свт. Григория в силу превалирования данности над потенцией экзистенция парадоксально доминирует над онтичностью; горизонт потенций замкнут. Отсюда примат долженствования перед свободой, его духовный «позитивизм»; не решение, а разрубание узлов Божией волей как орудием. Григорий исходит из бессмертия человека как актуальной ему данности; зло в его системе предельно близко Благу, почти равно ему, едва ли не онтично. Оно устранимо лишь Произволением Божиим - тем, что Августин назовет Предопределением (ягвистски личностным коррелятом Рока). На деле, по мнению большинства Отцов, начиная с Афанасия Великого, Бого-воплощение входило в Замысел вне прямой связи с падением твари; цель Его - не апокатастасис, а теозис.
Афанасий Великий утверждал, что грехопадение и искупление лишь окрасили Боговопло-щение в тона Драмы. Христоцентризм, определяющая категория и начало Благой вести, начинается с предвечного Троичного Совета о Теофании как средстве обожения человека, главной цели творения (задающей христианский телеологизм, «антропоцентризм», даже антропокосмизм, Промысел о мире и человеке).
Максим Исповедник, отчетливо разделяя образ и подобие , перенеся акцент с актуальности, с данности на за-данность, на потенции, открывал перспективу развития, раскрытия потенций, давал образ человека и мира в динамике, в кризисном становлении. Истоком его озарений о двух волях в человеке была полемика с монофелитами о природе и воле Богочеловека. Он полагал не только две природы, но и две воли в Христе, выстраивая их в иерархическом соотнесении, проецируя их на личность человека, сына Божия в потенции, по призванию, благодати. В христо-логии был осуществлен прорыв в христианскую (а не просто библейскую) антропологию. Исповедник в личности различает «природную» (первозданную, то есть над-природную) волю и волю ущербную, гномическую (своеволие). Этого раздвоения нет в Христе, прообразе человека, Сыне Божием по природе (сущности) и человеческом, с принятыми Им признаками тления, боли, слабости, без чего невозможно Искупление. Христом две природы и две воли (Божия и личная) приведены в единство, в соответствие с Божиим (Своим же) Промыслом. Без кровавого пота молитвы в Гефсимании выбор креста был бы порывом чувств, мечты. Отказ от креста обрек бы Его на муки души, неисполнения долга. Гномическая же воля проблемна, осуществляется в процессе реализации наличного выбора. Она может быть приведена в соответствие с «природной» волей, Божиим призванием, или противостоять им. Такая ее структура по общем воскресении (актуализации нерушимой связи с Творцом, пребывания в Нем) в конце времен ведет к тому, что нераскаявшиеся души испытают муки ада от невозможности разрыва с Богом, с отвергнутой ими милостью, ставшей им в тягость. Эта мука Богопри-сутствия станет нестерпима и неотменима: будут просить смерти, но ее не получат (по мысли Зосимы) [3; 293]. Это Сатана и бесы, в бессильной злобе пьющие свою кровь и грызущие плоть, свирепо питающие собой свою ненасытимую злобу, их мука - суррогат бессмертия, без искупления, без раскаяния, мнимое бытие. В силах ли человек обречь себя на эту муку - остается вопросом. Но стать бесом ему не дано! И в этом отчасти заключена его мука, горшая сатанинской, и в то же время сохранен шанс на спасение через покаяние. Доступ к Богу открыт, если дверь не заперта изнутри самим же грешником. Отвергает не Бог (Он предлагает), а избирает человек.
Исповедник выделяет два апокатастасиса: общее Воскресение и милость просящим, порой сводимых к «неизбежной» Милости. Прощеное Воскресение – лишь просящим, для непросящих – иллюзия восстановления, повод к восстанию, нескончаемо бесплодному бунту. Он не упоминает милости нераскаянным. Таковы антропология, эсхатология, апокалиптика, «апокатастасис» Исповедника, близкие исповеданию веры Зосимы.
Сострадание человеку и миру – яркая черта и преп. Максима. Исповедник пишет: «Бог, приводя в бытие разумную и духовную сущность, по высочайшей благости своей сообщил ей четыре Божественные свойства, посредством которых Он содержит все вместе, оберегает и спасает сущих: бытие, приснобытие, благость и премудрость. Первые два свойства [Бог] даровал премудрости, а два других – способности воли; то есть сущности Он даровал бытие и приснобытие, а способности воли – благость и премудрость, чтобы тварь по причастию стала тем, чем Он Сам есть по существу. Поэтому и говорится, что человек создан по образу и по подобию Божиему (Быт. 1; 26). “По образу” – как сущий [образ] Сущего и как присносущий [образ] Присносущего: хотя он и не безначален, но зато бесконечен. “По подобию” – как благой, [подобие] Благого и как премудрый, [подобие] Премудрого, будучи по благодати тем, чем [Бог является] по природе. Всякое разумное естество – по образу Божиему, но только одни благие и мудрые – по подобию [Его]» [8; 172].
В унисон Исповеднику звучат слова Зосимы: «О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасыти-мый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, бога, зовущего их, проклинают. <^> И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небы тия . Но не получат смерти...» [3; 293] (выделение и курсив наши. - В. С.). Где здесь отмена Суда и ада?
Есть Христово упование, надежда на вхождение в разум истины , но нет насилия любовью. Даже метафора бич любви , принадлежащая Исааку Сирину, не помянута. Есть лишь горечь «страдания о том, что нельзя уже более любить» мир и Господа ответной любовью, ибо времени больше не будет. А милость Господня вызывает сугубую муку – запоздалого раскаяния или бессильной ярости. Не зря воздаяние бессмертием во все времена считалось страшнейшим наказанием, на которое обрекал себя отпадший от Целого и Единого нераскаявшийся преступник. В то же время у Зосимы это не условно-метафорический Суд и страдание пробудившейся совести, сведенные к секулярному морализму и педагогической мере, но ад как духовная реальность.
Смерть – дар единственный, исключительный: дважды не умирают и не воскресают ни физически, ни тем более духовно. Любой опыт единствен в своей уникальности. Вот символ веры Зосимы, диалектической глубиной и тонкостью достойной Отцов Церкви: «Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. А если б и возможно было отнять, то, мыслю, стали бы от того еще горше несчастными. Ибо хоть и простили бы их праведные из рая, созерцав муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна. В робости сердца моего мыслю однако же, что самое сознание сей невозможности послужило бы им, наконец, и к облегчению, ибо приняв любовь праведных с невозможностью воздать за нее, в покорности сей и в действии смирения сего, обрящут наконец как бы некий образ той деятельной любви, которою пренебрегли на земле, и как бы некое действие с нею сходное...» [3; 293]. К этому опыту любви сводится «апока-тастасис» Достоевского и Святых Отцов, прежде всего Максима Исповедника, Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова.
Список литературы Достоевский и преп. Максим Исповедник
- Архим. Августин (Никитин). Жизнь и деяния святого Франциска Ассизского в оценке русской православной мысли [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.agnuz.info/tl_fi les/library/books/st_fran_nikitin1/
- Бердяев Н. О назначении человека. М.: Республика, 1993. 383 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. Л.: Наука, 1976. 510 с.
- Котельников В. Средневековье Достоевского//Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2001. Т. 16. С. 23-31.
- Котельников В. А. Православная аскетика и русская литература (На пути к Оптиной). М.: Плеяда, 2002. 384 с.
- Криволапов В. Старец Зосима и Серафим Саровский//Русская литература и культура Нового времени. СПб.: Наука, 1994. С. 133-156.
- Лихачев Д. Сергий Радонежский и Франциск Ассизский//Наука и религия. 1998. № 6.
- Максим Исповедник. Главы о любви. III, 25//Максим Исповедник. Избранные творения. М.: Паломникъ, 2004.
- Творения иже во святых отцах нашего Григория, Епископа Нисского. Ч. I. М., 1861.