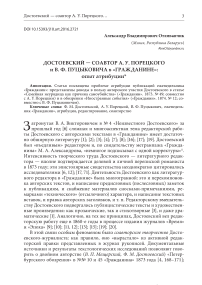Достоевский - соавтор А. У. Порецкого и В. Ф. Пуцыковича в "Гражданине": опыт атрибуции
Автор: Отливанчик Александр Владимирович
Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме атрибуции публикаций еженедельника «Гражданин»: представлены доводы в пользу авторского участия Достоевского в статье «Семейная неурядица как причина самоубийства» («Гражданин». 1873. № 49; совместно с А. У. Порецким) и в обозрении «Иностранные события» («Гражданин». 1874. № 12; совместно с В. Ф. Пуцыковичем).
Ф. м. достоевский, а. у. порецкий, в. ф. пуцыкович, еженедельник "гражданин", атрибуция, редактирование, соавторство
Короткий адрес: https://sciup.org/147225903
IDR: 147225903 | DOI: 10.15393/j10.art.2016.2721
Текст научной статьи Достоевский - соавтор А. У. Порецкого и В. Ф. Пуцыковича в "Гражданине": опыт атрибуции
З атронутая В. А. Викторовичем в № 4 «Неизвестного Достоевского» за прошлый год [6] сложная и многоаспектная тема редакторской работы Достоевского с авторскими текстами в «Гражданине» имеет достаточно обширную литературу [1]; [2]; [3]; [4]; [7]; [8]; [16]; [17]; [19]. Достоевский был «въедливым» редактором и, по свидетельству метранпажа «Гражданина» М. А. Александрова, «немногое подписывал с одной корректуры» 1) . Интенсивность творческого труда Достоевского — литературного редактора — вполне подтверждается деловой и личной перепиской романиста в 1873 году; эти эпистолярные свидетельства неоднократно цитировались исследователями [6, 12]; [17, 71]. Деятельность Достоевского как литературного редактора в «Гражданине» была многогранной: это и перекомпоновка авторских текстов, и написание предисловных (послесловных) заметок к публикациям, и снабжение материалов сносками-примечаниями, ремарками «технического» (отсылочного) характера, и написание текстовых вставок, и правка авторских заголовков, и т. п. Редакторскому вмешательству Достоевского подвергались публицистические тексты и художественные произведения: как прозаические, так и стихотворные [3], и даже драматические [1]. Аналогично, на тех же принципах, Достоевский вел редакторскую работу еще в 1860-е годы в процессе издания журналов «Время» и «Эпоха» [9]; [10]; [11, 12]; [13]; [15]; [19]; [20].
В этой связи особым феноменом было соавторское творчество Достоевского-журналиста: как правило, оно «вырастало» из активной редакторской правки представленных в журнал рукописей. Документальные источники и результаты текстологических исследований позволяют говорить о двойном авторстве ( В. П. Мещерский, Ф. М. Достоевский ) «Петербургского обозрения» в №№ 10 и 45 «Гражданина» 1873 года [4, 168–171];
[5, 17], статьи «Свежей памяти Ф. И. Тютчева» [2]; [4, 165–168], а по нашему мнению, и «Ответа на протест» [17, 73–76]. Совместно с Т. И. Филипповым Достоевским написана заметка «От редакции» в № 18 1873 года [14, 370–371]; не без участия Филиппова же (представившего тезисный план будущей публикации 2) ) Достоевский составил журналистский отчет «Заседание Общества любителей духовного просвещения 28 марта».
Есть основания говорить о подобном же совместном творчестве Достоевского с постоянным обозревателем «Гражданина» А. У. Порецким и секретарем редакции (с 1874 года — редактором) журнала В. Ф. Пуцы-ковичем. Вниманию читателей предлагаются два текста из «Гражданина»: статья «Семейная неурядица как причина самоубийства» (1873. № 49) и обозрение «Иностранные события» (1874. № 12). Доводы в пользу причастности Достоевского к написанию этих текстов впервые были представлены нами в виде докладов на Международных Старорусских чтениях «Достоевский и современность», соответственно, в 2006 и 2008 годах [16]; [18]. В данной работе уточняется и расширяется доказательная база атрибуции обеих публикаций.
<Ф. М. Достоевский, А. У. Порецкий>
СЕМЕЙНАЯ НЕУРЯДИЦА
КАКЪ ПРИЧИНА САМОУБIЙСТВА
(Гражданинъ. 1873. 3 Декабря. № 49. C. 1315–1317)
Мы сегодня прочитали въ одной изъ крупныхъ петербургскихъ газетъ нижеслѣдующее. Просимъ читателей обратить вниманiе на эти строки. Они доказываютъ какъ черезъ-чуръ уже легкомысленно обращается наша псевдо-либеральная пресса съ главными основами нашей семейной жизни.
«Печальная исторiя самоубiйства двухъ охтянокъ въ настоящее время, какъ слышало “Новое Время”1, разъяснена на столько, что можно безошибочно опредѣлить причину ихъ рѣшимости разстаться съ жизнью. Семейство, въ которомъ жили несчастныя, представляетъ образецъ неурядицы. Отецъ ихъ — типъ довольно не рѣдкiй въ русскомъ обществѣ, съ характеромъ суровымъ, деспотическимъ и самолюбивымъ. Вся идея вос-питанiя дѣтей, по его понятiю, должна заключаться въ безусловномъ пови-новенiи родительской власти; а предпочтенiе сыновей дочерямъ, основанное на мнимой безполезности для семейства послѣднихъ, въ его глазахъ совершенно естественно, что видно изъ предсмертной записки, писанной рукою старшей сестры Александры. Вотъ безсвязное, но характерное со-держанiе ея, такъ сказать, послѣдняго слова: “Прибыль… ненависть… добровольная смерть… трудъ-трудъ… печаль, радость… Такъ-то дочерей-то своихъ… Ахъ!.. родители-родители!.. Любите мальчиковъ, а дѣвочекъ нѣтъ… Здѣсь все…”. Подъ этими словами нарисована могила, по бокамъ два восьмиугольныхъ креста, а на могилѣ надпись “вода!!”. Пониже еще надпись “Александра… Марiя” — имена несчастныхъ. Эта записка и другiя обстоятельства семейной обстановки и жизни погибшихъ дѣвицъ1 содер-жатъ въ себѣ цѣлую драму.»
Вникните, читатели, хорошенько въ духъ этихъ строкъ.
Печальная исторiя самоубiйства двухъ охтянокъ, говоритъ газета, разъяснена по словамъ другой газеты «Новаго Времени», на столько, что можно безошибочно опредѣлить причину ихъ рѣшимости разстаться съ жизнью.
Любопытство читателя возбуждено; онъ спрашиваетъ нетерпѣливо: какiя же это причины?
Причины слѣдующiя:
-
1) Суровый, деспотическiй и самолюбивый характеръ отца.
-
2) Идея воспитанiя, заключающаяся въ безусловномъ повиновенiи родительской власти, и
-
3) предпочтенiе однимъ изъ родителей сыновей дочерямъ.
Какiя же доказательства тому что именно эти причины побудили двухъ дѣвицъ утопиться? спрашиваетъ читатель.
А доказательство въ томъ безсвязномъ, но характерномъ содержанiи предсмертной записки, найденной у этихъ несчастныхъ.
Чѣмъ же оно характерно ? спроситъ читатель.
А тѣмъ что въ ней вотъ что написано: « прибыль… ненависть… добровольная смерть… трудъ-трудъ… печаль, радость… Такъ-то дочерей-то своихъ… Ахъ! родители-родители!.. Любите мальчиковъ, а дѣвочекъ нѣтъ… Здѣсь все… вода… Александра… Марiя ».
Но, скажетъ читатель, не можетъ же быть чтобы газеты находили все это причинами къ самоубiйству понятными ; вѣроятно онѣ отъ себя прибавили нѣсколько словъ строгаго осужденiя , или хотя бы нѣсколько раз-мышленiй доказывающихъ что онѣ не одобряютъ такое самоубiйство…
Какая наивность! скажемъ мы читателю: ни единаго слова не прибавили въ осужденiе этого безумнаго поступка двухъ дѣвицъ, напротивъ!
Какъ напротивъ? прерываетъ насъ читатель. Неужели же газеты, про которыя вы говорите, сочувственно отзываются объ этомъ самоубiйствѣ? не можетъ это быть!
Сочувственно не сочувственно, но вникните въ смыслъ этой газетной фразы: «Семейство, въ которомъ жили несчастныя, представляетъ обра-зецъ неурядицы».
Это уже слова выражающiя воззрѣнiя газеты на семейную жизнь.
Что такое, по ея мнѣнiю, образецъ неурядицы въ семействѣ? спрашива-етъ читатель, прочитавши подчеркнутую нами фразу.
Газета отвѣчаетъ: образецъ неурядицы въ семействѣ есть присутствiе въ немъ суроваго, деспотическаго и самолюбиваго отца, требующаго без-условнаго повиновенiя родительской власти отъ дѣтей и признающаго естественнымъ проявлять въ отношенiяхъ родителей къ дѣтямъ предпо-чтенiе сыновей дочерямъ.
Теперь представьте себѣ дѣвушку читающую эти строки въ газетѣ, и наивно слѣпо вѣрящую что эта газета есть органъ общественнаго мнѣнiя: какое произведутъ на нее эти строки влiянiе, буде она не тверда ни въ рели-гiи, ни въ пониманiи нравственныхъ и семейныхъ началъ? (а такихъ дѣву-шекъ теперь совсѣмъ не мало).
Не скажетъ ли она себѣ: во первыхъ я имѣю право судить моего отца; если по моему суду окажется что онъ суровъ, деспотиченъ, самолюбивъ, если онъ требуетъ отъ дѣтей безусловнаго подчиненiя родительской власти, если онъ сыновей предпочитаетъ дочерямъ, тогда онъ выходитъ об-разцомъ семейной неурядицы; а если это образецъ неурядицы, то я могу и не слушать его, я могу протестовать противъ насилiя, я могу жаловаться обществу, газетамъ, мировому судьѣ 1 . Сумбуръ вошелъ въ голову дѣвушки: фальшь есть, а затѣмъ, при первомъ удобномъ случаѣ, является попытка дѣвушки открыто неповиноваться отцу или матери, потомъ требованiе родителями повиновенiя, потомъ противодѣйствiе имъ уже съ озлобленiемъ, затѣмъ постепенное установленiе отношенiй натянутыхъ, проникнутыхъ взаимнымъ недовѣрiемъ, потомъ полное обособленiе дѣвушки отъ мiра ея родителей, и такъ далѣе, до той минуты пока какое нибудь чрезвычайное событiе, напримѣръ любовь къ кому нибудь дѣвушки, или какая нибудь смѣлая рѣшимость избрать себѣ, вопреки волѣ родителей, самостоятельную карьеру, не поставятъ дѣвушку передъ родителями въ окончательную съ ними рознь. И мудрено-ли что въ такую минуту, дѣвушка, задавшись фальшивою мыслью что она судья своихъ родителей, что родители ея деспоты, что жизнь ея въ эту минуту ломаетъ будто-бы этотъ деспотизмъ, что общество и печать стоятъ за нее и противъ родителей, все болѣе и болѣе приходитъ въ экзальтированное состоянiе, и не видя въ этой схваткѣ экзальтацiи съ дѣйствительностью никакого исхода, пишетъ записку безсвязную, въ родѣ той которую мы прочитали выше, пишетъ для общества , для печати , пишетъ съ мыслiю что она мученица, и затѣмъ кидается въ воду, говоря себѣ: я умру, но записка моя меня переживетъ!
Все это въ нашъ вѣкъ всеобщаго сумбура въ мысляхъ и чувствахъ весьма возможно и даже при всей своей противоестественности можетъ казаться естественнымъ.
Но вотъ что неестественно: это легкомыслiе печати.
Самоубiйство дѣвушки живущей въ семьѣ само по себѣ фактъ столь важный, когда рѣчь идетъ объ оглашенiи его въ печати, что психическiй его анализъ набрасываетъ нá-скоро, на основанiи пустыхъ догадокъ и слу-ховъ и безсвязной и безсмысленной записки, съ тѣмъ чтобы такiя легко-мысленныя сужденiя признавать безошибочнымъ разъясненiемъ при-чинъ самоубiйства двухъ дѣвушекъ — болѣе чѣмъ странно; ибо всякiй знаетъ какое, къ сожалѣнiю, огромное влiянiе на умы молодежи имѣетъ у насъ та печать, которая, какъ газетная, страдаетъ болѣе всего недугомъ необдуманности, поверхностности и легкомыслiя.
Не говоря уже о томъ что всѣ сообщаемыя положительныя догадки газетою «Новымъ Временемъ» совершенно, однакоже, ничѣмъ не доказаны; — не говоря объ этомъ, обратимся къ самимъ фактамъ, будто бы разъ-ясняющимъ самоубiйство для редакцiи газеты «Новое Время».
По понятiямъ о семейной жизни, внесеннымъ въ мiръ христiанствомъ, въ которыхъ мы всѣ воспитывались, дѣтямъ судить родителей не приходится даже и тогда, когда родители проявляютъ какiе либо крупные недостатки. Случаи есть когда исполнить это трудно, но несомнѣнно что слѣдуетъ сдерживать себя сердечно. На родителяхъ въ этомъ же смыслѣ лежатъ тоже не менѣе важныя обязанности, но забвенiе ихъ одною стороною отнюдь не освобождаетъ отъ нихъ другую. Что же сказать о такихъ не-достаткахъ, какъ самолюбiе, суровость и даже деспотичность родителей?
Вдумался ли тотъ кто писалъ эти оправдательныя строки въ пользу не-счастныхъ утопленницъ Охты въ смыслъ имъ высказанныхъ обвиненiй противъ родителей, когда называлъ эти нравственныя черты родителей образцомъ семейной неурядицы? Вѣроятно не вдумался, ибо иначе его прежде всего поразила бы мысль что всѣ эти прилагательныя: «суровый, деспотичный, самолюбивый», въ примѣненiи къ свойствамъ родителей, тогда только могутъ получить силу тяжкаго обвиненiя родителей относительно дѣтей, когда они доказываются рядомъ возмутительныхъ поступ-ковъ этими родителями противъ дѣтей совершенныхъ. Но когда, какъ въ настоящемъ случаѣ, называются однѣ только черты личности родителей, а фактовъ вѣскихъ въ доказательство уродливости этихъ чертъ не приводится, тогда газета принимаетъ на себя тяжелую отвѣтственность передъ обществомъ за то что даетъ всякому ребенку право называть самолюбiемъ, суровостью и деспотизмомъ въ родителяхъ своихъ все что ему захочется и все что ему вздумается !
Отецъ вырветъ изъ рукъ дочери атеистическую книгу — это деспо-тизмъ, скажетъ дочь; отецъ не позволитъ дочери знакомиться съ какимъ нибудь студентомъ медицинской академiи, — это суровость и деспотизмъ; отецъ запретитъ дочери выходить одной на улицу, — это деспотизмъ; отецъ станетъ усовѣщевать дочь за рѣзкiя ея выходки, — это суровость. И такъ до безконечности! Пусть это выражается иногда со стороны родителей дѣйствительно строго, съ излишнею и угрюмою мнительностью, съ раздражительностью и взыскательностью, но деспотизмъ-ли это въ са-момъ дѣлѣ и достаточная ли это причина къ самоубiйству? Что же касается до самолюбiя , какъ недостатка въ родителяхъ объясняющаго безошибочно нравственную причину самоубiйства дочери, — то, признаемся, тутъ уже просто газета поставила слово вѣроятно сама не зная зачѣмъ, ибо понятiя о самолюбiи отца или матери, какъ о признакѣ семейной неурядицы, понять никто не можетъ.
Но еще непонятнѣе чтобы можно было признавать предсмертную записку, написанную этими несчастными дѣвицами въ томъ видѣ, въ ка-комъ она была будто бы найдена, — документомъ, на основанiи котораго можно было бы дѣлать не только заключенiя, но даже мало-мальски вѣро-ятныя догадки; ибо всякiй со свѣжаго воздуха здравомыслящiй человѣкъ пойметъ что такая безсвязная записка — есть ничто иное какъ проявленiе или какого-то бреда, или какого нибудь болѣзненнаго умысла: о болѣз-ни и говорить бы какъ о болѣзни; а между тѣмъ газета строитъ на этой запискѣ цѣлое зданiе обвиненiя родителей въ какомъ-то странномъ пред-почитанiи сыновей дочерямъ, и въ деспотизмѣ.
Наконецъ, спрашиваемъ мы, какое право имѣетъ газета, съ такимъ болѣе чѣмъ плохимъ запасомъ точныхъ обвиненiй, вторгаться въ семейную жизнь честной семьи, и съ цѣлью оправдывать ненуждающихся уже въ земномъ оправданiи двухъ бѣдныхъ дѣвицъ, погибшихъ жертвами не-пониманiя своего христiанскаго долга, набрасывать тѣнь тяжкихъ и го-лословныхъ обвиненiй въ суровости, деспотизмѣ и тому подобныхъ свой-ствахъ на остающихся въ живыхъ, и безъ того уже пораженныхъ горемъ родителей?
Или эти газеты не знаютъ что семейная жизнь есть святыня, до которой печать не смѣетъ дотрогиваться до тѣхъ поръ, пока въ этой семьѣ не совершено преступленiе противъ общества? Какое же преступленiе совершили несчастные родители этихъ утопленицъ?
И неужели всякiй разъ какъ въ какой-либо семьѣ будутъ убивать себя сбитые съ толку жизненною фальшью нашего времени и нашего общества, газеты будутъ присвоивать себѣ право нравственныхъ слѣдователей, и вторгаться въ семейную жизнь, чтобы обвинять однихъ и оправдывать во что бы то ни стало другихъ?
А отъ этого мы очень недалеки, ибо не забудемъ что по поводу этого событiя, газета назвала требованiе родителями отъ дѣтей безусловнаго подчиненiя ихъ власти, то есть то начало, которое христiанство положило въ основу семейной жизни, безошибочно понятною причиною самоубiйства!
И такъ всякiй разъ что родители, даже съ полною любовью и безъ вся-каго «деспотизма», будутъ требовать отъ дѣтей то что они должны требовать, какъ родители, — т. е. полнаго подчиненiя ихъ власти, а дѣти вслѣд-ствiе этого будутъ стрѣляться и топиться, то родители будутъ предаваемы печатью на позоръ, а дѣти будутъ возводимы въ санъ мучениковъ?
Прiятная будущность для нашей семейной жизни впереди!
П…
КОММЕНТАРИЙ
Лексико-стилистические особенности публикации, в частности, использование авторского мы («Мы сегодня прочитали», «просимъ читателей», «скажемъ мы читателю» и др.) однозначно указывают на редакционный характер этой статьи. Это исключает авторство временного сотрудника или случайного корреспондента «Гражданина».
В период редакторства Достоевского авторская подпись П. встречается на страницах газеты-журнала трижды. Кроме комментируемой публикации, криптонимом П. помечены статьи «Неоцененное побуждение» в № 45 1873 года3) и «Психологический вопрос из дела Непениных (Письмо к редактору)» в № 10 1874 года. Текстологический анализ обеих статей и документальный источник (письмо А. У. Порецкого к Ф. М. Достоевскому от 31 октября 1873 года — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29821) свидетельствуют о принадлежности этих публикаций А. У. Порецкому. По-видимому, его же следует считать автором первоначального варианта статьи «Семейная неурядица как причина самоубийства»4).
Есть основания думать, что статья А. У. Порецкого «Семейная неурядица…» была существенным образом переработана («переписана») редактором «Гражда-нина»5). Основные доводы в пользу активного вмешательства редактора в авторский текст:
-
1. Заметное несоответствие стиля статьи — нервно-эмоционального, энергичного, с нажимом — обычной стилистике публикаций А. У. Порецкого6).
-
2. Несочетаемость ряда содержащихся в статье суждений (трактовка проблемы суицида, понимание пределов родительской власти над совершеннолетними детьми) с мировоззренческими установками А. У. Порецкого, отразившимися, в частности, в его статье-обозрении «Из текущей жизни» в том же номере «Гражданина». В «противовес» намеренно строгому осуждению девушек-самоубийц в «Семейной неурядице…» (погибли «жертвами непониманiя своего христiан-скаго долга») Порецкий с состраданием, без порицания рассказывает о попытке самоубийства молодой крестьянки из Кологривского уезда7). Одной из причин трагической ситуации была воля родителей жениха героини («ласками, настойчивостью, угрозами — заставили его жениться на <…> другой»). Явно не подкрепляет доводы статьи «Семейная неурядица…» в пользу « полнаго », « безуслов-наго » подчинения взрослых детей власти родителей обрисованная в другом сюжете обозрения Порецкого личность отца, сожительствовавшего с дочерью (тесть Ивана Варварина)8). Эффект несочетаемости двух материалов журнального номера, написанных примерно в одно и то же время, усиливает то, что в журнале они помещены рядом, один за другим.
-
3. Использование в графическом оформлении текста жирного шрифта, отсутствующего в публикациях А. У. Порецкого в «Гражданине» . Более сильное в сравнении с курсивом средство акцентирования, жирный шрифт применялся в материалах «Гражданина» довольно редко. Кроме статьи «Семейная неурядица…», мы находим его всего в 23 статьях и заметках, опубликованных в редакторство
Достоевского9) (писателем выпущено 65 номеров издания, в т. ч. два сдвоенных). Анализ данных текстов дает право считать применение в публикации жирного шрифта веским указанием на участие в ее подготовке либо В. П. Мещерского, либо Ф. М. Достоевского10). Однако В. П. Мещерский в 1873 — начале 1874 года практически не занимался в «Гражданине» литературной правкой рукописей.
Проблема «участившихся самоубийств» ( «самоубийства у нас до того в последнее время усилились, что никто уж и не говорит об них. Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей» ( Д30, т. 23, с. 24) ) привлекала внимание Достоевского-публициста еще в «гражданинский» период («Среда», «Две заметки редактора», замысел статьи о Елизавете Гейденрейх). Позднее — в «Дневнике Писателя» 1876–1877 годов — проблема получит детальную разработку средствами публицистического анализа («Одна несоответственная идея», «Два самоубийства», «Приговор», «Запоздавшее нравоучение», «О самоубийстве и о высокомерии», «Именинник» и др.) и художественного осмысления («Кроткая», «Сон смешного человека»). Достоевский укажет и подчеркнет (1876): «Мы <…> видим очень много <…> самоубийств, странных и загадочных, сделанных вовсе не по нужде, не по обиде, без всяких видимых к тому причин, вовсе не вследствие материальных недостатков <…> Такие случаи в наш век составляют большой соблазн». Он даст следующее объяснение отмеченному феномену: «…в большинстве <…> прямо или косвенно, эти самоубийцы покончили с собой из-за одной и той же духовной болезни — от отсутствия высшей идеи существования в душе их» ( Д30, т. 24, с. 50). Такие самоубийства Достоевский противопоставляет самоубийствам, совершенным от безысходности, — подобным тем, что описаны им в статьях «Среда» (случай крестьянки Аграфены Саяпиной), «Два самоубийства» (случай швеи Марьи Борисовой). Осуждение самоубийства, сделанного человеком «от отсутствия высших целей жизни», обычно не отменяет у Достоевского сострадания к умершему: «…к этим фактам надо относиться человеколюбивее <…> В фактах этих, может быть, мы и сами все виноваты» ( Д30, т. 24, с. 54). Однако в отдельных случаях самоубийцы удостаиваются весьма жестких (без оттенка жалости) оценок в записных тетрадях писателя: «Читал письмо о барышне, кончив<шей> самоубийством. Нет высшего сознания жизни, то есть сознания долга и правды, что единственно составляет счастье. И как она устала, о как она устала, какое ма-терьяльное понимание в счастье, распределение денег <…> Как противно» (о самоубийстве Надежды Писаревой) ( Д30, т. 24, с. 211).
В записной тетради «гражданинского» периода встречаем сходную по смыслу отметку о самоубийстве Елизаветы Гейденрейх (последняя треть сентября 1873 года — за два месяца до появления в «Гражданине» статьи «Семейная неурядица…»): «Жаль, но негодование, отвращение <…>
Нет, настоящего живого чувства тут не было, тут была книжка в голове (если она образованная барышня).
Своенравие и современная идея, что всё мне принадлежит, а я никому и ничего не должна.
Застрелиться под музыку» ( Д30, т. 21, с. 254).
Невеста купца-миллионера Е. Гейденрейх покончила с собой на подмосковной даче на балу после того, как была оскорблена женихом. Примечательно, что к жениху-обидчику Достоевский оказывается более снисходителен: «…имел же, кроме питья, достоинства <…> Он безобразник, но это безобразие <…> даже не ужаснее битья зеркал и тарелок» (Там же). У писателя возникает замысел статьи о невесте-самоубийце. 25 сентября 1873 года Вс. С. Соловьев сообщает в Москву своей матери, П. В. Соловьевой, что Достоевский «хочет <…> написать статью», и от имени писателя обращается к ней «с просьбою ответить на следующие вопросы: 1) что говорят в Москве — симпатизируют ли девушке и порицают купчика-богача, или наоборот, со стороны его не видят особенной вины, а ее резоны находят несерьезными? 2) была ли она объявленной невестой? <…> 4) не известны ли фамилии и место действия» [14, 417]. Однако, не дожидаясь сведений от П. В. Соловьевой (во всяком случае, в дневниковой отметке писателя эти сведения, в т. ч. даже фамилии, не зафиксированы), Достоевский заносит в записную тетрадь готовое суждение11). Таким образом, в сентябрьском замысле писателя-публициста очевидна изначальная установка осудить самоубийцу прежде подробного выяснения обстоятельств . Подобная установка впоследствии будет реализована в журнале Достоевского в статье «Семейная неурядица…». Так, при наличии записки погибших дочерей с обвинением, однозначно направленным против родителей, автор статьи характеризует затронутое трагедией семейство как «честную семью» и возлагает всю тяжесть вины за случившееся на дочерей-самоубийц.
Весьма существенно в записи Достоевского об истории Е. Гейденрейх двойное упоминание о расчете самоубийцы на публичность : «Надо было газет и публики», «Ей надо было публики и газет» ( Д30, т. 21, с. 254, 256). Та же мысль, выраженная сходным образом, присутствует в статье «Семейная неурядица…»: «пишетъ записку <…> для общества, для печати <…> и затѣмъ кидается въ воду» (в том же абзаце статьи выше находим еще два упоминания об «обществе и газетах»: «я могу жаловаться обществу, газетамъ», «фальшивою мыслью <…> что общество и печать стоятъ за нее»). Такое «совпадение» очевидно свидетельствует об участии Достоевского в подготовке текста статьи.
Кроме этого, можно провести разноплановые аналогии между «Семейной неурядицей…» и публицистическими текстами Достоевского, главным образом, «гражданинского» периода (наибольшее количество соответствий обнаруживается в статье «Одна из современных фальшей», опубликованной в следующем, 50-м, номере «Гражданина» 1873 года ):
-
а) Композиционные приемы. Статьи «Семейная неурядица…» и «Одна из современных фальшей» начинаются с внешне малозначимой газетной цитаты; затем автор указывает реальный масштаб скрытого за цитатой неблагоприятного
(потенциально опасного) общественного явления. Далее разворачивается настойчивая, несколько «придирчивая» полемика, в ходе которой тема статьи получает окончательную разработку. В «Семейной неурядице…» используется и характерный публицистике Достоевского прием мысленного диалога 12): «Любопытство читателя возбуждено; онъ спрашиваетъ нетерпѣливо: какiя же это причины?
Причины слѣдующiя <…>
Какiя же доказательства тому что именно эти причины побудили двухъ дѣ-вицъ утопиться? спрашиваетъ читатель.
А доказательство въ томъ безсвязномъ, но характерномъ содержанiи предсмертной записки <…>
Чѣмъ же оно характерно? спроситъ читатель.
А тѣмъ что въ ней вотъ что написано <…>
Но, скажетъ читатель, не можетъ же быть чтобы газеты находили все это причинами къ самоубiйству понятными <…>
Какая наивность! скажемъ мы читателю», — и т. д.
-
б) Особенности построения фраз, синтаксис статьи. Обращает на себя внимание следующая параллель с текстом обозрения Достоевского «Иностранные события» в № 51 «Гражданина» 1873 года. Желчно-иронический комментарий в двух совершенно разных случаях выражен сходным оборотом фразы: «Все это въ нашъ вѣкъ всеобщаго сумбура въ мысляхъ и чувствахъ весьма возможно и даже при всей своей противоестественности можетъ казаться естествен-нымъ» — «Весьма может быть, что все эти чудеса в Испании и есть нормальное ее состояние» ( Д30, т. 21, с. 238). В «Семейной неурядице…» многократно встречаются свойственные стилю Достоевского синтаксические инверсии: «случаи есть», «сдерживать себя сердечно», «тогда только», «фактовъ вѣскихъ» и др.
-
в) Образные понятия. Сестры-самоубийцы признаются мнимыми мученицами : «…не видя въ этой схваткѣ экзальтацiи съ дѣйствительностью никакого исхода, пишетъ записку безсвязную <…> пишетъ съ мыслiю что она мученица»; «…родители будутъ предаваемы печатью на позоръ, а дѣти будутъ возводимы въ санъ мучениковъ?» — ср. пассаж о петрашевцах в «Одной из современных фаль-шей»: «…то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже <…> мученичеством, за которое многое нам простится!» ( Д30, т. 21, с. 133) (расценивалось «поздним» Достоевским как заблуждение). В безусловной связи с образной системой Достоевского находится употребленное в комментируемой статье выражение «всякiй со свѣжаго воздуха здравомыслящiй человѣкъ» — ср.: «Бывают такие времена в жизни народа, что в нем особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух <…> в ближайшее время к Петру уже чувствовал народ худобу жизни, заявлял свой протест против действительности и пытался выйти на свежий воздух…» ( «Два лагеря теоретиков (по поводу “Дня”
и кой-чего другого)» ( Д30, т. 20, с. 14) ) ; «.просто стало душно жить, вроде того, как бы воздуху недостало» ( «Два самоубийства» ( Д30, т. 23, с. 146) ) .
-
г) Лексика. Из «узнаваемых» слов и выражений Достоевского в статье встречаем:
сумбуръ : «Сумбуръ вошелъ въ голову дѣвушки»; «нашъ вѣкъ всеобщаго сумбура въ мысляхъ и чувствахъ» — ср.: «Что за сумбур? Кто может поверить такому обвинению?»; «Двадцать лет назад известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром» ( «Одна из современных фальшей» ( Д30, т. 21, с. 127, 135) ) ;
фальшь, фальшивый (как характеристика идей, понятий и т. п.): «фальшь есть»; «задавшись фальшивою мыслью что она судья своихъ родителей»; «сбитые съ толку жизненною фальшью нашего времени и нашего общества» — ср.: «И вообще во всем этом волнении, которое называется теперь женским вопросом, несомненно слышится чрезвычайная фальшь» ( предисловие к статье Л. Ю. Кохновой «Ответ женщины на призыв “Гражданина” “К делу!”» ( Д30, т. 21, с. 276) ) ; «кругом нас такой туман фальшивых идей» ( «Одна из современных фальшей» ( Д30, т. 21, с. 136) ) ;
во что бы <то> ни стало : «обвинять однихъ и оправдывать во что бы то ни стало другихъ» — ср.: « Отрицанием факта во что бы ни стало можно достигнуть удивительных результатов» ( «Одна из современных фальшей» ( Д30, т. 21, с. 128) ) 13); «.гениальная нация хочет жить <.> во что бы то ни стало» ( «Иностранные события» в № 51 «Гражданина» (Д30, т. 21, с. 237) ) ; «.ее ошибки не таковы, чтобы православным <…> нужно было во что бы то ни стало отрицать их» («Разъяснение некоторых сторон вопроса о нуждах единоверия» [5, 29]);
псевдо-либеральный : «наша псевдо-либеральная пресса» — ср.: «Вот уже с незапамятных псевдолиберальных наших времен»; «многим органам нашей псевдо-либеральной прессы» ( «Одна из современных фальшей» ( Д30, т. 21, с. 126, 127) ) ;
газетная печать : «та печать, которая, какъ газетная, страдаетъ болѣе всего не-дугомъ необдуманности»14 ) — ср.: «в нашей газетной прессе» ( «Одна из современных фальшей» ( Д30, т. 21, с. 126) ) .
Идейно-тематический и лексико-стилистический анализ статьи «Семейная неурядица…», таким образом, позволяет установить факт участия Достоевского в написании текста. В статье в измененном виде и на новой фактической основе «воплотился» недавний (сентябрьский) публицистический замысел Достоевского со «строгим осуждением» самоубийства. Статье «Семейная неурядица…» предшествовал материал на ту же тему А. У. Порецкого, не вполне удовлетворивший Достоевского как редактора и значительно переработанный им.
<В. Ф. Пуцыкович, Ф. М. Достоевский>
ИНОСТРАННЫЯ СОБЫТIЯ
(Гражданинъ. 1874. 25 Марта. № 12. С. 346–348)
10 (22) марта, въ Берлинѣ торжественно праздновали годовщину дня рожденiя маститаго германскаго императора1. Отвѣчая на поздравительную рѣчь фельдмаршала Врангеля 2 , императоръ коснулся внутренней германской политики. «Такъ какъ вы явились представителями армiи, между прочимъ, сказaлъ императоръ, обращаясь къ Врангелю и всѣмъ явившимся къ нему генераламъ, то я не могу умолчать насчетъ того, что, повидимому, надъ нею носится новый кризисъ». Затѣмъ прибавилъ, что Германiя всѣмъ обязана союзной армiи и что сознанiе этого одобряетъ 3 его быть настойчивымъ не для возбужденiя войны, а для сохраненiя мира въ Европѣ… Bъ этихъ словахъ императоръ-воинъ желалъ, безъ сомнѣнiя, выразить собравшемуся передъ нимъ высшему воинству свое огорченiе, за нѣсколько дней до того испытанное имъ, вслѣдствiе противодѣйствiя со стороны парламентской коммисiи рейхстага военному закону 4 , который недавно защищалъ своею знаменитою рѣчью фельдмаршалъ Мольтке 5 . Но слова эти подняли немалую тревогу во всей Германiи. Теперь то и дѣло въ печати толкуютъ о неизбѣжномъ рѣшительномъ столкновенiи правительства съ парламентомъ (и при томъ съ партiею нацiоналъ-либераловъ 6 )
и о предстоящемъ распущенiи того самаго рейхстага, который такъ недавно открылся и въ которомъ за правительствомъ, повидимому, было обезпечено значительное большинство 1 . Особенно-же эти тревожные толки о парламентскомъ кризисѣ усилились послѣ того, какъ князь Бисмаркъ 2 (который въ послѣднее время, по случаю опасной болѣзни, совсѣмъ удалился отъ дѣлъ 3 ) заявилъ, въ частномъ разговорѣ съ депутатами рейхстага, по поводу военнаго закона, что императору остается одно изъ двухъ: или распустить парламентъ, или принять отставку его, Бисмарка, о которой онъ будетъ просить вслѣдъ за выздоровленiемъ, — и пocлѣ того, какъ импера-торъ подтвердилъ, въ бывшей на дняхъ военной конференцiи, свои перво-начальныя слова о своей настойчивости въ дѣлѣ проведенiя военнаго закона. По случаю-же наступившихъ парламентскихъ вакацiй, произошелъ перерывъ занятiй парламентской коммиссiи. Этимъ воспользовались оф-фицiозные и сочувствующiе правительству органы печати и подняли сильную агитацiю въ пользу безусловнаго принятiя военнаго закона, взывая къ патрiотизму германцевъ…
Заслуживаетъ вниманiя, еще одно событiе въ Германiи. Рейхстагъ, пе-редъ закрытiемъ засѣданiй по случаю вакацiй, утвердилъ предложенiе относительно обязательнаго введенiя гражданскаго брака во всей Германiи, недавно введеннаго въ Пруссiи 4 .
Почти одновременно съ чествованiемъ, въ объединенной Германiи, годовщины дня рожденiя императора Вильгельма, 11 (23) марта въ объединенной Италiи происходило еще большее торжество: тамъ праздновали двадцатипятилѣтнiй юбилей восшествiя на престолъ короля Вик-тора-Эммануила5, который получилъ самыя дружескiя поздравленiя отъ европейскихъ государей и правительства американскихъ Соединенныхъ Штатовъ и восторженныя заявленiя сочувствiя отъ всѣхъ концовъ Италiи, не исключая и населенiя самаго Рима. Самъ Пiй IX1 не замедлилъ почтить короля присылкою поздравленiя, на которое послѣднiй поспѣшилъ отправить благодарственное письмо. Разумѣется, почти всѣ поздравленiя отъ подданныхъ, выраженныя разными народными представительствами и представителями, сводились къ выраженiю признательности юбиляру за великое дѣло объединенiя Италiи, пeренесенiя столицы объединеннаго королевства въ «Вѣчный городъ» и зa осуществленiе принципа «свободная церковь въ свободномъ государствѣ».
Мы уже говорили о возникающей и въ католической Австрiи борьбѣ государственной власти съ церковною (см. № 10)2. Нѣтъ сомнѣнiя, что борьба эта увеличивается.
При второмъ чтенiи новаго церковнаго законопроекта, парламентъ 13 марта утвердилъ его согласно съ предложенiями коммисiи. А ми нистръ-президентъ, князь Ауерспергъ3, съ согласiя самого императора, за-явилъ, что правительство будетъ энергически преслѣдовать и прекращать противозаконную оппозицiю, со стороны ультрамонтановъ, новымъ цер-ковнымъ законамъ. Въ томъ же смыслѣ сдѣлаль заявленiе въ палатѣ и ми-нистръ духовныхъ дѣлъ4. 16 (28) же марта въ палату депутатовъ внесено нѣсколькими членами предложенiе о приглашенiи правительства представить въ рейхсратъ проектъ закона объ изгнанiи изъ Австрiи iезуитовъ и сопричастныхъ къ нимъ монашескихъ oрденовъ.
Между тѣмъ въ вѣнской газетѣ «Volks-Freund» появился протестъ ав-стрiйскихъ aрхiепископовъ и епископовъ противъ проектовъ церковныхъ законовъ. Епископать протестуетъ противъ разныхъ постановленiй про-ектовъ, особенно противъ предполагаемаго введенiя въ Австрiи граждан-скаго брака и указываетъ на примѣръ Францiи, гдѣ, будто бы, введенiе гражданскаго брака вызываетъ всеобщее неудовольcтвie. Во всякомъ слу-чаѣ, австрiйскiй епископатъ, является нѣсколько умѣреннѣе пpyccкaгo въ борьбѣ съ государственною властью, — по крайней мѣрѣ вышеупомянутый протестъ оканчивается слѣдующимъ заявленiемъ: «мы признаемъ основанное на конкордатѣ требованiе справедливости не утратившимъ своей силы и готовы исполнять то, чего потребуетъ отъ насъ государственная власть, — на сколько эти требованiя не будутъ противорѣчить конкордату. Но мы никогда не подчинимся тѣмъ притязанiямъ, которыя оказались бы опасными для блага церкви»… Что касается iезуитовъ, то и съ ними не такъ легко справиться въ Австрiи, какъ это можно было думать. Не-давнiя пренiя въ палатѣ депутатовъ относительно предложенiя о закрытiи богословскаго факультета въ инспрукскомъ университетѣ1, какъ разсад-ника ieзуитства въ Австрiи, доказали, что ieзуиты еще сильны въ Австрiи. Правительство, въ лицѣ министровъ, защищало инспрукскiй iезуитскiй факультетъ, и тѣмъ ободрило iезуитовъ…
Вся современная политическая жизнь Францiи сосредоточивается на двухъ достойныхъ вниманiя событiяхъ: на борьбѣ такъ называемаго «на-цiональнaгo» собранiя съ самою нацiею, избравшею его, и на борьбѣ правительства, т. е. кабинета исполнительной власти, съ разными пapтiями нацiональнаго собранiя, и между прочимъ съ партiями — избравшими главу этой самой исполнительной власти. Фактическая сторона дѣла такова. Окровавленная, истощенная и связанная по рукамъ и ногамъ нѣмецки-ми побѣдами, Францiя созвала въ 1870 году нацiональное собранiе2 съ тою цѣлью, чтобы оно развязалось какъ нибудь съ врагомъ. Благодаря преимущественно усилiямъ пользовавшагося европейскимъ довѣрiемъ Тьера3, со-бранiе расквиталось съ Геpманiею; но, вкусивъ сладость власти, положило не разставаться съ нею, т. е. не расходиться, не смотря на окончанiе своей миссiи и на постоянные отчаянные протесты страны противъ этого. И теперь страна дѣлаетъ всякiя усилiя, чтобы только развязаться со своимъ нацiональнымъ собранiемъ! Тоже самое случилось и съ нынѣшнимъ пра-вительствомъ. Получивъ исполнительную власть изъ рукъ монархическа-го большинства собранiя, маршалъ Макъ-Магонъ, въ лицѣ своего перваго министра, герцога Брольи4, ведетъ теперь борьбу съ нѣкоторыми партiя-ми этого большинства, постоянно подкапывающимися подъ его власть, ввѣренную ему ими самими на семь лѣтъ.
Самымъ краснорѣчивымъ подтвержденiемъ вражды нацiи со сво-имъ нацiональнымъ собранiемъ служатъ дополнительные выборы: не смотря на то, что такiе выборы производились уже много разъ, на мѣста выбывшихъ изъ собранiя депутатовъ, всегда побѣда оставалась за республиканскими кандидатами въ значительномъ большинствѣ голо-совъ. Такъ на послѣднихъ выборахъ, 18 (30) марта, въ департаментѣ Жиронды, республиканецъ Рудье получилъ 71,000 голосовъ, тогда какъ его противники получили: бонапартистъ 47,000 гол., а консерваторъ 23,000 гол. 1 ; въ департаментѣ-же Верхней-Марны республиканецъ Да-нель получилъ 36,000 гол. 2 противъ консерватора, получившаго лишь 24,000 гол… Нѣтъ полнаго основанiя утверждать, на основанiи такихъ результатовъ выборовъ, что Францiя страна чисто-республиканcкая, такъ какъ извѣстно, что пocлѣ республикъ французская нацiя не разъ высказывалась (разными способами) и за монархiю. Но несомнѣнно, од-накоже, изъ этихъ выборовъ, что Францiя крайне враждебно относится къ своему нынѣшнему собранiю, съ такимъ неслыханнымъ и несвойствен-нымъ народному пpедставительству насилiемъ навязывающему ей свою учредительную власть и отжившiя во Францiи традицiи, и уничтожающему всякое народное самоуправленiе 3 …
Что касается борьбы правитeльства съ разными партiями собранiя, то эта борьба въ послѣднее время стала принимать угрожающее направ-ленiе. Едва успѣло монархическое большинство собранiя рѣшить (въ но-ябрѣ) вопросъ о продленiи полномочiй главы исполнительной власти на семь лѣтъ1, какъ начались нескончаемые споры и интриги между самими же монархическими партiями, продлившими власть, объ этой самой продленной власти. Напрасно маршалъ Макъ-Магонъ заявилъ, при по-сѣщенiи коммерческаго суда, что oнъ оградитъ свою власть отъ всякихъ покушенiй противъ нее. Нападки легитимистовъ и бонапартистовъ не переставали раздаваться противъ этой власти. Дѣло даже дошло до того что радикалы явились косвенными защитниками власти маршала. Какъ извѣстно, вопросъ радикальной партiи сдѣланъ былъ относительно до-пущенiя министерствомъ подкапыванья монархистовъ подъ существую-щiй порядокъ, а слѣдовательно и семилѣтнюю власть президента республики. Но это не разъяснило дѣлa. Въ то же самое засѣданiе легитимистъ Казеновъ-де-Прадинъ2 заявилъ, что онъ понимаетъ законъ о продленiи полномочiй не бoлѣe какъ переходъ къ монархiи, и скомпрометировалъ Макъ-Магона, увѣряя, что онъ тотчасъ же долженъ yступить свое мѣсто королю, еслибъ послѣдовало возстановленiе монархiи. Почти одновременно съ этимъ происходила и бонапартистская демонстрацiя по случаю совершеннолѣтiя императорскаго принца3, который въ своей рѣчи ясно опредѣлилъ, что маршалъ Макъ-Магонъ, товарищъ побѣдъ и нecчacтiй его отца, долженъ уступить свое мѣстo ему, принцу, лишь только окажется удобное время послѣ имѣющаго быть народнаго голосованiя. Хотя герцогъ Брольи отвѣчалъ на первое заявленiе, что это личное мнѣнiе Прадинa, нисколько не обязывающее правительство, а на второе — лишь отставками должностныхъ лицъ изъ бонапартистовъ, ѣздившихъ къ императорскому принцу; но отъ этого дѣла не улучшились. Точно также не подѣйствовало и письмо къ Брольи самого Макъ-Магона, пocпѣшившaгo заявить, что онъ вполнѣ одобряетъ заявленiя его во время запроса радикаловъ и напомнив-шаго свою угрозу, произнесенную въ коммерческомъ судѣ, относительно того, что онъ, маршалъ, съумѣетъ оградить свою продленную власть отъ нападенiя разныхъ партiй.
Походъ противъ семилѣтнихъ полномочiй снова начался со стороны нетерпѣливыхъ насчетъ прiѣзда «короля» монархистовъ. Легитимистъ виконтъ д’Абовиль1, говоря о письмѣ Макъ-Mагoнa, написанномъ по поводу заявленiя Прадина, обвиняетъ Брольи въ томъ, что онъ замыш-ляетъ семилѣтнюю республику и уничтожаетъ плоды низверженiя Тьера, и, сверхъ того, прямо нападаетъ на самого Mакъ-Магона, увѣряя, что маршалъ глубоко огорчилъ «своихъ настоящихъ друзей», которыхъ, четыре мѣсяца тому назадъ, yвѣрялъ въ своемъ сочувствiи и относительно которыхъ не сдержалъ своихъ обѣщанiй. Извѣстный уже легитимистъ маркизъ Франльё2, раздраженный, тѣмъ, что ему президентъ собранiя не далъ о чемъ-то говорить, напечаталъ угрозу относительно того, что въ маѣ, послѣ вакацiй, онъ, имѣя въ виду прецедентъ отмѣны собранiемъ своихъ же недавнихъ рѣшенiй, сдѣланной собранiемъ наканунѣ, при отмѣнѣ закона о муниципальныхъ совѣтахъ, напомнитъ депутатамъ о необходимости отмѣнить рѣшенiе, принятое ими 20 ноября, относительно семилѣтней власти и заставитъ депутатовъ «положить конецъ временному правленiю, котораго Францiя не можетъ долѣе терпѣть». Независимо отъ этого еще одинъ легитимистъ, Дагирель3, нападая съ трибуны на ceмилѣтнiя полно-мочiя, внесъ предложенiе, прямо направленное противъ существующаго правительства: о томъ, чтобы собранiе не позже 1 iюня высказалось въ пользу какой нибудь окончательной формы правленiя. Наконецъ, по случаю наступившихъ вакацiй собранiя, возобновились, по примѣру про-шлаго года, интриги и сношенiя монархистовъ съ графомь Шамборскимъ. Уже на послѣднихъ засѣданiяхъ отсутствовали нѣкоторые легитимисты. Носятся слухи, въ парижскихъ газетахъ, что Казеновъ-де-Прадинъ, из-вѣстный Люсьенъ Бренъ4 и другiе приближенные къ главѣ Бурбоновъ и уполномоченные роялистами уже отправились въ Фросдорфъ5 для окон-чательнаго соглашенiя «съ королемъ».
Такимъ образомъ, какъ власть cобранiя, такъ и «упроченная на семь лѣтъ власть» Mакъ-Магона постоянно, и особенно впродолженiи нѣсколь-кихъ послѣднихъ дней подрядъ, сильно колебались самими-же монархистами.
По извѣстіямъ изъ Испанiи, полученнымъ въ послѣднiе дни, но не-достовѣрнымъ, оказывается, что происходили двѣ большiя битвы между карлистами и войсками правительства1. Происходила битва, въ которой, по карлистскимъ извѣстiямъ, республиканцы потеряли, будто бы, до 6,000 чел., въ томъ числѣ 1,500 плѣнными, а сами карлисты — лишь 1,500 чел. По сообщенiямъ же изъ лагеря Соморостро2, пpoисходила битва подъ Бильбао, въ которой республиканцы насчитываютъ изъ своихъ убитыми до 300 чел. и ранеными до 1,400 чел. Во всякомъ случаѣ о силѣ междоусобной войны можно судить по тому, что сами главные начальники peспубликанскихъ войскъ, принимаютъ энеpгичecкoе участiе въ бою и подаютъ примѣры храбрости: гeнepалъ Примо-де-Ривера смертельно раненъ3, генералъ Лома4 тоже получилъ опасную paну, а генералъ
Топете1 чуть было не попался въ руки непрiятеля; самъ главнокомандую-щiй2 подвергалъ свою жизнь большой опасности, причемъ рядомъ съ нимъ убитъ его трубачъ.
В–ръ П–чъ .
КОММЕНТАРИЙ
Рубрика «Иностранные события» была открыта Достоевским в газете-журнале «Гражданин» 17 сентября 1873 года. Достоевскому принадлежат выпуски «Иностранных событий» в №№ 38–46, 51, 52 1873 года и в № 1 1874 года. В январе 1874 года писатель передал рубрику секретарю редакции «Гражданина» В. Ф. Пу-цыковичу.
Композиционные особенности, лексико-стилистическое оформление обозрения «Иностранные события» в № 12 журнала от 25 марта 1874 года, наличие в публикации идейно-тематических параллелей с одним из прошлогодних выпусков «Иностранных событий» Ф. М. Достоевского (1873. № 42) дают основание предположить анонимное участие Достоевского в написании материала. Достоевскому может быть атрибутирован французский сюжет обозрения15) («Вся современная политическая жизнь Францiи <…> сильно колебались самими-же монархистами»).
Основания для атрибуции:
-
1. Контраст стилистического оформления французского сюжета с обычным — сухим и деловым — стилем В. Ф. Пуцыковича (который ощутим, в частности, в остальных сюжетах обозрения в № 12). Французский раздел написан раскованным, свободным слогом; текст обильно насыщен метафорами и публицистическими образами: «Окровавленная, истощенная и связанная по ру-камъ и ногамъ нѣмецкими побѣдами, Францiя созвала въ 1870 году нацiо-нальное собранiе съ тою цѣлью, чтобы оно развяз ало сь какъ нибудь съ врагомъ»; «собранiе р аскв ит ало сь съ Геpманiею; но, в куси въ сл адо с ть власти, положило не разставаться съ нею <…> не смотря на окончанiе своей миссiи и на постоянные отчаянные протесты страны противъ этого. И теперь страна дѣлаетъ всякiя усилiя, чтобы только развязаться со своимъ нацiональ-нымъ собранiемъ!» (разрядка наша. — А. О. ). Изложение событий сопровождается меткими, емкими ироническими замечаниями, напр.: «борьба такъ называема-го “нацiональнaгo” собранiя съ самою нацiею, избравшею его». Стили с тическое
-
2. Во французском сюжете имеются идейно-тематические соответствия с «Иностранными событиями» Достоевского в № 42 «Гражданина» от 15 октября 1873 года. Сравним комментарий в обоих обозрениях к известиям о победах республиканских кандидатов на дополнительных выборах во французское Национальное собрание. 1874, № 12: «НЪтъ полнаго основанiя утверждать, на основаши такихъ результатовъ выборовъ, что Францiя страна чисто-республиканcкая, такъ какъ извѣстно, что пocлѣ республикъ французская нацiя не разъ высказывалась (разными способами) и за монархiю». 1873, № 42: «Недавние выборы на четыре вакантные места в Собрании огромным большинством разрешились в пользу республиканцев <…> Это не значит, что французы так вдруг пожелали теперь республики, а значит лишь то, как испугались они восстановления “законной монархии”» ( Д30, т. 21, с. 209). Резко негативная оценка деятельности монархического большинства Национального собрания в обозрении в № 12 1874 года также имеет соответствие в «Иностранных событиях» в № 42 за предыдущий год. 1874, № 12: «...Франщя крайне враждебно относится къ своему нынешнему собранiю, съ такимъ неслыханнымъ и несвойственнымъ народному пpедставительству на-силiемъ навязывающему ей <...> отжившiя во Францiи традищи». 1873, № 42: «…Национальное собрание <…> перестало выражать собою истинную волю страны, а стало быть, власть его в настоящее время — одно злоупотребление <…> Собрание оскорбляет нацию и ввергает всех здравомыслящих людей в удивление <…> что несколько своевольных людей, против воли всей Франции, могут <…> навязать ей ненавистный образ правления» (там же).
-
3. Претендент на французский трон от легитимистов граф де Шамбор в обозрении в № 12 1874 года именуется графом Шамборским . Подобное русское переложение титула comte de Chambord очень характерно для Достоевского. Но оно разнится с общепринятым русским написанием этого титула; такой вариант не встречается в публицистике В. Ф. Пуцыковича и, за весьма редкими исключениями, не принят в русской прессе XIX века.
-
4. В обозрении в № 12 1874 года примечательно перечисление без какого-либо информационного повода ряда тем и фактов, уже рассмотренных В. Ф. Пуцыко-вичем в январских–мартовских выпусках «Иностранных событий»:
-
— «Едва успѣло монархическое большинство собранiя рѣшить (въ ноябрѣ) во-просъ о продленiи полномочiй главы исполнительной власти на семь лѣтъ, какъ начались нескончаемые споры и интриги между самими же монархическими партiями, продлившими власть» (сюжет подробно описан в «Иностранных событиях» в № 4 «Гражданина» 1874 года, см. указанный номер, с. 103–105);
-
— «Напрасно маршалъ Макъ-Магонъ заявилъ, при посѣщенiи коммерческаго суда, что oнъ оградитъ свою власть отъ всякихъ покушенiй противъ нее» (упоминалось в «Иностранных событиях» в № 7 1874 года, см. указанный номер, с. 194);
своеобразие французского сюжета обозрения трудно объяснить даже глубокой редакторской правкой рукописи Пуцыковича Достоевским.
-
— «Дѣло даже дошло до того что радикалы явились косвенными защитниками власти маршала <…> вопросъ радикальной партiи сдѣланъ былъ относительно допущенiя министерствомъ подкапыванья монархистовъ подъ существую-щiй порядокъ» (история с депутатским запросом радикалов поэтапно изложена в «Иностранных событиях» в №№ 4, 7, 10 1874 года — см. с. 105, 196, 283 в годовом комплекте «Гражданина»);
-
— «…происходила <…> демонстрацiя по случаю совершеннолѣтiя император-скаго принца, который въ своей рѣчи ясно опредѣлилъ, что маршалъ Макъ-Ма-гонъ, товарищъ побѣдъ и нecчacтiй его отца, долженъ уступить свое мѣстo ему, принцу» (упоминалось в «Иностранных событиях» в № 10 «Гражданина» 1874 года, см. указанный номер, с. 283).
Повторяя эту информацию, обозреватель не дополняет ее какими-либо новыми подробностями, уточнениями, а лишь подкрепляет ею свою основную мысль: «Вся современная политическая жизнь Францiи сосредоточивается <…> на борь-бѣ такъ называемаго “нацiональнaгo” собранiя съ самою нацiею, избравшею его, и на борьбѣ правительства, т. е. кабинета исполнительной власти <…> съ партiя-ми — избравшими главу этой самой исполнительной власти». Постоянному автору рубрики для этого достаточно было бы сделать простые отсылки к своим прежним публикациям. Отмеченные смысловые повторы (которых нет больше ни в одном международном обозрении В. Ф. Пуцыковича за период его совместной с Достоевским работы в «Гражданине») свидетельствуют о том, что в устоявшуюся структуру авторской рубрики, по-видимому, вплетается текст другого публициста.
ПРИМЕЧАНИЯ
-
1) Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 255.
-
2) См.: Литературное наследство. Т. 15. М., 1934. С. 150–151.
-
3) Инициал П. указан в «Подробном обозначении содержания 52 №№ “Гражданина” за 1873 г.». Сама статья «Неоцененное побуждение» напечатана в № 45 без подписи.
-
4) Кроме А. У. Порецкого, инициал фамилии П. подходит еще двум участникам редакционного кружка «Гражданина» 1873–1874 годов — В. Ф. Пуцыковичу и К. П. Победоносцеву. Однако в указанный период ни тот, ни другой сотрудник не подписывали свои публикации этим инициалом. Показательна также тематическая чужеродность статьи «Семейная неурядица…» публицистике К. П. Победоносцева.
-
5) Глубокая правка рукописей, вплоть до «пересочинения» текста статьи заново , была обычной практикой Достоевского-редактора. «…Имея статью и решив напечатать, — переправлять ее с начала до конца, что зачастую приходится. Литературные сценки Генслера (в сегодняшнем №) я почти вновь пересочинил», — сообщал Достоевский, в частности, М. П. Погодину 26 февраля 1873 года ( Д30 , т. 29, кн. 1, с. 262).
-
6) Стиль «Семейной неурядицы…» — также дополнительный аргумент против атрибуции материала как К. П. Победоносцеву, так и В. Ф. Пуцыковичу.
-
7) Повод уйти из жизни у героини Порецкого (несчастье в любви) был не более веским, чем у сестер-охтянок в «Семейной неурядице…». Порецкий-обозреватель сообщает и другую красноречивую (особенно для читат елей консервативного «Гражданина») подробность: вынутая из петли незадачливая девятнадцатилетняя самоубийца в присутствии священника произносит «оскорбительныя для вѣрующихъ слова на Бога и все святое». Вот, однако, комментарий о бозревателя: «На слѣдствiи “преступница” показала, что она не помнитъ тѣхъ преступленiй, въ которыхъ ее обвиняютъ. Мы не знаемъ, была-ли уже она судима и какъ отнесся судъ къ преступленiю, совершенному только-что вынутою изъ петли». Личность девушки представлена в обозрении как «страдальческий образ» из народной среды (Гражданин. 1873. № 49. С. 1314).
-
8) См.: Гражданин. 1873. № 49. С. 1314–1315.
-
9) В данном случае не идет речь об использовании жирного шрифта в редакционных объявлениях и рекламе.
-
10) Из 23 таких публикаций 13 принадлежат бесспорно Мещерскому, 3 — бесспорно Достоевскому, 2 представляют собой обращенные к Мещерскому (и, очевидно, им же подготовленные к печати) открытые письма читателей. В числе 5 «оставшихся» (неатрибутированных) текстов — одна передовая статья, три выпуска рубрики «Последняя страничка» и одна рецензия в отделе «Библиография». При этом несомненны, во-первых, принадлежность Мещерскому почти всех передовых статей журнала, во-вторых, активное участие как Мещерского, так и Достоевского в подготовке «Последней странички».
-
11) Позднее о самоубийстве Е. Гейденрейх в «Гражданине» напишет И. Ю. Некрасов (рубрика «Из Москвы»). Московский корреспондент (публицист четко выраженного консервативно-славянофильского направления) выскажет «глубокое состраданiе» несчастной девушке, ставшей жертвой легкомысленного увлечения «человѣкомъ недостойнымъ» (Гражданин. 1873. № 40. С. 1070).
-
12) Этот прием, например, помог опознать как текст Достоевского статью «Разъяснение некоторых сторон вопроса о нуждах единоверия» в № 24 «Гражданина» 1874 года [5, 20].
-
13) В цитированных статьях выражение употреблено в близких контекстах: в оправдании самоубийства и в отрицании «нечаевщины» как явления «во что бы <то> ни стало» упрекается либеральная пресса .
-
14) При обилии в каждом номере «Гражданина» упоминаний о газетах и ссылок на газеты такое особенное выражение, как «газетная печать (пресса)» в журнале практически не встречается.
-
15) Отметим, что в бытность Достоевского ведущим «Иностранных событий» французская тематика занимала в рубрике центральное место. Известиям из Франции посвящено около двух третей общего объема 12 выпусков «Иностранных событий» Достоевского.
Список литературы Достоевский - соавтор А. У. Порецкого и В. Ф. Пуцыковича в "Гражданине": опыт атрибуции
- Архипова, А. В. Достоевский и Кишенский/А. В. Архипова//Достоевский. Материалы и исследования. -Т. 2. -Ленинград: Наука, 1976. -С. 199-207.
- Бельчиков, Н. Ф. Достоевский о Тютчеве/Н. Ф. Бельчиков//Былое. -1925. -№ 5. -С. 155-162.
- Битюгова, И. А. Достоевский -редактор стихотворений в «Гражданине»/И. А. Битюгова//Достоевский. Материалы и исследования. -Т. 6. -Ленинград: Наука, 1985. -С. 241-251.
- Ф. М. Достоевский. Новоатрибутированные статьи 1872-1874 гг. (Атрибуция и научный комментарий доктора филологических наук В. Викторовича)/В. А. Викторович//Знамя. -1996. -№ 11. -С. 151-177.
- Викторович, В. А. Достоевский в Обществе любителей духовного просвещения/В. А. Викторович//Достоевский и мировая культура. -2004. -№ 20. -С. 9-39.
- Викторович, В. А. Достоевский. Коллективное. «Гражданин» как творчество редактора/В. А. Викторович//Неизвестный Достоевский : международный электронный журнал. -2015. -№ 4. -С. 11-20. -URL: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1453710211.pdf (31.05.2016).
- Виноградов, В. И. С. Генслер и Ф. М. Достоевский -редактор «Гаванских сцен»/В. В. Виноградов//Русская литература. -1964. -№ 2. -С. 71-91.
- Виноградов, В. В. Проблема авторства и теория стилей/В. В. Виноградов. -Москва: Гослитиздат, 1961. -614 с.
- Гроссмань, Л. Предисловiе/Л. П. Гроссман//Достоевскiй, Ѳ. М. Полное собранiе сочиненiй: в XXIII т./Ф. М. Достоевский. -Санктпетербургь; Петроградь: Просвѣщенiе, 1911-1918. -Т. XXII. -Петроградь, 1918. -С. VII-XXX.
- Захаров, В. Н. Вопрос об А. С. Хомякове в журнале братьев Ф. М. и М. М. Достоевских «Время»/В. Н. Захаров//А. С. Хомяков -мыслитель, поэт, публицист: сб. науч. тр. -Москва, 2007. -Т. 1. -С. 305-320.
- Захаров, В. Гениальный фельетонист/В. Н. Захаров//Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений: канонические тексты/Ф. М. Достоевский. -Т. 4. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. -С. 801-822.
- Захаров, В. Идеи «Времени», дела «Эпохи»/В. Н. Захаров//Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений: канонические тексты/Ф. М. Достоевский. -Т. 5. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. -С. 695-712.
- Захаров, В. Н. Триумф анонимного Автора/В. Н. Захаров//Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений: в 18 т./Ф. М. Достоевский. -Москва: Воскресенье, 2003-2007. -Т. 5. -2004. -С. 521-539.
- Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: в 3 т. -Санкт-Петербург: Академический проект, 1993-1995. -Т. II. -1994. -587 с.
- Нечаева, В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864-1865/В. С. Нечаева. -Москва: Наука, 1975. -304 с.
- Отливанчик, А. В. Ф. М. Достоевский и В. Ф. Пуцыкович -обозреватели международных событий в «Гражданине» (1873 г. -апрель 1874 г.)/А. В. Отливанчик//Достоевский и современность. Материалы XXIII Международных Старорусских чтений 2008 года. -Ч. I. -Великий Новгород, 2009. -С. 273-283.
- Отливанчик, А. Ф. М. Достоевский -редактор авторских текстов в еженедельнике «Гражданин» (1873-1874 гг.). Новые разыскания и версии/А. В. Отливанчик//Балтика. -Таллин, Эстония, 2010. -С. 69-77.
- Отливанчик, А. В. Неизвестный текст Достоевского? К вопросу об авторстве статьи «Семейная неурядица как причина самоубийства» («Гражданин», 1873 г., № 49)/А. В. Отливанчик//Достоевский и современность. Материалы XXI Международных Старорусских чтений 2006 года. -Великий Новгород, 2007. -С. 217-233.
- Достоевский-редактор/Б. В. Томашевский//Достоевский, Ф. М. Полное собрание художественных произведений: в 13 т./Ф. М. Достоевский. -Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1926-1930. -Т. 13. -1930. -С. 559-593.
- Туниманов, В. А. Завершение многолетнего труда/В. А. Туниманов//Русская литература. -1976. -№ 2. -С. 199-206.