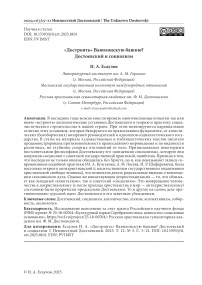«Достроить» Вавилонскую башню? Достоевский и социализм
Автор: Есаулов И.А.
Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky
Статья в выпуске: 3 т.12, 2025 года.
Бесплатный доступ
В последние годы можно констатировать многочисленные попытки так или иначе «встроить» аксиологические установки Достоевского в теорию и практику социалистического строительства в нашей стране. При этом нивелируются кардинальные отличия этих установок, которые базируются на православном фундаменте, от атеистических (богоборческих) воззрений руководителей и идеологов социалистического государства. В статье на материале художественных и публицистических текстов писателя продемонстрирована противоположность православного мировидения и по видимости различных, но глубинно сходных отклонений от него. Приписываемая некоторыми постсоветскими философами Достоевскому его «концепция социализма», которую они напрямую соединяют с советской государственной практикой, ошибочна. Причина в том, что последняя не только вполне обходилась без Христа, но и, как показывают записи современников подобной практики (М. А. Булгакова, А. Ф. Лосева, И. Р. Шафаревича), была настолько открыто антихристианской (с насильственным государственным подавлением христианской свободы человека), что позволяла делать радикальные выводы о воплощении сатанинского духа. Однако же воинствующая дехристианизация — то, что сближает как западный «капитализм», так и советский «социализм». Это возвращение человечества к дохристианскому (а после прихода христианства в мир — антихристианскому) состоянию было пророчески предсказано Достоевским. То и другое на самом деле противоположно «русской идее» Достоевского и его заветным убеждениям.
Достоевский, социализм, католичество, атеизм, коллективизм, соборность, аксиология
Короткий адрес: https://sciup.org/147252194
IDR: 147252194 | DOI: 10.15393/j10.art.2025.8101
Текст научной статьи «Достроить» Вавилонскую башню? Достоевский и социализм
Достоевский и социализм — тема необъятная1, я постарался осветить ее основные вехи во вступительной статье и в комментариях к тому серии «Pro et contra» Русской христианской гуманитарной академии «Советский и постсоветский Достоевский», где прослеживались и характеризовались этапы освоения и одновременно, можно сказать, присвоения наследия писателя [Есаулов, 2022]. В этой же работе хотелось бы сосредоточиться лишь на некоторых неочевидных моментах. Причина подобного обращения — новые попытки последнего времени «встроить» Достоевского в реанимируемый «красный проект» и по возможности смягчить кардинальную противоположность между православными воззрениями писателя и теорией, наряду с практикой, атеистического государства2. Дошло уже до того, что подвергается характерной ревизии известное отношение Ленина к Достоевскому: «…по нашему убеждению, следует все же оставить вопрос открытым, было ли отношение Ленина к Достоевскому тотально негативистским и бескомпромиссным…»; «отношение Ленина к Достоевскому было более сложным, не столь одноцветным» [Пущаев, 2020: 107]. Что же до Сталина, то ставится вопрос: «…видел ли он в реалиях строимого им государства некий отзвук <…> задушевных идей Достоевского» [Пущаев, 2020: 109]? При этом утверждается, будто данный «вопрос <…> остается открытым»; декларируется, будто «личное отношение Сталина к творчеству Достоевского заметно отличалось от официального» [Пущаев, 2020: 109, 111]3.
Как известно, в молодые годы Федор Михайлович был увлечен идеями социализма, которые среди прочих обсуждались в кружке Петрашевского. Советские комментаторы непременно добавляли к этому одно определение: утопического социализма, но у писателя такого определения нет: «…в половине текущего столетия некоторые из нас удостоились приобщиться к французскому социализму…» [Д30; т. 25: 21]. Переосмысливая собственное прошлое, Достоевский называет кружок петрашевцев «преступным обществом». Инкриминируя петрашевцам то, что они «утратили всякое понятие о том, до какой степени такое учение (то есть именно социалистическое. — И. Е .) разнится с душой народа русского» [Д30; т. 25: 22].
Давно уже отмечено, что, с точки зрения Достоевского, этот «французский» (или «европейский») социализм в Европе породило католичество. При этом, как замечает писатель, европейский социализм решает судьбы человечества «уже не по Христу, а вне Бога и вне Христа, и должен был зародиться в Европе естественно, взамен упадшего христианского в ней начала» [Д30; т. 26: 85]. Разумеется, это связывают с языческой идеей Римской империи — иными словами, с изменой христианству, с тем, что Римским папством было провозглашено: христианская идея не осуществима без всемирного владения католической церковью (не духовного, а государственного) землями и народами.
Я напомнил вначале то, что более-менее общепризнанно (мы сейчас не обсуждаем, прав наш писатель или, может быть, ошибался — особенно в перспективе последующих в XX в. событий4, а только констатируем: в этом ракурсе «почвеннические» воззрения Достоевского весьма сходны со славянофильскими представлениями о католицизме).
Однако, помимо этого общепризнанного, именно у Достоевского имеются и, как представляется, менее очевидные положения. Так, мало кто обращал внимание на то, что в его вершинном романе — «Братьях Карамазовых» — Вавилонскую башню Великий инквизитор намеревается не построить, а достроить : «И тогда уже мы и достроим…» [Д30; т. 14: 231]. Без-благодатные законничество и юридизм, по Достоевскому, отнюдь не являются открытием именно католической цивилизации, это ему некорректно было бы приписывать. Для Достоевского преобладание в отношениях между людьми юридических (правовых) критериев — в ущерб отношениям евангельским (благодатным) — это неплодотворное и опасное возвращение человечества к дохристианскому состоянию мира. И дело тут вовсе не в «язычестве».
Сама суть упреков Великого инквизитора Христу состоит как раз в том, что Спаситель осуществил переход от « твердых основ для успокоения совести человеческой» к новозаветной свободе. Что это за «твердые основы»? Речь идет о Законе — «твердом древнем Законе» (то есть Ветхом Завете), который — с этой точки зрения — и отверг Христос. Отныне любой человек был поставлен перед непосильным — с точки зрения Великого инквизитора — выбором: «свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой (Христов. — И. Е .) образ перед собою…» [Д30; т. 14: 232].
Иными словами, произошел отказ от ветхозаветного жесткого иерархического разделения человечества на достойных свободы и недостойных ее. Великий инквизитор открыто провозглашает «исправление» подвига Христа и возвращение к доевангельскому состоянию: «Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо…» [Д30; т. 14: 232]. Вспомним, что тот эпизод Евангелия от Луки, который писатель избрал для эпиграфа к «Бесам», завершается не окончательной победой над бесами («Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло» (Лк. 8:33)), а тем, что весь народ страны Гадаринской, куда приплыл Христос, узнав об этом, отнюдь не возрадовался встрече со Спасителем, но «просил Его <…> удалиться от них» (Лк. 8:37).
Конечно, слова «вновь повели как стадо» (ср. «стадо свиней») можно отнести не только к прошедшим временам и не только к реальному социализму (каким мы его знаем). Слова Инквизитора «люди обрадовались» вполне пророческие, ибо многие, как мы знаем, — с большим удовольствием уже и в наше время — «вновь» желают вернуться в это ведомое стадо . Стадо с «гарантиями».
Однако очень ли отличаются в этом отношении реальный «социализм» и реальный «капитализм»? У академика И. Р. Шафаревича на этот счет была известная статья с характерным заглавием «Две дороги к одному обрыву» [Шафаревич]. Еще радикальнее — и раньше, чем Игорь Ростиславович — высказывался А. Ф. Лосев — в полном варианте своей «Диалектики мифа» [Лосев]. Для Лосева капитализм и социализм — две стадии развертывания господства сатанинского духа, противоположного христианскому (этот самый дух Алексей Федорович конкретизирует ; после переиздания книги, за которую Лосев и был отправлен на Беломорканал, каждый может внимательно изучить особенные черты этого, согласно монаху Андронику, сатанинского духа) [Лосев: 268–411].
Вернемся к Достоевскому, у которого мы видим сходные опасения по поводу безблагодатного отказа от христианской свободы. Еще раз обратимся к процитированному выше фрагменту «Братьев Карамазовых». Итак, как утверждает Великий инквизитор, «люди обрадовались, что их вновь повели как стадо». Мы видим управляемое кем-то коллективное «стадо»:
«Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру <…>. О, мы разрешим им и грех…» [Д30; т. 14: 236].
В той картине мира, которую пророчески рисует Достоевский, нет никакой пресловутой «общей жизни» (как показал советский XX век, эта «общая жизнь» при социализме пропагандировалась разве что в коммунистических лозунгах, ставилась на «Мосфильме», «Ленфильме» и других киностудиях советского Голливуда, в литературе «соцреализма», а также в бесчисленных трудах «представителей общественных наук» по «научному атеизму», «политэкономии социализма» и «научному коммунизму»; но, начиная непосредственно с большевистской социалистической революции, отнюдь не в повседневной жизни советских граждан: достаточно сравнить, скажем, «повседневность» таких персонажей, как Лиля Брик или Сергей Эйзенштейн, и рабочих Кузнецкстроя).
Пропагандируемый коллективизм, коллективизм «стада», помимо насильственного подавления всякого «я», отличается от православного соборного единства как жесткой двухчастностью, о которой ниже, так и без-благодатностью, поскольку, по мнению Инквизитора, «ищет человек на земле <…> кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем вместе в бесспорный общий и согласный муравейник» [Д30; т. 14: 234–235].
Обращаю внимание, что здесь можно заметить то же жесткое разделение человечества на две неравные части, что и в проекте Шигалева из «Бесов»: мы и они . Образуемый в результате этого разделения тоталитарный «муравейник» имеет одно существенное отличие от своих дохристианских (то есть ветхозаветных) аналогов: отвергать Бога уже после прихода в мир Христа означает — быть с дьяволом. По словам Великого инквизитора, «мы давно уже не с Тобою (не с Христом. — И. Е .), а с ним (с дьяволом. — И. Е. )» [Д30; т. 14: 234].
Таким образом, поиски сатанизма в советском строительстве социализма, которое позволил себе Лосев в «Диалектике мифа», уже были предугаданы «архискверным Достоевским» (В. И. Ленин) в его поздних романах. С позиций сегодняшнего дня даже немного странно, чему же так удивлялся Михаил Булгаков после посещения в январе 1925 г. редакции журнала «Безбожник»:
«Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера "Безбожника", был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, ее можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Не трудно понять, чья это работа» 5 .
Тут самым естественным образом не может не возникнуть один вопрос. Ведь Достоевский писал о «французском» социализме, «европейском» социализме, а редакция журнала «Безбожник» располагалась отнюдь не в Париже, а в Москве. Отнюдь не в Париже — после пророчеств Достоевского — в XX в. был взорван Нотр-Дам де Пари. Нет, был взорван совсем другой «Нотр-Дам»: Храм Христа Спасителя. Разве в Париже нельзя было — под угрозой репрессий — свободно ходить в христианские храмы, венчаться, крестить детей, отпевать своих покойников? Разве во Франции норовили (по всей стране) в XX в. в былых христианских храмах непременно устроить если не отхожие места, то уж, во всяком случае, сумасшедшие дома? Или, может быть, все-таки не во Франции (и, в целом, не в Европе)? Вопросы, конечно, риторические, но их уже и нельзя прямо не ставить, знакомясь с некоторыми последними публикациями по интересующей нас теме.
Один из последних вполне квалифицированных истолкователей темы «Достоевский и социализм» — А. А. Горелов — противопоставляет «французский» и «русский» социализмы, опираясь именно на Достоевского. На первый взгляд, у него, да и у других исследователей с подобными воззрениями, есть все основания для этого.
Достаточно напомнить цитату из «Дневника Писателя» за 1881 г.:
«Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. <…> Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского ; он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным объединением во имя Христово . Вот наш русский социализм!» [Д30; т. 27: 19].
Горелов эту фразу и цитирует, добавляя от себя: «… концепция Достоевского содержит в себе три части: исходную идеологическую — русскую идею, политическое продолжение ее — русскую партию и, наконец, организационное завершение — русский социализм. В данной концепции писатель соединил свою сформировавшуюся на каторге почвенническую позицию с предыдущими социалистическими представлениями, и все это наложилось на его изначальные православные верования. В этом три источника и три составные части концепции Достоевского» [Горелов: 59]. Как видим, у Достоевского, если встать на эту точку зрения, имелась целая концепция «социализма», да еще и в ней выделились «три источника и три составных части» (нам, прошедшим марксистско-ленинскую муштру, это что-то и кого-то очень напоминает). Однако напоминает отнюдь не Достоевского, а того, кто назвал его «архискверным».
По мнению Горелова, этот конструкт — «концепция социализма» — стал прямо-таки «общественно-политическим завещанием Достоевского». Более того, он приводит следующую «параллель: Л. Н. Толстой, который после смерти Достоевского понял <…>, что это был самый близкий для него человек, также вплотную заинтересовался социализмом перед уходом из Ясной Поляны и даже уже после ухода просил прислать ему книги на эту тему» [Горелов: 59]. Выходит, что Толстой и Достоевский — попросту социалисты. Русские социалисты. Тут и чаемая «непрерывность» истории. И гегелевская триада. И марксизм-ленинизм. И Достоевский — с его «синтезом».
Однако попробуем вчитаться в тексты самого Достоевского. Как построен тот же самый абзац из «Дневника Писателя», который выборочно цитирует упомянутый мной исследователь? Абзац начинается с того, что само слово идея Достоевский заключает в кавычки: «…народ русский <…> православен и живет идеей православия в полноте <…> В сущности , в народе нашем кроме этой "идеи" и нет никакой, и всё из нее одной исходит…» [Д30; т. 27: 18] (слово идея потому и заключено Достоевским в выразительные кавычки, поскольку «идея», которую народ «не разумеет ответчиво и научно», в строгом смысле «идеей» не является: это же вера, а не собственно идея и, уж тем более, не идеология). Дальше Достоевский пишет: «…народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим» [Д30; т. 27: 18].
Самое же существенное состоит в том, что и слово социализм также (как и идею ) Достоевский заключает в столь же многозначительные кавычки.
Писатель замечает, что над ним смеялись «интеллигентные люди», некоторые из которых «воображают, что русский народ просто-напросто атеист» (понятно, что начиная с Белинского). Возражая этим «интеллигентным людям», Достоевский формулирует свою мысль следующим образом:
«Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе церкви . Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский "социализм" теперь говорю» [Д30; т. 27: 18–19].
Но это еще не всё. Это слово, и без того закавыченное, писатель считает нужным еще и добавочно объяснить, в скобках замечая: «…и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли…» [Д30; т. 27: 19]. Иными словами, Достоевский не только не создает никакой «концепции» социализма, но и само слово «социализм» использует в метафорическом смысле, специально это оговаривая, для совершенно определенной цели — разъяснить, какие надежды он возлагает на Православную Церковь: этот (в кавычках) метафорический «социализм» — «цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на земле» [Д30; т. 27: 193] (разумеется, добавляет Достоевский, «поколику земля может вместить ее» [Д30; т. 27: 19]). Итак, не «социализм», а Церковь (без всяких кавычек) — вот то центральное, важнейшее для писателя слово.
Именно поэтому Достоевский чает отнюдь не всякого «единения», хотя бы и «всенародного», но «единения во имя Христово»6, которое, по его убеждению, прямо противоположно единению «в Коммунизме», как духовное (святыня) может быть противоположно «механическим формам», присущим Коммунизму7.
При этом не стоит забывать, что Достоевский, прежде всего, писатель, озабоченный не выдвижением (или разоблачением) тех или иных систем , но разгадкой «тайны человека» ( человека , а не социального строя). Вспомним, что в «Записках из подполья» парадоксалист, увлеченный деконструкцией современных ему систем, покушающихся на его человеческое «Я», теряет — вместе с тем — и ту единственную «Ты», которая поняла, что он — несчастен, и оказалась способной пожалеть и полюбить его. И именно эта потеря побуждает его к намерению не писать из подполья. В «Сне смешного человека» главное не развертывание фантастических картин развития человечества (и не разгадка смысла этих картин), а главное — это движение от «Я» к «Ты» (к маленькой девочке, спасшей героя), а также движение от общих рассуждений о счастье, зле, добре, преступлении, на которые и обращается обычно внимание в попытках «вычленить» философию или даже «богословие» писателя — движение опять-таки к другому человеку, к «Ты» (см.: [Есаулов, Тарасов, Сытина: 144–160]).
Что же касается социализма, то зададимся вопросом: какой именно «социализм» был построен в нашей стране? Разве «русский»? В этом вопросе и Горелов не может не признать, что «создавался этот социализм по канонам, которые характерны, с точки зрения Достоевского, для европейского социализма — атеистическим, деспотическим, государственно-бюрократическим» [Горелов: 60]. Однако же, в соответствие со своими собственными идеологическими установками, а отнюдь не воззрениями Достоевского, философ уверяет, будто в СССР «коммунизм постепенно превратился в русскую модификацию марксизма, несущую в себе основные особенности русского национального характера, нашедшие ранее выражение в мессианском православии» [Горелов: 61]. Впрочем, о шаткости понятий о православии автора статьи говорит уже то, что под «нашим православием» Горелов понимает, как выясняется, «компромисс между славянским язычеством и византийским христианством» [Горелов: 56]. Это такой же надуманный автором «конструкт», как и его представления о «модификации» марксизма в «русский» коммунизм в СССР: «…вторая модификация была синтезом русской идеи с марксизмом. На смену русскому православию пришел русский коммунизм…» [Горелов: 60]. Никакого фактического подтверждения подобным представлениям вся история Советского Союза — во все его исторические периоды — не дает, а потому их нет у автора. Поэтому он предлагает вместо фактов пропагандные лозунги, от которых никак не могут избавиться былые преподаватели советских «общественных наук»: «С самого начала существования нового советского государства три идеи были для него главными: 1) ликвидация эксплуатации человека человеком; 2) равноправное существование народов в едином федеральном государстве; 3) глобальное переустройство мира» [Горелов: 60]. Те, кто жил в реальном, а не выдуманном для «пропаганды советского образа жизни» Советском Союзе, хорошо помнят и о жесткой эксплуатации (вплоть до насильственного труда за «палочки»-трудодни формально «свободных» колхозников), и о декларировании основателем Советского государства национального неравенства, которое «возмещало» бы от «великороссов» (то есть русских) грехи их «проклятого прошлого», как и о том, что «глобальное переустройство» предполагало прямо противоположную Достоевскому цель — искоренение религии. Когда автор заявляет: «Как православие должно было по идее господствовать на земле до Страшного суда, так и большевизм — до полного утверждения рая на земле. Коммунистический символ веры соответствовал русскому духу…» [Горелов: 62], — возникает вопрос, читал ли он сам Евангелие? Дальнейшие агитационные штампы, вроде еще одного пропагандистского конструкта — «Красной империи» — о «предательстве марксизма» руководителями советского государства, конечно же, в угоду «буржуазной идеологии» и т. п. (см.: [Горелов: 62]), характерные для известной части нынешнего социума, с позволения читателей я рассматривать уже не буду, поскольку и Достоевский, и православие выполняют у автора далекие от сколько-нибудь объективного научного изучения цели: задним числом легитимировать советский «социализм», атеистическое государство — с истреблением христианства как такового, «примирить» постфактум атеистическое государство с фантомным «русским» православием (в понимании автора, «синтезом» славянского язычества и «византийского христианства») и т. п. «Россия сказала-таки миру новое слово, став Советским Союзом», — заявляет автор [Горелов: 62]. То-то бы поразился Достоевский, увидев разоренные храмы, узнав об истреблении миллионов русских людей (в том числе среди них сотен новомучеников), а также уничтожение самого имени Россия (с его заменой на аббревиатуру из четырех букв), что это, мол, и есть то «новое слово», которое постсоветские философы «обосновывают» с опорой на его же «концепцию». Характерно, что в статье нет ни единого авторского упоминания об Иисусе Христе. Приходится сделать вывод, что «от противного» оказывается пророчески прав герой Достоевского, которого мы уже упоминали: «Мы давно уже не с Тобою, а с ним» [Д30; т. 14: 234].
Именно этим объясняется многих до сих пор смущающий факт: безусловную симпатию к «блистательному большевистскому эксперименту», а затем и к сталинской террористической практике большинства западных интеллектуалов левого фланга, которые не только не протестовали против преступлений большевистского режима, но защищали его от критики других, превозносили, восхваляли. По-видимому, они чувствовали в нем, в отличие от враждебного им былого Государства Российского, что-то родственное по духу.
Например, фрейдистский психоанализ по-настоящему популярным стал в нашей стране только лишь после 1917 г. А. М. Эткинд указывает в этой связи на постоянное пересечение психоанализа Фрейда и социализма, на своеобразный «фрейдомарксизм». Так, согласно логике Льва Троцкого, «фрейдизм оказывается прямым продолжением и даже вершиной марксизма» [Эткинд: 283]. Для создателя Красной армии, а до того известного завсегдатая венских психоаналитических собраний (как, впрочем, позже и для многих влиятельных западных гуманитариев) концептуальные подходы Фрейда и Маркса вполне совместимы (и должны быть объединены): «Было бы прекрасно, если бы нашелся ученый, способный охватить эти новые обобщения методологически и ввести их в контекст диалектически-матери-алистического воззрения на мир…»8. В раннебольшевистском Советском Союзе организуется компания по переводу всего наследия Фрейда на русский язык. Надежды верхушки большевистской власти понятны: она надеялась синтезировать Маркса и Фрейда в «строительстве социализма» с целью полной переделки русской культуры, государства и самого человека9.
Фрейд, оценивая путь Достоевского, приходит к выводу о «бесславном итоге его нравственных борений». В чем же именно эта «бесславность» состоит? В том, что Достоевский «возвращается к подчинению мирским и духовным авторитетам, к поклонению царю и христианскому Богу, к черствому русскому национализму». Писатель «упустил возможность стать учителем и освободителем человечества». Неудача Достоевского, по Фрейду, обусловлена его положительными коннотациями по отношению к трем параметрам культуры России: государственному устройству (монархии, царю), вере (христианскому Богу) и народу, это и означает, по Фрейду, что «Достоевский присоединился к <…> тюремщикам» [Фрейд: 285]. Согласно этой логике, если бы у Достоевского было негативное отношение к царю, христианскому Богу и русскому народу — тогда бы ему был открыт, как выражается Фрейд, «апостольский путь» [Фрейд: 286], он мог бы стать освободителем (см. подробнее разбор аргументации: [Есаулов, 2012]).
Поэтому не стоит удивляться и современной рецепции Достоевского. М. Джоунс весьма справедливо замечает, что «господствующее интеллектуальное воззрение нашего времени, по меньшей мере западного, развитого общества» на творчество Достоевского (от Камю до марксистов, экзистенциалистов, фрейдистов) таково, что «пророчества Достоевского» возводятся не к голосам Зосимы или Алеши, но к голосу Ивана, не к «защите христианства» Достоевским, но к атеизму (см.: [Джоунс: 195]).
Что же касается «Дневника Писателя», то, похоже, мы сегодня переживаем девятый вал обвинений Достоевского (см.: [Захаров, 2013, 2021], [Zakharov]), при этом западные обвинения поразительным образом смыкаются с теми, которые выдвигались большевистскими запретителями и гонителями. Воистину «две дороги к одному обрыву», вновь вспоминая Шафаревича. Оказывается, терп и́ м и принимаем в «порядочном обществе» может быть только редуцируемый, оскопленный, конвоируемый Достоевский. А Достоевский бесконвойный опасен. Поэтому одной из задач достоеведения продолжает оставаться освобождение Достоевского от этого конвоя, обретение подлинного Достоевского.