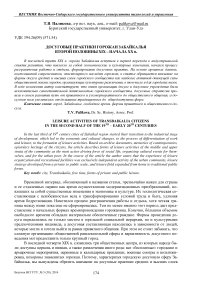Досуговые практики горожан Забайкалья второй половины XIX - начала ХХ в
Автор: Паликова Т.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 5 (50), 2014 года.
Бесплатный доступ
В последней трети XIX в. города Забайкалья вступили в период перехода к индустриальной стадии развития, что повлекло за собой экономические и культурные изменения, начался процесс разграничения работы и отдыха, формирования досуговых практик. На основе архивных данных, воспоминаний современников, эпистолярного наследия горожан, в статье обращается внимание на формы досуга средних и высших слоев городского сообщества как наиболее активной движущей силы общественной жизни городов, организующих культурные развлечения, в том числе и для городских низов. В ходе изложения автор констатирует, что опыт организации досуга и досуговые учреждения были исключительно самостоятельной деятельностью городского сообщества, досуговые стратегии прошли в своем развитии путь от приватного и узкокорпоративного до общественного общения, а досуговое поле увеличилось от домашних традиционных до общедоступных форм.
Город, забайкалье, свободное время, формы приватного и общественного досуга
Короткий адрес: https://sciup.org/142142943
IDR: 142142943 | УДК: 394.26(09)
Текст научной статьи Досуговые практики горожан Забайкалья второй половины XIX - начала ХХ в
Временной интервал, обозначенный в названии статьи, чрезвычайно важен для страны и ее отдаленных окраин как время осуществления модернизационных преобразований, повлекших за собой существенные изменения в экономике и культуре. Их технологическая составляющая с неизбежностью вела к трансформированию условий труда и быта, удлиняя время бодрствования. Наметился процесс разграничения работы и отдыха, хотя четкая граница между ними пока еще не сформировалась. Тем не менее именно этот период дает представление о начальных формах времяпровождения горожанина. Конечно, бόльшим объемом свободного времени обладали материально обеспеченные граждане. Формы проведения досуга определялись не только местом в городской социальной иерархии, но и культурными предпочтениями индивида, а досуговая составляющая находилась в зависимости от людей, которые могли и хотели выйти за рамки приватного общения. При этом не стоит забывать, что сложную организацию общественной развлекательной сферы и вариативность досугового поведения мог предоставить только крупный город.
В последней четверти XIX в. сложились три общественных центра, из которых народу были доступны церковь и пивная, а также развлечения иного рода: все «бесплатные» городские и ярмарочные мероприятия, церковные и календарные праздники, военные смотры и вольтижировка, похороны знаменитых горожан. Поэтому, характеризуя городскую досуговую сферу Забайкалья, мы вынуждены обратить внимание на досуговые практики средних и высших слоев городского сообщества как наиболее активной движущей силы общественной жизни городов, организующих культурные развлечения, в том числе и для городских низов.
Досуговое пространство (общественное и частное) многих забайкальских городов до 70-80-х гг. XIX в. было весьма ограниченным и заполнялось лишь домашним музицированием, чтением и семейными праздниками, приватной и общественной коммуникацией. Характеризуя эти традиционные формы свободного времяпровождения, кратко можно сказать следующее. В Забайкалье не было как профессионального музыкального театра, так и музыкального образования. Однако музыкальные инструменты встречались почти в каждом доме [4, л.137; 14, с. 50]. Музицирование следует признать всесословным увлечением, чего не скажешь о музыкальных инструментах. Большая часть горожан использовала традиционные народные цитру или гармонь. На рубеже столетий в обиход входит гитара, становясь всеми любимым, как и скрипка, инструментом. Музыкальные навыки, оттачиваемые дома, имели в последующем публичное применение в постановках любительских спектаклей или концертах на общегородских праздниках или благотворительных мероприятиях.
В отличие от музыкального досуга чтение сначала имело довольно узкий круг поклонников, ограничивавшийся представителями высших слоев горожан (библиотеки Лушниковых, Немчиновых, Лосевых, Бутиных). В некоторых интеллигентных семьях формировалась привычка к коллективному чтению, иногда с участием прислуги [14, с. 49]. С расширением сети учебных заведений, укоренением навыков грамотности забайкальцев росло и число ценителей художественного и публицистического слова. Это обстоятельство повлекло за собой открытие с 1880-х гг. платных публичных библиотек, которые могли поначалу удовлетворить потребность в чтении лишь материально обеспеченных горожан (бесплатные библиотеки и читатели появились только в середине 1910-х гг.). В малых городах, где публичные библиотеки отсутствовали вплоть до 1890-х гг., читающая публика выработала механизм обмена «толстыми» журналами, получая значительную информацию при минимуме затрат. Если музыка воспринималась в большей степени как развлечение, то чтение еще и как возможность самообразования [4, л. 136].
Центром общественной жизни крупных городов Забайкалья были общественные, военные и коммерческие собрания, клубы обществ приказчиков. Несмотря на ограничение в членстве, сословные или профессиональные клубы не считались закрытыми учреждениями [4, л. 3 об.]. Все собрания и клубы имели примерно одинаковую программу работы: чередование карточных, танцевальных и семейных вечеров. Поскольку залы собраний подчас были единственными театральными сценами в городе, любительские труппы устраивали здесь свои спектакли, в том числе и бесплатные для народа или благотворительные с повышенной платой. Эти учреждения закономерно становились и местом неформального общения, и местом полезного досуга, и местом проведения семейных торжеств [6, л. 1 об.].
Потребность в неформальной коммуникации была настолько высока, а недостаток общения вне приватного пространства столь ощутим, что там, где отсутствовали подобные учреждения, народная инициатива создавала их явочным, стихийным порядком (импровизированные «Клуб бульваристов», «Успенская гора», Троицкосавск). Так возникли частные собрания, межи корпоративные вечера, частные клубы («Семейные вечера», Троицкосавск; «Павловка», Верх-неудинск [2, л. 9, 16; 7, л. 3]). Однако эти частные начинания были скоротечны, что вполне закономерно. Они требовали не только материальных затрат, но и неиссякаемого энтузиазма участников. Как правило, замещая общественные собрания [15], частные клубы работали по той же программе [10, л. 80-80 об.], из трех основных пунктов которой предпочтение отдавалось карточной игре. Последняя была распространенным увлечением всеобщего характера: и в Забайкалье (Верхнеудинск [8, л. 29 об.], Троицкосавск Кяхта [14, с. 58 59], Чита), и в Западной Сибири [1, с. 177]. Неся развлекательную нагрузку, эти учреждения были важнейшей составляющей жизни крайне узкого, но влиятельного круга городских жителей, формируя общественное мнение и различные инициативы.
На протяжении XIX в. в социально-культурной практике состоятельных горожан и интеллигенции укоренилась деятельность в различных полугосударственных официальных благотворительных обществах под патронатом царской семьи, что было престижно и статусно. Однако истинное расширение досуговой сферы произошло в результате самоорганизации городского сообщества с возникновением самодеятельных научных и культурных учреждений, где раскрывался творческий потенциал личности. Первыми такими объединениями стали кружки любителей литературы, музыки и драматического искусства. Понимание их значимости возрастет, если помнить о том, что профессиональный драматический театр в Забайкалье появился лишь в 1909 г. Любительские постановки заполняли эту нишу вплоть до 1890-х гг., когда, наконец, гастроли артистов всех жанров помогли жителям крупных городов (Чита, Кяхта, в меньшей степени Верхнеудинск) удовлетворить свои театральные запросы. В какой степени публика уездного города, ценящая высокое искусство, была заинтересована в гастрольных выступлениях, свидетельствует тот факт, что «на концерты артистов, приезжающих из центра России, стремились попасть все, но дом общественного собрания не вмещал всех желающих, и потому билеты по тому времени очень дорогие, были нарасхват» [12, л. 2]. В областном центре досуг разнообразился выставками – сначала сельскохозяйственнопромышленными (1862, 1899), затем художественными, в том числе и ежегодными выставками выпускников Читинского художественно-промышленного училища и фотографическими выставками (с 1913 г.).
Специфическим местом отдыха стали ресторации. Только в Чите в начале века насчитывалось более 20 ресторанов с разнообразной культурной программой. В начале ХХ в. ресторан «Метрополь» зазывал посетителей не только всевозможными русскими и заграничными винами и изысканной кухней, но и выступлением труппы О.Э. Ольгинской, гастролирующим «королем карт» Робертом Пело, исполнением куплетов и комической буффонады и русским хором. Первоклассный ресторан «Бельгия» анонсировал концерт струнного оркестра А. Столина, исполнение оперных партий, цыганских и малороссийских песен, куплетов и акробатических номеров. Второклассный ресторан при гостинице «Москва» предлагал бесплатное чтение местных газет, а ресторатор Н.И. Осипов – тройку лошадей для катания. Круг развлечений такого рода дополнялся работой кафе-шантанов.
Сугубо городским видом досуговых занятий стали различные платные курсы и уроки (танцев с практическими занятиями, иностранных языков, музыки «практические и теоретические по программе столичных консерваторий» группами и отдельно [11, л. 1, 5]).
Демократизация общероссийских культурных тенденций все в большей степени охватывала территорию Забайкалья. Любимым всесословным развлечением стали цирк (цирк-театр Мирославского, 1902; А. Сержа, 1906–1913; Ф.Я. Изако, 1914, Чита; Бондаренко, начало ХХ в., Верхнеудинск), ипподром (Чита, Верхнеудинск, Акша, Сретенск), кинематограф. Общедоступным отдыхом были городские сады с цветниками и скамейками, прудами, оркестровой музыкой летом и залитыми катками зимой. Судя по газетным публикациям, в городские сады публику привлекали работающие там буфеты либо «другие приманки» . При этом размер сада и качество растительности в нем значения не имели. Пожалуй, работа только одного сада Жуковского (Чита), который в 1908 г. стал городским, была организована по довольно широкой программе с мероприятиями для взрослых и детей и возглавлялась садовой комиссией.
Популярными развлечениями конца XIX–начала ХХ в. стали пикники или прогулки в ближайших лесных массивах и времяпровождение на сенокосных лугах. Если для низшего сословия городов сенокошение было насущной потребностью (в городах еще и в 1911 г. насчитывалось свыше 19 тыс. гол. лошадей, овец, свиней, коз, рогатого скота [13]), то для зажиточных горожан, владевших собственным выездом, полезным развлечением [8, л. 28]. Летне-осеннее общение горожан с природой могло быть периодическим и постоянным. Постоянным оно становилось при выезде семьи на дачи. Дачи строились и обставлялись комфортабельно, с хорошим садом и роскошными цветниками, качелями, гигантскими шагами, купальнями и лодками. При отсутствии собственной дачи, ее обычно снимали либо жили по приглашению хозяина. Дачный сезон продолжался с конца мая по сентябрь. Дачники развлекали себя играми в жмурки, горелки, прятки, городки, лапту, вечером – танцами или пением, катались на лодках и лошадях. Выезжали по ягоды и грибы «на ночеву», ловили рыбу: удили и мужчины, и женщины.
Начало ХХ в. в забайкальских городах – время зарождения спорта (велоспорт, футбол). Однако на протяжении всего исследуемого периода спортом современники считали верховую езду и охоту. Верховая езда в одиночку и группами, гонки в сидейках, запряженных парами, – любимое развлечение кяхтинцев, тем более что степь, окружавшая город, представляла собой «прекрасное полотно». Охотой по перу и по зверю занимались круглогодично, каждому времени года соответствовал свой вид охоты. После охоты устраивались пикники с добытыми трофеями [14, с. 82 86].
И, наконец, еще одна форма досуговой практики, которая могла растянуться на несколько месяцев, доступная не каждой даже состоятельной семье, – путешествие по стране и за рубеж. В традициях XIX в. путешествие воспринималось не только как развлечение, но и как труд познания, приобретение нового социального и культурного опыта. Так, нерчинский купец М.Д. Бутин объездил Россию, посетил Америку (1873), Италию, Францию (1878). На рубеже веков зарубежный круиз по маршруту Берлин – Гамбург – Париж – Марсель – Суэцкий канал – Порт-Саид – Цейлон – Сингапур – Япония совершила супруга кяхтинского купца М.Ф. Немчинова Пелагея Осиповна [3, л. 11]. Верхнеудинский врач М.В. Танский с супругой после большого путешествия по стране дважды (1911, 1914) побывали в Европе, объехав Польшу, Италию, Францию, Германию, Англию, Швецию, Швейцарию, Скандинавию, Данию.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что досуговые практики горожан и досуговые учреждения как результат этих практик были исключительно самостоятельной деятельностью городского сообщества, направленной на заполнение пустот в культурном поле вследствие узости государственного культуросозидания. В городах последней четверти XIX – начала ХХ в. формируется множество малых групп, объединений, клубов, взявших на себя посреднические функции. Такие группы объединяли на неформальной основе представителей различных ведомств, конфессий, различных знаний и умений, участвовали в формировании городской среды, ее предметного и духовного облика, тем самым предоставляя горожанам возможность творческой реализации. На протяжении второй половины XIX – начала XX в. досуговые стратегии забайкальских городов прошли в своем развитии путь от приватного общения в кругу семьи, узкокорпоративного до общественного, а досуговое поле от домашних традиционных увеличилось до общедоступных форм.
Рационализация сфер жизнедеятельности на основе проводившейся в стране модернизации приводила к изменениям и образа мышления, и образа жизни как на общественном, так и на индивидуальном, как на официальном, так и неформальном уровнях.