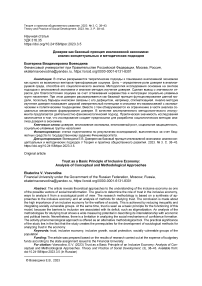Доверие как базовый принцип инклюзивной экономики: анализ концептуальных и методических подходов
Автор: Воеводина Екатерина Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются теоретические подходы к пониманию инклюзивной экономики как одного из возможных векторов трансформации социума. Цель - определение роли доверия в анализируемой среде, способов его социологического анализа. Методология исследования основана на синтезе подходов к инклюзивной экономике и анализе методик изучения доверия. Сделан вывод о значимости отрасли для благосостояния социума за счет сглаживания неравенства и интеграции социально-уязвимых групп населения. При этом доверие рассматривается как базовый принцип функционирования данной модели, поскольку барьеры инклюзии связаны с его дефицитом, например, стигматизацией. Анализ методик изучения доверия показывает широкий измерительный потенциал в описании его взаимосвязей с экономическими и политическими тенденциями. Вместе с тем обнаруживается их ограничение в части анализа социальных механизмов формирования доверия. В качестве альтернативного методологического инструмента предлагается деятельностно-феноменологический подход. Практическая значимость исследования заключается в том, что исследование создает предпосылки для разработки социологических методик анализа доверия в экономике.
Доверие, инклюзивная экономика, инклюзивный рост, социальная защищенность, социально-уязвимые группы населения
Короткий адрес: https://sciup.org/149142421
IDR: 149142421 | УДК: 316.35 | DOI: 10.24158/tipor.2023.3.5
Текст научной статьи Доверие как базовый принцип инклюзивной экономики: анализ концептуальных и методических подходов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Постановка проблемы . Начало ХХI века характеризуется возросшим интересом к инклюзии – от развития локальных программ в образовательной сфере до социального проектирования в глобальном масштабе. В широком смысле она представляет собой вовлечение «нетипичных», социально-уязвимых групп в общественные институты, в том числе экономические. Инклюзия может рассматриваться в разрезе множества социальных слоёв и неравенств – от проблематики инвалидности и расизма до эйджизма. Эксперты в области программ устойчивого развития считают, что инклюзия социально-уязвимых групп, включая бедные слои населения, имеет решающее значение для поддержания и расширения экономического роста и социального прогресса (Davis-Pluess, Meiers, 2015). В аналитике Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) отмечается, что сокращение неравенства ведет к «процветающей» экономике и увеличению благосостояния населения, в то время как у стран с ростом социальной поляризации нет таких возможностей1.
Российский исследователь О.Ю. Мамедов указывает на то, что инклюзивность в экономике является «главным критерием цивилизованности» и развития общества нового типа (Мамедов, 2017: 7). Кроме того, по мнению ряда авторов, инклюзивный подход в экономике способствует более эффективной адаптации населения к глобальным вызовам, например, к пандемии COVID-19 (Sanfirova et al., 2021: 433). Таким образом, инклюзия рассматривается как драйвер экономического развития за счёт уменьшения социальных разрывов в результате бедности, инвалидности, вынужденной миграции, социокультурных, гендерных, возрастных и других критериев. Это достигается в первую очередь за счет создания возможностей самореализации социально-уязвимых групп на рынке труда и последующего расширения их доступа к качественным товарам и услугам, что выгодно различным стейкхолдерам – бизнесу, государству, общественным организациям, местным сообществам.
В то же время, несмотря на десятилетия существования концепции инклюзии, полное претворение её принципов в жизнь пока не свершилось. Так, несмотря на реализацию программ инклюзии людей с инвалидностью на рынке труда, показатели безработицы этой группы населения всё еще остаются достаточно высокими. Согласно данным Росстата за 2021 г., безработными являлись 22,5 % инвалидов трудоспособного возраста, в то время как для людей без инвалидности этот показатель был равен 5 %2.
Анализируя барьеры инклюзии, Е.О. Смолева приходит к выводу, что 87 % людей с инвалидностью и 79 % пенсионеров считают себя уязвимыми на рынке труда – также об этом говорят многодетные родители (59 %) и молодые специалисты (54 %) (Смолева, 2018: 355). Следовательно, либо сам рынок труда, будучи важнейшей экономической структурой, не отвечает запросам инклюзии, либо его агенты не в полной мере готовы к ней. Представляется, что формирование и внедрение принципов инклюзивной экономики остается актуальной задачей для науки и практики современности.
Дефиниции инклюзивной экономики . Сущность интересующего нас типа народного хозяйствования можно выразить формулой «экономика для всех». В определении Business for Social Responsibility (BSR), отмечается, что такой тип народного хозяйства характеризуется открытостью для участия в нем разных групп и сообществ, ориентацией на модель социально-ответственного бизнеса с дифференцированными программами поддержки (Davis-Pluess, Meiers, 2015). Поскольку инклюзивная экономика связывается с развитием, в некоторых источниках в качестве её синонима используется категория «инклюзивный рост»3.
Достаточно подробная концептуализация представлена в теории инклюзивной цивилизации О.Ю. Мамедова. Такую экономику можно рассматривать как отдельный тип общественноэкономической формации, в которой завершен переход к инклюзивному цивилизационному состоянию. Инклюзивность должна создавать возможности для учета индивидуальных особенностей членов общества – состояние здоровья, возраст, гендер и многих других, при этом не ограничиваться сферой образования или социальной защиты (Мамедов, 2017: 11).
Фонд Рокфеллера в определении инклюзивной экономики акцентирует внимание на социально-уязвимых слоях общества и определяет её как «расширение возможностей для процветания широких слоёв населения», а особенно «тех, кто сталкивается с огромными препятствиями в самореализации и благополучии»1. Фондом анализируются пять индикаторов инклюзивной экономики: «Справедливость», «Участие», «Рост», «Устойчивость» и «Стабильность». Обратим внимание на «Стабильность», которая включает три субиндикатора – «Экономическую устойчивость к потрясениям и стрессам», «Возможность инвестирования в будущее» и «Доверие». Кроме того, аналитики фонда напрямую связывают последнее с экономическими и политическими показателями – валовым внутренним продуктом (ВВП), оценкой политической ситуации населением, функционированием нормативно-правовых механизмов. Доверие понимается через уверенность, включая социальное самочувствие. На макроуровне это означает: чем выше уверенность населения в завтрашнем дне, тем больше будут инвестиции и потребление, в связи с чем доверие можно связать с ожиданием экономических действий и их последствий. Такое понимание соответствует двум базовым направлениям в концептуализации доверия – в рамках онтологической безопасности (Гидденс, 2005) и стабильности социальных систем (Луман, 2007). И в том, и в другом случае оно является неотъемлемым условием социальных взаимодействий на разных уровнях – личностном (обеспечивает ощущение социальной защищенности) и институциональном (связывается с предсказуемостью и положительным ожиданием от взаимодействий акторов). Эти характеристики доверия особо значимы в инклюзии социально-уязвимых групп. Но факторами риска здесь могут выступать: недостаточный объем социального капитала агентов, отсутствие опыта и «правил» эффективных коммуникативных взаимодействий, снижение способности адаптации к трансформационным процессам, стигматизация и др.
Проиллюстрируем взаимосвязь доверия и инклюзии в экономической сфере на примере безработицы людей с инвалидностью. Исследователи выделяют два типа барьеров для их интеграции на рынке труда: с одной стороны, негативное отношение работодателей и неприспособленность инфраструктуры (Наберушкина, 2017), а с другой – пассивная жизненная позиция самих инвалидов, снижение мотивации к труду и активному участию в экономической жизни (Смолева, 2018: 358). Отмечается, что стигматизация людей с инвалидностью как «больных» и «слабых» укрепляет стереотипы о них как о неэффективных и «проблемных» работниках. Компании, нацеленные на максимизацию прибыли, зачастую не готовы работать над созданием специальных условий, например, адаптацией рабочих мест для людей с особыми потребностями, т.к. считают эти затраты неоправданными. Нередко работодатели опасаются нанимать сотрудников с инвалидностью в силу их «излишней защищенности» на рынке труда (Воеводина, 2018: 21), а именно: если работник будет «злоупотреблять» своими правами в корыстных целях, то работодателю будет довольно сложно это доказать, в частности, непросто уволить сотрудника-инвалида, не справляющегося со своими обязанностями. В свою очередь среди представителей рассматриваемой социальной группы негативные установки в отношении работодателей исходят из опыта дискриминации, ограничения профессионального роста, несправедливой оплаты труда. Такая ситуация приводит к отказу от трудоустройства в компаниях в пользу самозанятости или безработицы (Воеводина, 2018: 26). Таким образом, уровень доверия между работником и работодателем снижается в силу вероятных рисков для обеих сторон, обусловленных стигматизацией и негативными ожиданиями относительно друг друга. Задача инклюзивной экономики – создать такие условия, в которых агенты рынка труда будут ориентированы на доверие, ощущая свою защищенность и ответственность.
Кроме того, взаимная расположенность агентов может снижаться в результате нарушения принципов реализации самой концепции инклюзии. Поскольку она предполагает учет индивидуальных возможностей и особенностей (физических, психологических, образовательных и др.), её способы и технологии должны быть дифференцированы в зависимости от этих критериев (например, вида и группы инвалидности). Отсутствие индивидуализации способно приводить к ослаблению положительных эффектов. Это можно наблюдать на примере сферы образования, где массовая инклюзия обучающихся с инвалидностью столкнулась с критикой как со стороны общественности, так и научно-педагогического сообщества, как попытка «посадить всех за одну парту», не смотря на разные возможности и образовательные потребности. На сегодняшний день можно встретить большое количество публикаций, критикующих инклюзию как в социальных медиа, так и в федеральных СМИ2. Аналогичная критика смещается на рынок труда, если особенности здоровья работников не учитываются двумя сторонами: отсутствует адаптированная инфраструктура или индивид не способен выполнять трудовые функции, предполагаемые той или иной вакансией.
Попытка построить «универсальную» систему инклюзии вне индивидуализации и адресности, таким образом, не только малоэффективна, но и рискованна с точки зрения доверия акторов.
Методики изучения доверия . В исследованиях доверия распространен количественный подход, позволяющий анализировать его динамику в зависимости от экономических и политических переменных. Наиболее известными макросоциологическими панельными проектами из них являются Всемирный обзор ценностей (World Values Survey – WVS) и «Барометр доверия» Эдельмана (Edelman Trust Barometer – ETB).
Исследование WVS, начатое Р. Инглхартом в 1991 г., проводится методом опроса взрослого населения от 18 лет по национальной репрезентативной случайной выборке при условии многоэтапного территориально-стратифицированного отбора. Количество участников зависит от численности населения стран и составляет 1 000–1 500 респондентов. WVS использует метод личного интервью по месту жительства, однако исследовательские группы в странах могут адаптировать его с учетом своих возможностей и выбрать телефонное, компьютерное или другие типы интервью. Опросник включает две основные переменные касательно оценки взаимной расположенности: 1) межличностное доверие, в том числе обобщенное; 2) измерение социальной дистанции доверия по группам населения (семья, соседи, знакомые, малознакомые (при первом знакомстве), люди из другого региона, другой национальности). Наиболее высокие показатели доверия ожидаемо выражены в отношении «близких групп», что также отмечается и в исследованиях ETB. Методика Инглхарта позволяет строить корреляционные модели межличностного доверия и экономических показателей: так, например, в странах с высоким ВВП уровень доверия выше. В измерениях 7 волны WVS (2017–2022) рейтинг самых «доверчивых» стран возглавляют (в порядке убывания): Китай, Новая Зеландия, Нидерланды, Австралия и Канада1. Здесь, на наш взгляд, можно отметить не только влияние ВВП, но и степень развитости системы социальной защиты и социальных гарантий в скандинавских странах.
Исследования ETB публикуются с 2001 г. Методика основана на онлайн-опросе, который позволяет обеспечить содержательное представление об институциональном доверии населения в отношении правительства, медиасферы, бизнеса, общественных организаций. Отчет ETB за 2022 г. выпущен под заголовком «Навигация в многополярном мире» и включает данные опроса в 23 странах, Россия в их число не входит2. Выборка квотирована по полу, возрасту, региону проживания и в среднем составляет 1 500 респондентов для каждой страны (n = 32 000). Исследование основано на ряде показателей: социальное самочувствие и социальные ожидания (в том числе инфляционные), институциональное доверие, доверие к социальным группам (чиновники, журналисты, ученые, граждане страны, руководство, соседи и др.), внутри- и внешнестрановое доверие, оценка социальной поляризации и её факторов и др.3 Результаты позволяют выстроить комплексную картину доверия в мире и по отдельным странам. Так, в 2022 г. наблюдается дисбаланс в институциональном доверии: правительству доверяют меньше, чем бизнесу, что фиксируется не впервые – такие тенденции были отмечены и ранее, например, в 2008 г. При этом наиболее высокие показатели доверия обнаружены в отношении работодателей (77 %). Также отмечено снижение экономического оптимизма во всех странах, за исключением Китая. Кроме того, зафиксирован рост оценок неравенства по доходам и нарастание социальной поляризации, что вызывает серьезные опасения экспертов4.
Анализируемые методики демонстрируют, что доверие, и межличностное, и институциональное, сильно коррелирует с экономическими показателями и политической обстановкой. Но в то же время, являясь измерительным инструментом, методики фиксируют тенденции, не позволяя сделать содержательные выводы о механизмах формирования доверия. Например, если говорить о таком важном с точки зрения экономики механизме, как репутация, то доверие может быть основано на разных и, порой, противоречивых источниках в зависимости от их приоритетности для агентов: «стабильность» – «гибкость», «традиционность» – «новаторство», «массовость» – «элитарность» и др. На наш взгляд, перспективной методологической и методической задачей становится анализ именно механизмов и ресурсов доверия. Принципиально новым явлением в этом отношении становится деятельностно-феноменологический подход. Методология в изучении доверия в этом случае может исходить из типизации экономических акторов и последующего анализа конструирования и интерпретации доверия и недоверия в определенных сферах и ситуациях. Так, типизация агентов в условиях инклюзивной экономики подразумевает изучение специфики социального конструирования различных форм социальной уязвимости и её интерпретаций с точки зрения акторов. Следующим шагом может стать анализ источников (ресурсов) и дефицитов доверия. Отличительной особенностью деятельностно-феноменологического подхода, таким образом, является возможность перейти на микросоциологический уровень и сместить исследовательский фокус на понимание и интерпретацию экономических феноменов (неравенств, вызовов, изменений, возможностей и др.) самими акторами. В качестве методических инструментов в рамках данного подхода предлагается опираться на качественные методы, в частности, на глубинное интервью. Такие исследования, с нашей точки зрения, должны фокусироваться на смыслообразовании доверия. Это может открывать прикладные перспективы для моделирования специальных программ в области инклюзии социально-уязвимых групп, поскольку позволит понять, как формируется доверие между экономическими акторами и какие ресурсы могут быть использованы в его воспроизводстве.
Выводы . Инклюзивная экономика – это новый тип формации, ориентированный на обеспечение гармоничного развития личности и социума в условиях снижения общественного неравенства и поляризации, направленный на активное вовлечение социально-уязвимых групп. Достижение этой цели требует «перезагрузки» сложившейся системы общественных отношений в пользу формирования «культуры доверия». Современный мир, сталкивающийся со множеством глобальных вызовов, в том числе с кризисом институционального доверия, нуждается в «оздоровлении» не только экономических, но и социальных механизмов. При этом исследование доверия как базового принципа инклюзивной экономики предполагает смещение фокуса от количественных методик в пользу качественных, позволяющих раскрыть специфику его смыслообразования различными акторами. Методологической основой данных методик может выступать деятельностно-феноменологический подход, рассматривающий воспроизводство доверия в контексте различных жизненных миров – типичных и нетипичных (социально-уязвимых) общественных групп.
Список литературы Доверие как базовый принцип инклюзивной экономики: анализ концептуальных и методических подходов
- Воеводина Е.В. Риски профессионального самоопределения студентов с инвалидностью в сфере высшего образования // Профессиональное образование и рынок труда. 2018. № 4. С. 20-27.
- Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. М., 2005. 528 с.
- Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. 641 с.
- Мамедов О.Ю. Экономика инклюзивной цивилизации // Terra Economicus. 2017. Т. 15, № 3. С. 6-18. https://doi.org/10.23683/2073-6606-2017-15-3-6-18.
- Наберушкина Э.К. Обзор социальных проблем инвалидности в контексте занятости, социальной политики и социальных дистанций // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15, № 2. С. 333-340. https://doi.org/10.17323/727-0634-2017-15-2-333-340.
- Смолева Е.О. Барьеры инклюзии на рынке труда в восприятии социально уязвимых категорий населения (на примере Северо-Западного федерального округа) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 4 (146). С. 351-368. https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.18.
- Davis-Pluess J., Meiers R. Business Leadership for an Inclusive Economy: A Framework for Collaboration and Impact. San Francisco, 2015. 40 р.
- Sanfirova O.V., Kopytova A.I., Loyko O.T., Sizov V.V. Reflective Analysis of the Subjects' Readiness Levels for Inclusive Economic Realities // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Krasnoyarsk, 2021. Р. 432-441. https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.09.02.48.