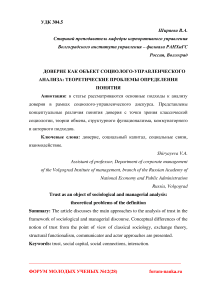Доверие как объект социолого-управленческого анализа: теоретические проблемы определения понятия
Автор: Ширяева В.А.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 12-4 (28), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные подходы к анализу доверия в рамках социолого-управленческого дискурса. Представлены концептуальные различия понятия доверия с точки зрения классической социологии, теории обмена, структурного функционализма, коммунаторного и акторного подходов.
Доверие, социальный капитал, социальные связи, взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/140281613
IDR: 140281613
Текст научной статьи Доверие как объект социолого-управленческого анализа: теоретические проблемы определения понятия
На протяжении последних трех десятилетий внимание представителей различных социологических школ и течений сфокусировано на исследовании феномена доверия в рамках социолого-управленческого дискурса как основы взаимодействия, формирования социальных отношений, связей и общностей. Так, первые представления о доверии были заложены еще представителями классической школы. М. Вебер основоположник понимающей социологии и теории социального действия в своих работах отмечает необходимость формирования доверия в контексте «формальной рациональности», преобладания целерационального типа ведения хозяйства. Описывая «нового» капиталистического предпринимателя, М. Вебер указывает на его важнейшую задачу, которая состоит в том, чтобы «обеспечить необходимое при введении новых методов доверие клиентов и рабочих»1, позволяющее повысить интенсивность и производительность труда. Безусловно, автором не представлено детальной характеристики понятия и условий возникновения данного феномена кроме наличия особых «этических качеств» предпринимателя, однако четко определена роль доверия как важнейшего фактора интеграции и возможности эффективного действия.
Рассматривая доверие как один из интегрирующих общественных механизмов, обладающий безграничным потенциалом социальной кооперации в условиях нарастания сложности, неопределенности и конфликтности общества, Г. Зиммель проводит более детальный анализ данного понятия. Исследуя условия перехода традиционного общества к современному типу, автор в своей работе «Философия денег» отмечает изменение сущности доверия как одну из характеристик этого процесса2. Так, им отмечено появление обезличенного (всеобщего) доверия при условии сокращения значимости и необходимости существования доверия личного
(конкретному лицу). Безличное доверие, по мнению исследователя, служит основанием социального обмена, суть которого сводится к обмену объектами, а не обмену между индивидуумами, т.е. объективации социальных отношений взаимодействия. Таким образом, обезличенное доверие не выступает признанием надежности отдельного субъекта, а является лишь гарантом взаимодействия между партнерами, при этом их личные характеристики утрачивают свою прежнюю значимость. Знание о «другом» как о личности, замещаются знаниями об объективных сторонах взаимодействия: основаниях обмена, компетентности сторон и т.д. Обмен, по Зиммелю, становится символом современного общества, он характеризует его как доминирующее социальное отношение, наиболее ярким примером которого выступает система кредитования.
Идея рассмотрения доверия как основания социального обмена нашла свое отражение в дальнейшей системной разработке концепции П. Блау. В работе «Обмен и власть в социальной жизни» автор отмечает, что процесс установления социальных связей строится согласно принципу рациональности: индивиды действуют и взаимодействуют исходя из определенного интереса, они стремятся получить наибольшую выгоду и минимизировать свои затраты. При этом сам процесс взаимодействия как социальный обмен обладает двумя характерными чертами: «неспецифические обязательства и доверие»3. Первая из них означает реципроктность, т.е. взаимность обмена. Согласно автору, это ожидание не столько равноценного вознаграждения или конкретного действия, сколько положительного намерения со стороны партнера. Вторая характеристика – доверие, заключает важное условие взаимодействия, определяется как мотивированное ожидание вознаграждения4. Таким образом, инвестирование в будущие взаимодействия предполагает выполнение сторонами обменных обязательств, что позволяет поддерживать определенный уровень доверия, за счет признания важности стабильности, взаимности действия на основе высокого уровня привлекательности и надежности.
Понимание доверия как ожидания также лежит в основе исследования общества представителем направления структурного функционализма Т. Парсонсом. Так, по мнению американского социолога, социетальная самодостаточность (сохранение обществом себя как системы) обеспечивается прежде всего стабильным характером отношений как между различными системами, так и особыми устойчивыми отношениями индивида и общества. «Общество может быть самодостаточным только в той мере, в какой оно может «полагаться» на то, что деяния его членов будут служить адекватным «вкладом» в его социетальное функционирование», — пишет Т. Парсонс в книге «Система современных обществ»5. Общество «полагается», другими словами, «ожидает» (полная уверенность отсутствует), что его члены будут добросовестно выполнять свои роли, следовать «нормативно определенным обязательствам», реализуя себя как члены этого общества. Таким образом, в концепции Т. Парсонса доверие является одним из условий, обеспечивающих общественную стабильность (понимаемую как соотношение ожиданий относительно поведения индивидов к их реальным действиям), системность и предсказуемость. Однако современные процессы глобализации, развитие социальных систем, их усложнение ведет к повышению уровня их рискогенности вследствие роста неопределенности, изменчивости, подвижности внешней среды.
Исследование проблематики доверия легло в основу работы Ф. Фукуямы «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию», в которой автором представлена не только социологическая концепция доверия, но и проведен детальный анализ его влияния на социально- экономические показатели различных государств. Так, ученым установлено, что успешность самореализации современных обществ определяется не только действием рыночных принципов или наличием культурных, традиционных особенностей, но зависит от «одного, распространившегося повсюду элемента – уровня доверия, существующего в обществе»6. Согласно данной логике, к наиболее прогрессивным государствам Ф. Фукуяма относит либеральные демократии всеобщего доверия: Германию, США и Японию, в то время как европейские страны, страны бывшего Советского Союза, обладающие более низким доверием, оцениваются исследователем как уступающие в своем социальном развитии.
Такая оценка дана по причине того, что доверие играет решающую роль в образовании и взаимодействии элементов, так называемого «среднего звена» гражданского общества, находящегося на стыке между отдельно взятыми индивидами, семьями (сферой индивидуального) и государством (сферой публичного), данные элементы представлены различными видами объединений: клубами, ассоциациями, добровольными организациями, средствами массовой информации, предприятиями и учреждениями. Базисом их образования не всегда выступает правовая или договорная форма регламентации отношений, зачастую наиболее действенные из них функционируют на основе приверженности членов общим ценностям, соблюдении морального кодекса, доверия.
Так, доверие обуславливает развитие социальных отношений, кооперацию индивидов в достижении общих целей и, следовательно, в том числе экономический рост. Ф. Фукуяма не дает принципиально нового понимания категории, однако расставляет иные акценты и значения в его интерпретации. Доверие, по мнению ученого, — «это возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами»7. При этом сами нормы могут иметь разную природу: некоторые из них относятся к сфере фундаментальных, общечеловеческих ценностей (например, к пониманию Бога или справедливости), другие имеют более конкретную, регламентированную специфику (например, профессиональные стандарты и корпоративные кодексы поведения). Нормативность доверительного взаимодействия пронизывает все его уровни: как межличностный, так и институциональный. Например, проходя курс лечения, мы доверяем врачу, ожидая, что он добросовестно выполнит свои профессиональные обязательства, установленные правилами общей системы здравоохранения, а также этическими нормами клятвы Гиппократа. При этом, очевидно, что поведение и действия доктора подчинены институциональной среде, ценностям общности медицинских работников, которую он представляет.
Таким образом, согласно автору, доверие выступает как одно из условий формирования социальных взаимодействий и объединений, наличествования в них норм и порядка. Распространение этих норм характеризуется величиной особого параметра – радиуса доверия, определяющего круг лиц, социальных групп и общностей, составляющих систему доверительных отношений. Данный параметр указывает на то, что нормы сотрудничества распространяются на группы различного объема, а не на общество, в целом.
На наш взгляд, возможность понимания «радиуса доверия» лежит в основе классификации социальных групп американского социолога Ч. Кули, выделившего первичные и вторичные группы как элементы круга взаимодействия индивида. Так, к первичным социальным группам относятся общности, образующиеся на основе эмоциональной близости и сплоченности, ими являются, например, семья или друзья. Данные группы имеют добровольный характер связей, типичные формы поведения, единые ценности и нормы взаимодействия, что обуславливает, с одной стороны, высокий уровень доверия их членов, а с другой, малый радиус его проявления, ограниченный ближайшим кругом контактов и связей. Вторичные социальные группы определяются как прагматические общности, ориентированные на достижение единой для участников цели. Главные принцип, лежащий в основе взаимодействия их членов, это принцип функциональности преимущественно обезличенных отношений. Примерами таких групп выступают клубы по интересам, партии, членство индивидов в которых является свидетельством проявления большего радиуса доверия.
Таким образом, понимание параметра радиуса доверия демонстрирует влияние исследуемой категории на включенность индивида в социальные взаимодействия на основе членства в первичных и вторичных группах, а также подводит к принципиально иному подходу к его трактовке, рассматривающей доверие как социальный капитал.
Наиболее системная разработка проблемы доверия и определения его сущностных сторон представлена в работах польского социолога П. Штомпки, автора акторной теории, согласно которой, данная категория рассматривается в контексте совершения индивидом действия. Действенный аспект доверия определяет его направленность в будущее - темпоральность как способ предопределения дальнейших событий и взаимодействия. Оно во многом активизирует участников социальных отношений в ситуации неопределенности, когда контроль не может быть осуществлен в полной мере. Стоит отметить, что неконтролируемость действий «другого» априорна, так как, во-первых, она исходит от самих партнеров, обладающих изначальной «инаковостью», полное знание друг о друге отсутствует (и не может быть достигнуто), во-вторых, в некотором роде предзадана контекстом относительной свободы человеческих действий.
Таким образом, отметим, что любое взаимодействие обладает разной степенью непредсказуемости. В рамках своей теории П. Штомпка выявляет три типа бинарных ориентаций в будущее: надежда и разочарование, вера и сомнение, а также доверие и недоверие. Две первые ориентации, хотя и подразумевают разную степень «уверенности» в зависимости от внешних обстоятельств, схожи в характере протекания процесса взаимодействия, выражающемся в преимущественной дистанцированности, созерцательности и пассивности. Доверие, напротив, активно, оно определяет совершение действия, не взирая на риск. Так, П. Штомпка определяет новое звучание категории: «доверие есть ставка в отношении будущих непредвиденных действий других»8. Согласно данному заключению, можно выделить два структурных элемента доверия: это ожидание (определенного поведения, совершения действий, соблюдения взятых обязательств, договоренностей) и ставка, реализующая ожидания в конкретных действиях. Например, доверяя политику, мы ожидаем исполнения им своих намерений, программы, заявлений и, идя на выборы, голосуем «за», совершая ставку.
При этом важно пояснить интерпретацию категории недоверие (distrust), проявляющуюся не как низкий уровень доверия или полное его отсутствие, а феномен противоположный доверию. Недоверие также заключает в себе ожидания и ставку, но уже негативного характера, как невыгодную для индивида. В свою очередь, термином безверие (mistrust) следует обозначать ситуации нейтральных социальных отношений, когда не сформировано ожиданий ни позитивных, ни негативных – характерных для переходного этапа процесса формирования доверия или недоверия, совершения выбора. Таким образом, выделение структурных компонентов исследуемой категории (ожидания и ставки) позволяет прояснить понимание бинарных оппозиций.
Другим немало важным этапом в процессе исследования проблематики доверия является осмысление ситуаций его проявления. П. Штомпкой выделяется три типа данной категории в зависимости от побуждающего начала ее формирования: ожидаемое (anticipatory), ответственное (responsive) и напоминающее (evocative) доверие. Первый тип – ожидаемое доверие проявляет себя в случае, когда существует опыт взаимодействия и индивиду хорошо знакомо поведение партнера в той или иной ситуации, когда он может предполагать определенные действия в зависимости от сложившейся ситуации и занимаемых ролей, потому что они являются социальной нормой – «так обычно поступают». Второй тип возникает в случае повышенной ответственности и контроля отношений, когда предметом взаимодействия являются особенно ценные объекты. В то время, как тип напоминающего доверия проявляется в ситуации намеренности его оказания с целью формирования доверия в ответ. Граница между выделенными типами является условной и не исключает возможности сочетания их в одном акте взаимодействия. Однако, следует отметить, ряд обстоятельств, определяющих основания доверия: степень риска, наличие гарантий и санкций в случае нарушения обязательств, значимость последствий, временная продолжительность отношений (ситуативный или постоянный характер) и другие.
В целом, выступая специфичным феноменом, доверие состоит в определенном отношении индивида к различным объектам или фрагментам мира, возникающим вследствие актуальной значимости или необходимости. Ситуация доверия может быть описана в контексте соблюдения трех основных черт. Так, доверие — это:
-
• ожидание индивида добросовестного и договорного поведения других;
-
• обязательство индивида не нарушать ожидания других в отношении собственных действий;
-
• ограничение собственных интересов в пользу тех, кому вы доверяете, то есть солидарность.
Таким образом, доверие определяется двусторонним характером своего формирования и зависит не только от объекта, но и субъекта его оказывающего – доверие подразумевает расчет на действия партнера, тем самым ограничивает и ставит в рамки собственные действия индивида. В свою очередь, множесвенность подходов к определению доверия позволяет выявить его многоаспектность проявления, что, в итоге, образует палитру свойств и содержательных характеристик доверия в рамках социологоуправленческого дискурса.
Список литературы Доверие как объект социолого-управленческого анализа: теоретические проблемы определения понятия
- Штомпка П. Доверие - основа общества / П. Штомпка. - М.: Логос, 2012. - 440 с.
- Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / Ф. Фукуяма. - М.: ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. - 730 с.
- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 61-65, 67-69, 71-82, 84-91, 93-97, 184-191, 197-208.
- Зиммель Г. Философия денег / Теория общества. Сборник / Пер. с англ., вступ. статья, сост. и общая ред. А.Ф. Филиппова. - М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 1999. - 416 с.
- Blau P. M. Exchange and power in social life. New-York: Wiley, 1964. - С. 91
- Парсонс Т. Система современных обществ /Перевод, с англ. - М.: Аспект Пресс, 1998.