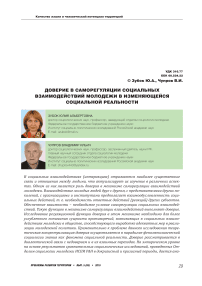Доверие в саморегуляции социальных взаимодействий молодежи в изменяющейся социальной реальности
Автор: Зубок Юлия Альбертовна, Чупров Владимир Ильич
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий
Статья в выпуске: 5 (85), 2016 года.
Бесплатный доступ
В социальных взаимодействиях (интеракциях) отражаются наиболее существенные связи и отношения между людьми, что актуализирует их изучение в различных аспектах. Одним из них является роль доверия в механизме саморегуляции взаимодействий молодежи. Взаимодействие молодых людей друг с другом, с представителями других поколений, с организациями и институтами предполагает взаимообусловленность социальных действий, т. е. необходимость ответных действий (реакций) других субъектов. Обеспечение взаимности - необходимое условие саморегуляции социальных взаимодействий. Такую функцию в механизме саморегуляции взаимодействий выполняет доверие. Исследование регуляционной функции доверия в этом механизме необходимо для более углубленного понимания сущности противоречий, возникающих в социальных взаимодействиях молодежи в обществе, способствующего выработке адекватных мер в реализации молодежной политики. Применительно к проблеме данного исследования теоретическая концептуализация доверия осуществляется в парадигме феноменологической социологии знания как феномена социальной реальности. Доверие рассматривается в диалектической связи с недоверием и в их взаимных переходах. На эмпирическом уровне на основе результатов сравнительных социологических исследований, проведенных Отделом социологии молодежи ИСПИ РАН в докризисный и кризисный периоды, дается анализ регулятивной роли доверия в отношении молодежи к политическим и общественным институтам, в межличностных отношениях, в изменении ее социального самочувствия. Показана связь доверия и недоверия с традиционными и современными установками в молодежной среде.
Доверие, социальная реальность, кризис, молодежь
Короткий адрес: https://sciup.org/147111406
IDR: 147111406 | УДК: 316.77
Текст научной статьи Доверие в саморегуляции социальных взаимодействий молодежи в изменяющейся социальной реальности
В социальных взаимодействиях (интеракциях) отражаются наиболее существенные связи и отношения между людьми, что актуализирует их изучение в различных аспектах. Одним из них является роль доверия в механизме саморегуляции взаимодействий молодежи. Взаимодействие молодых людей друг с другом, с представителями других поколений, с организациями и институтами предполагает взаимообусловленность социальных действий, т. е. необходимость ответных действий (реакций) других субъектов. Обеспечение взаимности - необходимое условие саморегуляции социальных взаимодействий. Такую функцию в механизме саморегуляции взаимодействий выполняет доверие. Исследование регуляционной функции доверия в этом механизме необходимо для более углубленного понимания сущности противоречий, возникающих в социальных взаимодействиях молодежи в обществе, способствующего выработке адекватных мер в реализации молодежной политики. Применительно к проблеме данного исследования теоретическая концептуализация доверия осуществляется в парадигме феноменологической социологии знания как феномена социальной реальности. Доверие рассматривается в диалектической связи с недоверием и в их взаимных переходах. На эмпирическом уровне на основе результатов сравнительных социологических исследований, проведенных Отделом социологии молодежи ИСПИ РАН в докризисный и кризисный периоды, дается ана- лиз регулятивной роли доверия в отношении молодежи к политическим и общественным институтам, в межличностных отношениях, в изменении ее социального самочувствия. Показана связь доверия и недоверия с традиционными и современными установками в молодежной среде.
Доверие, социальная реальность, кризис, молодежь.
Доверие присутствует во всех сферах общественной жизни, наполняя общим смыслом взаимодействия людей. В повседневной жизни нашим доверием пользуются, как правило, те, о ком мы располагаем некими знаниями. Чем шире знания о партнере взаимодействий, тем более обоснованными становятся ожидания от него взаимности. Причем ожидание взаимности от партнера приобретает реальность, если интерактивные отношения осуществляются в соответствии с общими правилами. Рефлектируясь в ожиданиях (экспектациях), чувство взаимности приобретает форму доверия, если реальные знания о партнере и его деятельности – личностях, группах, организациях, институтах – совпадают с ожидаемыми. Доверие, таким образом, рассматривается как фактор саморегуляции взаимодействий, отражающий степень соответствия ожидаемых и реальных знаний о партнере как значимом объекте социальной реальности.
Осмысливая взаимные ожидания и требования, предъявляемые друг другу в процессе взаимодействий, молодые люди идентифицируют себя с другими, в результате чего доверие приобретает обобщенную форму. Иначе говоря, обобщенное доверие становится для молодого человека необходимым атрибутом социальной реальности.
Согласно Ф. Теннису и Г. Зиммелю, обобщенное доверие является своего рода мировоззренческой установкой, выражающей готовность индивида рассматривать окружающих как вполне безопасных, не угрожающих позиции или интересам данного индивида и потому заслуживающих доверия. Оно основано на ожиданиях относительно надежности других индивидов вообще, т. е. как одной из характеристик людей. Уверенность индивида, что его знания о реальном объекте адекватно разделяются ближайшим окружением, находят отклик и поддержку, придает доверию устойчивый характер. А сама реальность воспринимается как объективная, в которой обобщенное доверие выполняет нормативную функцию.
Наши представления о формировании обобщенного доверия раскрываются в определении интерсубъективности. «С самого начала, – пишет А. Шюц, – мы, действующие лица на социальной сцене, воспринимаем мир, в котором мы живем, – и мир природы, и мир культуры – не как субъективный, а как интерсубъективный мир, т. е. как мир, общий для всех нас…» [3, с. 530]. Без доверия мир не может стать общим для всех. Оно результируется в повседневной жизни в процессе интеркоммуникации, когда критерии доверия отчуждаются от конкретного объекта, приобретая всеобщий и нормативный характер. Тогда в том или ином сообществе формируется особый тип доверительных отношений, при котором вопрос о доверии отдельным партнерам просто не стоит. Обобщенное доверие осознается как реальность.
Однако получаемые в процессе обмена знаниями и опытом представления о различных объектах социальной реальности могут не совпадать с ожидаемыми. Обобщенное доверие в этой ситуации переходит в состояние недоверия, утрачивая свою нормативную роль. Следовательно, доверие как феномен социальной реаль- ности рассматривается в диалектической связи с недоверием как единство двух сторон одного и того же явления. Диалектика связи доверия и недоверия раскрывается во взаимных переходах одного состояния в другое, как реакция на изменение ожиданий от партнера взаимодействий. При этом недоверие означает не просто недостаток доверия, а является качественно иным состоянием партнеров, связанным с несоответствием ожидаемых и реальных знаний друг о друге, придающем взаимодействиям особый характер.
И доверие, и недоверие выполняют важные функции в саморегуляции социальных взаимодействий в молодежной среде. Главная из них – преодоление неопределенности, возникающей в изменяющейся социальной реальности. Доверие, по определению П. Штомпки, «является залогом, принимаемым на будущие неуверенные действия других людей» [2, с. 80]. То есть доверие определяется как некий «залог» на неопределенность, компенсирующий недостаток знания о партнере взаимодействий. Что касается недоверия, то оно также повышает уровень определенности, способствуя более адекватному – в данном случае более осторожному – реагированию на возникающие отклонения в социальных взаимодействиях. При этом взаимодействие может и не прекратиться, но возрастет подозрительность и взаимный контроль как регулятор ненадежности партнера.
Социальный мир выступает перед человеком в качестве постоянно меняющегося сочетания различных сфер реальности, которые могут быть не связаны друг с другом. «Различные объекты, – пишут П. Бергер и Т. Лукман, – представляются сознанию как отдельные составляющие различных сфер реальности… Иными словами, я осознаю мир как состоящий из множества реальностей» [4, с. 21]. То есть мир дискретен и изменчив. Соответствен- но, и общество не может существовать в неизменном виде. Социальные группы, общности, организации, институты пребывают в постоянном изменении, поэтому его можно назвать имманентным свойством социальной реальности.
Наиболее быстро изменяющейся группой в силу возрастных и социальных особенностей является молодежь. Внутри этой группы непрерывно протекают процессы изменения социального положения и группового сознания под влиянием как внутренних (эндогенных), так и внешних (экзогенных) факторов. Становясь субъектами и объектами этих изменений, молодые люди постоянно переконструируют собственную реальность. Взаимодействуя друг с другом в изменяющихся структурах общества и получая все новые знания об их реальном состоянии, они корректируют сложившиеся образы объектов социальной реальности, претерпевающих изменение, и свое отношение к ним.
Говоря об изменении социальной реальности в социологическом смысле, упор делается на понятии «социальное». Подразумеваются не любые изменения, происходящие в обществе и в молодежной среде, а социальные причины и последствия этих изменений, нашедшие отражение в обыденном сознании молодых людей в процессе их социальных взаимодействий. Причем, как отмечает П. Бурдье, наиболее фундаментальные социальные изменения происходят не тогда, когда утверждаются новые структуры, а когда изменяется габитус (поведенческая предрасположенность) к определенной деятельности.
В формировании поведенческой предрасположенности важную роль играет отношение молодых людей к различным объектам социальной реальности – к другим людям, семье, образованию, труду, власти. С социологической точки зрения, под отношением будем понимать
«систему сложившихся индивидуальных, групповых представлений, понятий, суждений о социальном объекте, явлении, возникающих вследствие эмоционально-чувственного отражения в индивидуальном или групповом сознании социальной реальности в форме интериоризированного опыта взаимодействий с другими людьми, познания ее природы и сущности, выраженных в социальной позиции индивида, группы» [1, с. 67]. Социальная позиция молодого человека проявляется, прежде всего, по его отношению к базовым характеристикам объектов. В этом смысле отношение вытекает из понимания сущности объектов реальности, их социальных функций, совокупности внутренних и внешних связей, которые результируются в ценностной форме. Перечисленные основания составляют базовый аспект отношения.
В обыденной жизни отношение молодежи к объектам социальной реальности проявляется в образной форме, поэтому на эмпирическом уровне исследуется не столько отношение к собственной семье, к своему образованию, к условиям и содержанию труда, к конкретной власти, сколько образ этих объектов реальности, сложившийся в представлении молодых людей. Образное познание реальности предполагает особую форму отношения к ее объектам. «Образ – это рациональное и эмоциональное впечатление о предметах, персонажах, событиях и явлениях материального и духовного мира на основе обозначаемого устойчивого смысла (идеи). Образ вне смысла рассыпается»1. Наполняя образы новыми смыслами в изменяющейся реальности, молодые люди конструируют свое отношение к ее объектам. С позиций символического интеракционизма они действуют на основе значений (смыслов), которые придают этим объектам (Дж. Мид).
В наиболее выраженной форме изменения социальной реальности проявляются в условиях кризиса. В этих условиях неизбежно изменяется и отношение к ее объектам. Оценивая связь доверия молодежи с изменением характеристик образа анализируемых объектов, мы прослеживаем реализацию его саморегуляционной функции в изменяющейся социальной реальности. В смысловом содержании этих характеристик выделяются традиционное и современное основания ее изменения. В традиционном основании отражается опыт предшествующих поколений, закрепленный в архетипических и ментальных структурах. Доминирующими являются представления, связанные с обычаем, общепринятым порядком, укоренившимся в обыденной жизни. Причем этот укоренившийся порядок далеко не всегда и даже чаще всего не осознается самими людьми, являясь по существу частью коллективного бессознательного. А в современном основании – превалируют ясность и однозначность осознания действующим субъектом своей цели, соотнесенной с рационально осмысленными средствами (М. Вебер). Формирование современных оснований – результат эволюции социокультурных образцов, отражающихся в социально-экономических, социально-политических и всех других видах взаимодействий.
Опираясь на результаты сравнительных исследований, проведенных в относительно благополучном 2011 году и в кризисном 2014 году,2 проанализируем, как изменился уровень доверия политическим и общественным институтам в молодежной среде (табл. 1).
Таблица 1. Изменение уровня доверия политическим и общественным институтам в молодежной среде, 2011 – 2014 гг.
|
Институт |
Доверие/недоверие, % |
||||||
|
Доверяю |
Икр** |
Не доверяю |
Затрудняюсь ответить |
||||
|
2011 |
2014 |
2011 |
2014 |
2011 |
2014 |
||
|
Президент РФ* |
56,1 |
75,2 |
0,45 |
25,7 |
7,9 |
18,2 |
16,9 |
|
Правительство РФ |
31,9 |
45,5 |
0,33 |
39,2 |
17,3 |
28,9 |
37,2 |
|
Госдума |
21,1 |
41,4 |
0,59 |
48,9 |
21,6 |
30,0 |
37,0 |
|
Администрация региона |
30,6 |
44,8 |
0,35 |
39,5 |
20,1 |
29,9 |
35,1 |
|
Суд |
31,2 |
37,1 |
0,13 |
39,6 |
22,6 |
29,2 |
40,3 |
|
Политические партии |
15,2 |
22,7 |
0,19 |
54,3 |
36,1 |
30,5 |
41,2 |
|
Церковь |
51,0 |
49,7 |
17,2 |
16,8 |
31,8 |
33,5 |
|
* Президент РФ в 2011 году – Д.А. Медведев, в 2014 году – В.В. Путин.
**Икр – индекс кризисных изменений.
Как следует из анализа данных таблицы 1, в кризисном 2014 году произошло заметное повышение уровня доверия всем политическим институтам, кроме церкви, достаточно высокое доверие к которой осталось на докризисном уровне. Для оценки степени изменения уровня доверия используем индекс кризисных изменений (Икр)3. По степени повышения уровня доверия институты расположились следующим образом: Госдума (Икр = 0,59), Институт Президента РФ (0,45), администрация региона по месту проживания респондента (0,35), Правительство РФ (0,33), политические партии (0,19), суды (0,13). Следовательно, в условиях кризиса молодежь склонна больше доверять политическим институтам. Причем первые три места по степени доверия занимают институты законодательной и исполнительной власти. Это означает, что среди молодежи в изменяющейся социальной реальности возрастает доверие к власти всех уровней.
Однако доверие отдельным институтам, даже в их суммарном выражении, не является мерой обобщенного доверия. В качестве эмпирических индикаторов доверия и недоверия использовались согласие и несогласие с суждением «Сегодня ни в ком нельзя быть уверенным, никому нельзя доверять». Согласие с этим суждением может рассматриваться как обобщенная форма недоверия, несогласие – как обобщенное доверие. В кризисном 2014 году несогласие с данным суждением выразили, что свидетельствует об установке на доверие окружающим, 38% молодежи, каждый второй (53,6%) согласился с анализируемым суждением, продемонстрировав обобщенное недоверие окружающим. То есть доверие, как мировоззренческая установка, является основанием в конструировании собственной реальности только лишь среди третьей части российской молодежи.
Рассмотрим, как реализуется социоре-гуляционная функция доверия в межличностных взаимодействиях молодежи в условиях кризиса. Для этого проанализируем связь обобщенного доверия и недоверия с отношениями в ближайшем окружении молодежи. Состояние ближайшего окружения оценивалось по семибалльной шкале (от семи до единицы) между альтернативами: в семье (собственной или родительской) – любовь/неприязнь; с соседями – дружба/вражда; в трудовом
(учебном) коллективе – солидарность/ отчуждение; характер собственной жизненной позиции – активная/пассивная (табл. 2).
Как видно из таблицы 2, значения средневзвешенных коэффициентов связи с отношениями в ближайшем окружении среди респондентов, доверяющих окружающим, заметно выше, чем среди недоверяющих. Это указывает на наличие устойчивой связи доверия с позитивной оценкой состояния межличностных отношений. То есть среди респондентов, доверяющих окружающим, выше оценки любви в семье (К = 6,40 против 6,20 среди недоверяющих), дружбы с соседями (К = 5,62 против 5,58), солидарности в коллективе (К = 5,84 против 5,68), активной собственной жизненной позиции (К = 5,50 против 5,47). Следовательно, доверие сохраняет свою регуляционную функцию в изменяющейся социальной реальности в условиях кризиса.
Проанализируем, как изменяются ценность общения и требования, предъявляемые к партнерам межличностных взаимодействий, под влиянием обобщенного доверия и недоверия (табл. 3).
Как следует из таблицы 3, требования к моральным и деловым качествам партнеров не изменились в кризисном 2014 году. Традиционно являясь базовыми характеристиками межличностных взаимодействий, они остаются неизменно высокими среди сторонников как обобщенного доверия, так и обобщенного недоверия. Однако это можно объяснить и проявлением моральной амбивалентности, связанной, по З. Бауману, с «размыванием» нормативности в сфере морали, характерной для постмодернистского сознания.
Также отмечается более высокое значение ценности общения как внутренней потребности, относящейся к традиционным характеристикам образа Другого, среди молодежи, доверяющей окружающим, – 30,4%, по сравнению с 22,5% среди не доверяющих окружающим. Вместе с тем требования к таким традиционным характеристикам, как национальноэтнические и религиозные особенности партнеров, среди доверяющих окружающим снижаются, по сравнению с не доверяющими (соответственно 20,8% против 35,7% и 20,8% против 36,3%). Впрочем,
Таблица 2. Связь обобщенного доверия/недоверия с отношениями в ближайшем окружении, 2014 год
|
Обобщенное доверие/недоверие |
Уровень связи с отношениями, (К)* |
|||
|
в семье |
с соседями |
в коллективе |
с жизненной позицией |
|
|
Доверие |
6,40 |
5,62 |
5,84 |
5,50 |
|
Недоверие |
6,20 |
5,58 |
5,68 |
5,47 |
*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале оценок.
Таблица 3. Связь обобщенного доверия и недоверия с традиционными и современными характеристиками партнеров межличностных взаимодействий, 2014 год
Наоборот, среди не доверяющих окружающим заметно возрастают значения оценок современных характеристик образа Другого – требований, предъявляемых к деловым качествам партнеров (59,9% против 56% среди доверяющих окружающим); к их достиженческим характеристикам, т. е. к успешности (57,1% против 48%); к их общественному положению (50,5% против 44%); к партийности (31,3% против 13,6%). Отсюда следует, что в изменяющейся социальной реальности в условиях кризиса в молодежной среде обобщенное доверие способствует повышению терминальной ценности общения и смягчению национально-этнической и религиозной напряженности, а обобщенное недоверие – рационализации межличностных отношений.
Проанализируем связь доверия и недоверия с социальным самочувствием молодежи. Для его оценки использовались ответы на вопрос «В какой степени отражают ваше состояние за прошедший год нижеперечисленные чувства?». Самочувствие оценивалось по семибалльной шкале, где 7 – «в очень большой степени, 1 – «не отражает». Оценки распределились следующим образом (табл. 4).
В таблице 4 четко прослеживается связь обобщенного доверия с оценками молодежью собственного самочувствия в кризисном 2014 году. В наибольшей степени в самочувствии молодежи выделяются надежда и чувство уверенности, безопасности. Причем среди респондентов, доверяющих окружающим, значения оценок выше, чем среди не доверяющих (К, соответственно, 5,53 и 4,92 среди доверяющих и 5,03 и 4,54 среди не доверяющих). В процентном выражении максимально (суммарные значения от 7 до 5 баллов) оценили свое самочувствие как надежду 80,6% среди доверяющих респондентов, как чувство уверенности, безопасности – 62,4%, а среди не доверяющих – соответственно 67,1 и 50,5%. Значения оценок остальных характеристик самочувствия среди респондентов, доверяющих окружающим, заметно ниже, чем среди не доверяющих: чувства тревоги – К = 2,76 против 3,82; страха, отчаяния – 2,13 против 3,32; возмущения, гнева –2,58 против 3,55; растерянности – 2,30 против 3,33. Это свидетельствует об уникальном свойстве доверия – позитивно влиять на социальные настроения людей.
Таким образом, в результате проделанного анализа рассмотренная концепция доверия в механизме саморегуляции межличностных взаимодействий в молодежной среде получила эмпирическое подтверждение. Перспективным направлением дальнейших исследований станет изучение особенностей доверия в само-
Таблица 4. Связь обобщенного доверия и недоверия с оценками социального самочувствия молодежи, 2014 год
|
Обобщенное доверие/недоверие |
Уровень связи с оценками самочувствия (К)* |
||||||
|
5 £ си ci X |
х та 0J С о. о со си >. *О |
си S CU Ю |
О со си |
CU х к: о. ? 6 о |
CU X CU S’ Is со со £ |
н О X сс |
|
|
Доверие |
5,53 |
4,92 |
2,77 |
2,76 |
2,13 |
2,58 |
2,30 |
|
Недоверие |
5,03 |
4,54 |
3,19 |
3,82 |
3,32 |
3,55 |
3,33 |
*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале оценок.
регуляции взаимодействий молодежи в других сферах – семьи, образования, труда, в политической жизни. Это позволит сформулировать целостный подход к повышению доверия молодежи во всех сферах ее жизнедеятельности.
Список литературы Доверие в саморегуляции социальных взаимодействий молодежи в изменяющейся социальной реальности
- Чупров, В. И. Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм формирования и воспроизводства /В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, Н. А. Романович. -М.: Норма, 2014.
- Штомпка, П. Доверие -основа общества /П. Штомпка. -М.: Логос, 2012.
- Шюц, А. Формирование понятий и теории в общественных науках /А. Шюц//Американская социологическая мысль. -М., 1994.
- Berger, P. The Social Construction of Reality /P. Berger, T. Lucman. -N.Y., 1967.
- Аверинцев С. София-Логос: словарь, 2006. -С. 386-387